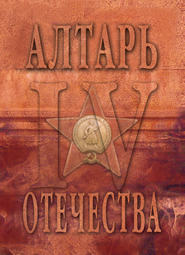 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Алтарь Отечества. Альманах. Том 4
Мы шли на восток к Хемницу (Карл-Маркс-Штадт), там намеревались перейти в Чехословакию к партизанам. Шли ночью, днём отдыхали, питались овощами с полей, картофель варили в котелках. Потом осмелели, за что и поплатились. Шли вдоль реки к какому-то селу, нам дорогу перешла женщина. В конце села мы заметили погоню, бегом свернули вправо, и не добежав до леса, залегли в пахоте. Погоня нас не заметила, устремилась к лесу. С наступлением сумерек фашисты просвечивали кусты фонарями. После затишья мы поднялись, среди нас не оказалось Фриза, его нагнали в начале пахоты. Отдохнули и осторожно пошли дальше.
В лесах Тюрингии встречали оленей, бурого медведя. Прошли Эрфурт, Веймар, шли медленно, осторожно. Наступил ноябрь, пошёл снег, в горах стало холодно. Однажды в лесу увидели стог сена, залегли в него и заснули. Рано утром проснулись от крика «поус, поус!» – выходи. Наш стог был окружён полицейскими, нас выдали следы на снегу. Мы не были вооружены, нам оставалось одно – сдаться в плен. При обыске они обнаружили пластинки на наших шеях с номером лагеря 1ХА. Нас забрали и отправили снова в этот лагерь. Там нас допрашивали с пристрастием, бросили в камеры. В моей камере было уже трое, я четвёртый. Она была настолько мала, что не помещала всех. Трое сидели на топчане, четвёртый стоял.
Познакомился в камере с узником. Это был младший лейтенант Иван Сухов по национальности мордвин. Он тоже был пойман во время побега. Каждый день нас вызывали на допросы, избивали. Потом нас перевезли в лагерь Бухенвальд. Нас сковали наручниками по двое. Я оказался с Суховым. Нам казалось, что нас везли на расстрел. (Иван Сухов позднее был казнён немецкими фашистами в Северной Франции).
С Веймарского вокзала нас везли в гору «чёрным вороном». Выгрузили у ворот с надписью по-немецки «Каждому своё». У ворот нас повернули лицом к стене, велели скрестить руки на затылке. В таком виде стояли долго. С вышки кричали нам не шевелиться, откроют огонь. К нам подошёл гражданский немец и объяснил через переводчика, что нас привезли в Бухенвальд. Отсюда уходят только мёртвые. Мы начали протестовать, но немец ответил, что он такой же заключённый, коммунист, находится здесь с 1939 года. Это был Хейц Шеффер, руководитель Кассельской партийной организации. Он повёл нас на санобработку. Нас раздели, велели сложить все документы в мешочек. В следующей комнате два дюжих немца бросили нас в бассейн с холодной водой, пахнущей дезинфекцией, потом мылись под душем. В коридоре выдали полосатые куртки, приказали нашить номера и красные треугольники с латинской буквой «R», что означало «русский». Потом завели в карантинный барак № 16. Утром была на аппель-плац поверка с перерасчётом. Эта унизительная процедура длилась часами в мороз. Мы стояли на снегу с непокрытыми головами в ветхой одежёнке.
День и ночь работал крематорий. Из его трубы шёл коричневый дым, отравляя всё окружающее. Провинившихся вызывали к браме. Там стоял специальный станок, заключённого клали на этот станок и били резиновыми палками или хлыстами из бычьих жил. Но это был лучший исход, чем попасть в «ревир», госпиталь, где над пленными проводили разные изуверские опыты по прививке разных болезней. Обычно оттуда живыми не уходили.
В январе меня направили в филиал Бухенвальда в г. Кёльн. Там мы расчищали город от бомбёжки союзниками. Это был 1943 год. Вокруг сосновых веток в развалинах откапывали трупы. Съестное, если находили, поедали, а ценности из золота бросали в вагонетки. Здесь я впервые почувствовал сочуствие городского населения. Бывало, что нас охраняли не эсесовцы, а солдаты «люфтваффе» /ПВО/. Проходящие мимо женщины оставляли нам хлебные карточки, солдаты заводили нас после работы в хлебные магазины и там выкупали для нас хлеб. Потом у нас появились свои деньги, которые мы находили в разбитых квартирах. Интересно то, что союзники бомбили выборочно, рабочие кварталы, разбомбили автомобильные заводы «Гумбальт», «Клёкнер», «Дейтц». Рядом стоял завод Форда, его не тронули. Одна неразорвавшаяся бомба попала в Кёльнский собор. Немцы в газетах завопили, что союзники занимаются уничтожением исторических культурных ценностей. Они забыли тогда о зверствах фашистов на нашей оккупированной территории, где уничтожались исторические и архитектурные памятники. Им пришло возмездие, мы переживали в Кёльне двоякие чувства. С одной стороны союзники уменьшали немецкий военный потенциал, приближая час победы, с другой стороны – гибли невинные люди, разрушения вызывали жалость. Такова природа русского характера.
При подходе к разбитому мясокомбинату на откосах туннеля видели несколько дней надпись крупными немецкими буквами «РОТ ФРОНТ!»
В лагере я подружился с немецким моряком торгового флота Рихардом. Вся команда их торгового транспорта готовилась к побегу в Англию. Их кто-то предал, и они были отправлены в концлагеря. Работавшая команда по расчистке мясокомбината помогала им с питанием. Среди них был Андрей Оленич.
В начале апреля из Кёльна увезли большую группу заключённых во Францию, а 19 апреля и я попал туда со второй группой. Французов и владеющих французским языком туда не брали.
Везли через Голландию, Бельгию. Привезли в местечко Эден в департаменте Па-де-кале и разместили в наполеоновских кавалерийских казармах. На пути встречались большие немецкие кладбища времён первой мировой войны с чёрными мраморными крестами. Здесь же были заключённые, увезённые из Кёльна раньше.
Слева длинные кавалерийские двухэтажные казармы, в которых расположили нас на вторых этажах. Стены забора трёхметровые с колючей проволокой по всему верху. Справа – плац. В глубине двора – гараж. К казармам примыкают дома французов. Их чердачные двери на уровне окон второго этажа казарм. Это было удобно для связи с внешним миром, которую наладил польский узник Томаш Кириллов через французских девушек по заданию подполья. Томаш с семьёй жил в этом департаменте до 1939 года, учился во французской школе, отец работал в шахте. Здесь узники работали по извлечению неразорвавших-ся бомб на строительстве площадок по запуску ФАУ-1, строили доты, ставили острые столбы в удобных местах высадки воздушного десанта.
Среди заключённых были специалисты, которые подсказывали, как сделать брак в каждом деле. При строительстве дотов югослав Гуина Мот рекомендовал при заполнении металлических балок бетоном в середину сыпать землю, а по краям бетон. Это в момент, когда отвлекут охранника. Всем французам объявили, что мы уголовники со всей Европы, но они узнали, кто мы и старались помочь нам в питании. Здесь я снова встретился с моряком Рихардом. Он взял меня к себе в бригаду по ремонту автомобилей. Там работал польский автоинженер Юзеф, наш механик танкист старший лейтенант Я.Лебедев и другие поляки автоспециалисты. Каждому давали кусочек сахара и шило, чтобы в нужный момент бросить сахар в бак с горючим или проколоть иголкой бабину (катушку высокого напряжения).
Однажды в середине мая меня ночью вызвал к себе старший лагеря Хейц Шеффер, долго со мной беседовал и предложил работать в подпольной интернациональной военно-политической организации старшим адъютантом командира батальона. Я согласился. Шеффер познакомил меня с командиром батальона Василием Шустером, работавшим сапожником. Его задачей было завоевать авторитет среди молодых поляков и югославов, проживающих в одной казарме, и на случай восстания в лагере – командовать личным составом батальона. Он снабжал сведениями на фронтах, сообщал о партизанском движении во Франции, Греции, Югославии. После работы он всегда был с югославами и поляками, сообщал им сведения.
Установить связь с французским Сопротивлением было поручено Томашу Кириллову. Я его страховал. Установив связь с партизанами, Томаш ушёл к ним и по указанию руководителей подполья, помогал уходить другим товарищам. Политическим руководителем подполья был немецкий коммунист Хейц Шеффер, военным – советский капитан А.Некрасов. В целях конспирации были пятёрки. Я знал подпольщиков Шеффера, Некрасова, Василия и Томаша.
Шестого июня в Нормандии высадились войска союзников. Всех заключённых Эдепа перевели в соседний департамент Сомме в средневековую крепость Дулои. К этому времени немцы заподозрили Шеффера в подпольной деятельности и перевели его в бомбокоманду, где он вскоре погиб при взрыве извлечённой авиабомбы. Некрасов бежал. Меня с командой послали на фосфатную шахту Бувале, где я работал на поверхности по разгрузке породы в команде из югославов. В карьере было две штольни, в одной добывали фосфат, в другой закрывали на ночь заключённых для ночного отдыха. Днём карьер охранялся СС, а на ночь охрана снималась и охраняли только штольни. Подпольная связь нарушилась.
Однажды в июле к разгрузочной команде обратился француз, машинист паровоза, возившего с шахты породу. Он просил вызвать меня к нему. Мне передали это югославы. Я подошёл к французу. Он убедился, что перед ним Малофеев и сообщил мне, что ему поручено организовать побег мой и Ивана Доценко. Я сказал французу, что Доценко находится в другой команде. Француза звали Леон Блоискор. Леон мне показал помещение, где раньше была установлена паровая машина для подъёма вагонеток из шахт, и открыл план побега. Я должен залезть в топку, пробраться в дымовую трубу, а ночью, когда охрана уйдёт к штольням, вылезть и пойти на ферму, и условным знаком постучать в калитку, там меня будут ждать. Он дал точное описание фермы. В 16 часов 30 минут я так и сделал, зашёл в котельную, открыл топку и залез в печку.
Через час эсесовцы начали меня искать всюду, зашли в помещение, всё перерыли. Видимо, у них не было фонаря, и они стали жечь в топке бумажные мешки из-под цемента. Я стал задыхаться. Вспомнил историю в первую мировую войну, когда немцы применили газ против русских, солдаты спасались носовыми платками, смоченными мочой. В полосатую шапку положил шарф, помочился и приложил ко рту. Дышать стало легче и спокойнее. Немцы ушли. В ту ночь, с шестнадцатого на семнадцатое июля, я из топки не вылез, боялся, что немцы оцепили шахту и карьер. Днём слышал, как работали югославы. На следующую ночь вылез из топки и с большой предосторожностью переполз в соседний сад, затем поднялся на ноги и осторожно пошёл. Через каждые пять, шесть шагов останавливался и прислушивался. Потом бежал, выбежал на скошенное пшеничное поле, отдышался и залез в копну. Крепко уснул, а утром увидел, что ушёл в противоположную сторону от заветной фермы. Если бы меня кто-нибудь встретил, то сказал бы, что видел чёрта. Я вынул из кармана кусочек хлеба и доел, помял колосков и пожевал. Очень хотелось пить. Днём отсиделся в копне, а вечером пошёл на ферму. Постучал, калитку открыла женщина и завела в дом. Вскоре пришёл Леон, он уже подумал, что выдал меня своим приходом на карьер. На работу он не пошёл, где-то скрывался, ждал результата. Здесь я вымылся, покушал и лёг спать. Я предложил сжечь мою полосатую одежду, но жена Леона возразила. Она сказала, что Де-Голь в листовках просил французов помогать пленным в побегах и за каждого спасённого обещал сто тысяч франков, одежда была доказательством.
Я так же, в доказательство, написал свой адрес жительства и положил в карман своей полосатой куртки. С Леоном мы говорили на немецком языке, он был в Германии в плену и сбежал. Потом он сражался в «Мекки».
После войны я разыскивал Леона. Мне сообщили, что он умер в 1977 году. Его жена сообщила, что сохраняет до сих пор его прострелянную фуражку. А тогда сестра Леона увела меня в соседнюю деревню и по эстафете переправили меня в партизанский отряд «Тысяча». Командовал отрядом капитан Руссел. Офицером связи с центром был журналист, коммунист Павленко, сын белоэмигранта. Руководитель группы отряда севера Франции был Анри Пьерард. Соседним партизанским отрядом командовал француз русского происхождения Шабанов. Отряд действовал между городами Аррес и Амьене. Специализировался на уничтожении бензозаправочных колонок, но не гнушался и подрывом мостов и железнодорожного полотна.
Жили в сёлах на чердаках, операции производили только ночью. Транспорт предоставляли французские жандармы, которые днём сотрудничали с немцами, а ночью с партизанами. Самой крупной операцией было занятие города Амьена 30 августа 1944 года. В операции участвовало несколько отрядов, они удерживали город до подхода войск союзников. У партизан была артиллерия. Ими был освобождён лагерь русских военнопленных, где бараки уже были подготовлены немцами к взрыву вместе с пленными. Русские пленные вошли в состав этого отряда. Отступающие немецкие воинские части были вынуждены обходить Амьен и бросали тяжёлое вооружение.
Союзники продвигались сначала четыре-шесть километров в день, а здесь до десяти километров. От места высадки в Шербурге до Амьена 360–380 километров совершили к вечеру первого сентября. Отряды вместе с союзниками освобождали север Франции. А в середине сентября отряды влились во вторую армию Делотр да Тасиньи. Советских граждан отправили в Англию для репатриации. Во Франции я встретился с капитаном В.И.Потаповым, знакомого по Саласпилсу. Он командовал группой советских военнопленных в партизанском отряде. В Англии советская военная миссия назначила Потапова старшим офицером лагеря репатриированных советских граждан, командиром полка, а меня, Малофеева, начальником штаба полка Бромхом-1.
Полк занимался военной подготовкой и работой в сельском хозяйстве в фонд обороны Советского Союза. В феврале 1945 года вернулись на Родину, в марте прошли госпроверку в Южноуральском военном округе, а в апреле направили меня в действующую армию, 12-ю прорывную дивизию. В июне 1945 года переведён служить в Военно-морской флот. В декабре месяце 1946 года по приказу № 0911 из Каспийской флотилии, где я служил, уволен в запас. Причиной увольнения, очевидно, послужил мой плен, перестраховщики не захотели вникать в подробности, легче всего уволить. После увольнения из флота я поездил по Украине, был на Севере, везде жить было плохо после перенесённой войны. Я снова возвратился в Баку, работал в Азербайджанском отделении государственного Союзного геофизического треста. В 1949 году переехал в Ворошиловоградскую область к месту моего рождения. Так мне посоветовали врачи, сменить климат ввиду болезни. Здесь я работал техником в геофизической экспедиции. В 1958 году закончил Московский нефтяной институт имени Губкина. Работал и учился одновременно. В экспедиции прошёл трудовой путь от техника до главного инженера. Здесь же в 1959 году стал коммунистом. В течение длительного времени был секретарём бюро партийной организации экспедиции. Там я работал до 1987 года, а затем ушёл на заслуженный отдых. Но моя трудовая деятельность не оборвалась, она только приобрела другой характер. Веду большую патриотическую работу среди молодёжи школ и институтов. Данные воспоминания я начал писать в 1944 году по свежей памяти. Фамилии близких мне людей запомнились, а вот имена многих не знал или запамятовал.
До настоящего времени сохранились записи тех лет, хрупкие и пожелтевшие от времени. Перелистываю их, и глаза становятся влажными. Приходится вспоминать все муки и страдания, переживать всё заново.
А.С.Малофеев.
г. Ворошиловград, 1988 год.
В памяти оставшихся в живых
Юрий Андреевич Ряйн – первый секретарь Кенгисеппского горкома КПЭ получил вот такое письмо:
«Уважаемый первый секретарь!
К Вам обращается с Украины Иван Васильевич ЧЕРНИКОВ.
В период обороны острова Эзель в 1941 году я был начальником боепитания авиации, базирующейся на аэродромах Кагул и Астэ. Обеспечивал авиабомбами группу Е.Н.Преображенского, летающую на Берлин. Второго октября я был ранен в ногу. Лежал в госпитале в лесу в землянке. Восьмого октября фашисты захватили остров, на котором был наш госпиталь. Весь медперсонал госпиталя вместе с ранеными фашисты пленили. Я не буду Вам писать о зверствах и надругательствах, которые чинили фашисты с пленными. Об этом трудно писать, заново всё переживать. Вам наверно пишут ветераны. Помогите встретиться с кем-нибудь, кто остался жив, пришлите мне их адреса».
Далее следует домашний адрес и подпись.
Черников Иван Васильевич, рождения 1917 года.
1937 – 39 гг. – курсант ВМАТУ г. Пермь.
В 1939 году участвовал в событиях с белофиннами старшим техником по авиавооружению 5-го ИАП. С 1941 года – начальник боепитания 12-й КОИАЭ.
Вместе с авиаэскадрильей перебазировался в начальный период войны на остров Эзель. Будучи начальником боепитания в труднейших условиях обеспечивал боеприпасами и авиабомбами всю островную авиацию, в том числе летающую на Берлин.
В конце сентября 1941 года вместе со всем свободным от обслуживания самолётов техсоставом ушёл на передовую, в том числе с майором Тереховым.
2-го сентября был ранен в ногу осколком мины и был доставлен в госпиталь.
8-го октября госпиталь попал в плен. Раненые держались достойно, поддерживали друг друга. Дальше пошли скитания и издевательства в концлагерях. Был в лагерях в Риге, Восточной Пруссии, дальше в лагере Штербугольц.
В июле 1945 года вернулся из лагерей в запасной 55-й полк.
В 1946 году демобилизовался, работал учителем с присвоением звания «Отличник Народного просвещения». Член КПСС с 1939 года. В настоящее время – пенсионер.
Ответом на письмо Ивана Васильевича Черникова послужат воспоминания участников сражений на Моонзундских островах. Им было суждено пройти через все страдания и ужасы, и остаться живыми.
Пишет письмо СИДОРОВИЧ Иван Зиновьевич из города Хабаровска.
«Уважаемый первый секретарь Кенгисеппского ГК КПЭ!
Я служил на 6-й батарее 76-мм пушек старого образца. Был на должности командира орудия. Когда фашисты заняли Ригу, нашу батарею послали защищать остров Муху. Высадились в порту Кувайсту, и с боями гнали врага на 30–40 километров вглубь материка. Приходилось бить в упор прямой наводкой, и мы разбили немецкую группировку наголову. Захватили трофеи, много личного оружия и велосипеды. Немцы бежали, оставляя убитых и раненых. Затем немцы подтянули резерв, во много превосходящий наши силы. Началось их яростное наступление. Под натиском превосходящего врага мы стали с боями отступать. Били их беспощадно, но отступали под натиском сил, превосходящих нас. Все помещения наших штабов и два госпиталя были переполнены ранеными.
В штыковой атаке я получил ранение в грудь. Поступил в военно-морской госпиталь. Меня оперировал доктор Левин. Вскоре госпиталь заняли фашисты, и меня с открытыми ранами немцы вышвырнули в лагерь для военнопленных. Раненых гнали пешком на переправу, отстающих расстреливали. До места довели половину раненых и погрузили в вагоны. Набили битком. Никакой медицинской помощи не оказывали, ехали почти без еды. По дороге много умерло. Привезли в военный лагерь «Винляндия», выгружали истощённых, полураздетых, полуразложившихся от ран и грязи. Началось физическое уничтожение. Их зверства не поддаются никакому описанию.
Дальше пошли скитания по лагерям смерти: Рига, Саласпилс, Эссен (западная Германия).
Я был освобождён французами. Прибыл на родную землю. Продолжал служить в рядах Красной Армии до мобилизации в 1946 году.
Сидорович, г. Хабаровск.
Пишет Мария Яковлевна ЩЕРБАКОВА, жена пропавшего без вести ЩЕРБАКОВА Ивана Дмитриевича, защитника Моонзундских островов:
«Хочу поведать Вам нелёгкую судьбу матери двоих детей. Начну сначала. Со своим мужем, Иваном Дмитриевичем Щербаковым я познакомилась на строительстве бумажного комбината и посёлка Мечкостроя. Он был направлен сюда после окончания Вологодского педтехникума во вновь открывшуюся школу учителем начальных классов. Я работала табельщицей на строительстве посёлка. Вскоре мы поженились и были бесконечно счастливы. Жили в старой коммуналке. В апреле 1938 года у нас родилась дочка Лора. В октябре этого же года Ваню призвали в армию. Первые полтора года он служил в Усть-Луге, а когда Эстония стала советской, его направили служить писарем шифровального отдела при штабе БОБРа на остров Эзель.
В 1940 году я приехала к нему с дочкой и его матерью. Он находился на срочной службе, и мне надо было сразу устраиваться на работу, чтобы зарабатывать средства на содержание семьи. Работала в КЭЧ при штабе БОБРа. У нас появилась вторая дочка Зина.
Время было неспокойное, но о войне у меня не было и мысли. Она нагрянула неожиданно. Семьи военнослужащих стали эвакуировать на материк. Мне Ваня предлагал эвакуироваться, но мне казалось, что это временно, и эвакуировали свекровь со старшей дочкой, а я осталась работать и воспитывать меньшую дочь. Муж мне позволил распорядиться своей судьбой. Для дочки я нашла няню, эстонскую девушку. Жила на улице Копле, 10, в Курессааре. Этот дом попал под бомбёжку, и дочка с няней уцелели чудом. Я обратилась в Горисполком об устройстве дочки в детское учреждение. Мою просьбу удовлетворили. Неожиданно стали эвакуировать раненых и мне Ваня посоветовал уйти с ними, а дочку оставить в учреждении под его присмотром. Ранее я не смогла с дочкой улететь самолётом, их не было.
– Поезжай и разыскивай мать с Лорочкой, – сказал Ваня, – я послежу за эвакуацией Зиночки.
В ночь на третье октября на катерах вместе со штабом БОБРа я прибыла на Даго. Оттуда на самолёте долетела до Тихвина. Начались поиски старшей дочери. Я искала их везде и нашла в Ивановской области в городе Меленки. Младшую дочь Зиночку я искала двадцать лет. От мужа я не получала ни одного письма. Меня он проводил с последней оказией, и больше не было возможности ему эвакуироваться, он там остался воевать с врагами. Жив ли он, я не знаю и поныне. После победы стали приезжать мужья, горько было оставаться вдовой. Мне казалось, что Ваня жив и приедет, найдёт меня. Я искала его во всех архивах, расспрашивала сослуживцев. Всюду искала младшую дочь Зиночку. Много получала писем от оставшихся в живых, кто прошёл через ужасы плена, позора, унижений. Ивана никто не встречал. Запросы, ответы, поиски на братских могилах, на кладбищах разных городов. Нашлись четыре Ивана Дмитриевича Щербакова, год рождения у всех был одинаков. Ездила к ним в Киров, Иваново, к двоим сразу в Воронеж. Все четверо оказались тёзками моего Вани.
Многочисленные запросы письменного стола оказались утешительными, мне нашли младшую дочку Зину. Я летела к ней в Таллин, будто на крыльях. Смотрю на неё, девушку двадцати лет, и вижу себя двадцать лет назад, те же черты лица, только причёска другая. Это же моя родная дочка Зиночка! Я целовала её головку, пальчики рук. Я была счастлива! Она чудом уцелела в оккупации, воспитывалась в эстонской семье.
Теперь все смотрим на фотокарточку нашего дорогого Ивана Дмитриевича. Для меня он вечно молодой. На постаревшей от времени фотокарточке остались нестареющие глаза, тёмные вьющиеся волосы, открытое доброе лицо. Всё тот же взгляд, сосредоточенный и немного тревожный. Он для меня незабываем. Два его внука отслужили в армии и женаты, есть наша правнучка.
Дорогие славные воины! Дорогой Яков Михайлович! Помогите мне найти моего дорогого мужа Ваню. Напишите о нём хоть что-нибудь.
Мой адрес: г. Новодвинск Архангельской области, Улица Славы, дом № 3 а, кв. 41. Щербакова Мария Яковлевна.
От Бориса Петровича БЕЗРУКОВА, старшего авиатехника 12-й КОИАЭ, моего дорогого старого друга пришло такое письмо:
«Здравствуйте, дорогие друзья, Яша и Люба! Наконец-то мне посчастливилось получить от вас весточку. Ведь прошли десятки лет, а вы не меркните в моей памяти. Я представляю вас так ясно, что будто встречал вчера. Очень хочется встретиться, даже не верится, что это возможно. Может, вы приедете на родину Ленина, в город Ульяновск? Для меня это было бы большим праздником. Живём мы с Валей хорошо. Только бы жить, да разъезжать по родным и друзьям, но, увы, болезнь держит. Яша, дорогой друг, хоть бы голос твой услышать. Прошу тебя, позвони мне домой по номеру Т-4-58-85. Буду очень рад».
Встретиться с Борисом так и не довелось. Звонили по телефону домой, его не застали, он находился в больнице. Затем нам сообщили телеграммой, что Борис умер. Так и не встретились после войны. Так и не поговорили по телефону. Думали, что успеется, а судьба распорядилась по-своему.
Пришло письмо от Григория Александровича ЗАПЕВАЛОВА из Ейска. Он пишет:
«Здравствуйте, дорогие друзья Яша и Люба! Спасибо вам, что нашли меня и сообщили о себе. Нас жизнь разбросала в разные стороны, как лёгкие скорлупки. Теперь прибила к берегу. Яша, тебе наверно прислали приглашение на встречу ветеранов в Ленинграде. Мне прислали, вот там и встретимся, в городе нашей молодости. Вспоминаю твои слова: «Гриша, после войны постараемся обязательно встретиться. Посидим за праздничным столом и споём: «Так вспомним, товарищ, как вместе сражались, как нас обнимала гроза»… Приезжайте в Ленинград, мы с Верой приедем обязательно. Яша, ты пишешь воспоминания, это очень хорошо. Молодец. Когда-нибудь напечатают, а если нет, то всё равно потомству пригодятся твои рукописи. Им будет интересно узнать о нас из первых рук. Я тебя очень понимаю, в своей работе над рукописью ты изливаешь свою душу, для тебя писать – то же, что для меня музыка. Меня жизнь не баловала, я не стал настоящим музыкантом, но музыка постоянно живёт со мною и в горе, и в радости, только она может утешить, и только с ней жизнь кажется полнее и глубже. Приезжайте, дорогие друзья, ждём вас в Ленинграде или в Ейске».



