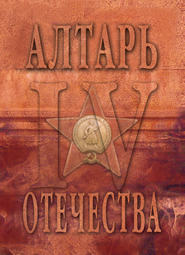 Полная версия
Полная версияАлтарь Отечества. Альманах. Том 4
– Вася, дорогой, не оставляй меня здесь, – попросил Егор Озёрного.
– Будем долечивать в санчасти, в госпитале мест нет, – внушительно сказал военфельдшер хирургу, и увёз Егора на аэродром.
Снова на аэродромной площадке, снова срочно надо готовить самолёт к боевому вылету, Егор пошёл к своему самолёту, голова кружилась, было трудно смотреть вверх, моторист Евгений Селецкий это понимал, и старался делать всё за двоих. Самолёт летел с полной боевой нагрузкой, возвращался пустым, и так повторялось несколько раз в день.
Последнее совещание
В штаб БОБРа поступило донесение, что защитники отошли на последний оборонительный рубеж. Дальше отступать было некуда, дальше было море. Коменданту БОБРа генерал-лейтенанту А.В.Елисееву, военкому Г.Ф.Вайцеву, а так же всему руководящему составу было ясно, что войска обескровленного гарнизона могут продержаться всего два-три дня. Об этом они доложили шифровкой командующему КБФ вице – адмиралу В.Ф.Трибуцу. Ответ пришёл быстро. Военный совет приказал Елисееву вместе со штабом и политотделом переправиться на остров Даго, и оттуда возглавить оборону Моонзунда. Туда же переправить оставшихся бойцов и офицеров.
Это решение Военного совета надо было довести до командиров и политработников БОБРа, до частей третьей отдельной стрелковой бригады. Совещание состоялось вечером. Прибыли ответственные командиры и политработники БОБРа. В целях безопасности при внезапном вторжении фашистов, многие были в форме рядовых. Генерал зачитал решение Военного совета, и дал разрешение выступать.
– Какие средства имеются для выполнения решения Военного совета по отправке на Даго бойцов и офицеров? – Спросили с места.
– На острове имеются четыре торпедных катера и три катера КМ, на острове Даго имеются катера КМ и некоторые другие плавсредства. Будем ждать прихода поддержки, – ответил Елисеев, – командующий КБФ об этом знает, и примет положительные меры. В течение двух-трёх дней всё решится, нам надо продержаться.
Далее генерал возложил свои обязанности по обороне Эзеля на командира 3-й бригады полковника П.М.Гаврилова, представителем от штаба БОБРа оставил майора В.М.Харламова, и на этом совещание закончилось.
Уходили с совещания молча, с тяжёлыми думами.
– Два-три дня продержаться можно, – говорили уходящие, – а смогут ли переправить? Надежды мало.
Многие считали, что уход генерала Елисеева на Даго будет правильным, оттуда можно руководить и организовать спасение оставшихся защитников. Другие считали, что уход дезорганизует защитников, генерал должен разделить тяжёлую участь со своими подчинёнными. Каждый понимал, что разговор бесполезен. Приказы надо выполнять, а не обсуждать.
Генерал приказал командиру дивизиона Богданову готовить катера для перехода на Даго. Богданов довёл это распоряжение до командиров катеров. Все эти распоряжения отдавались с тяжёлым чувством.
Физическое истощение сказывалось на душевном состоянии. У многих появилось чувство приглушённого безразличия. Все анализы положения и поиски выхода из этого критического положения сводились к одному выводу: «судьбе не прикажешь, что должно свершиться, то и свершится».
Наверное, у генерала были противоречивые чувства, он оставлял гарнизон в самую трудную минуту, зная, что на Даго нет плавсредств, и они не будут высланы на спасение оставшихся защитников. Этих плавсредств не было и близко, ждать издалека бесполезно, кругом вражеская авиация, на море беснуются морские охотники, к тому же море штормило. Можно было раньше начать эвакуацию раненых, но время упущено. Эти вопросы обсуждались на совещании, но никто не смог предложить оптимального решения. Генерал, зная всё, выполнял постановление Военного совета.
– Пленить генерала вместе со своим штабом и политотделом, завладеть знаменем и всеми штабными документами – такой триумф врагам и позор нам допустить нельзя, – знали все.
Перед отплытием генерал решил посетить прославленную 315-ю батарею, которой командовал капитан А.М.Стебель. Сколько было потоплено кораблей! Семьдесят классных специалистов батареи сражались на сухопутной обороне, батарея прямой наводкой уничтожала ряды фашистов на рубеже, корректировала огонь прямо с выносных постов оборонительного рубежа. Боеприпасы кончились, капитан Стебель готовил батарею к взрыву, чтобы не досталась врагу. Об этом капитан доложил, когда генерал прибыл на батарею.
– Сегодня ночью, – сказал генерал, – мой штаб вместе с политотделом убывает на Даго, будем там продолжать борьбу за Моонзунд. Вам лично я разрешаю отбыть вместе с нами, оставьте за себя лейтенанта Червакова.
– Разрешите остаться, товарищ генерал, оставить подчинённых я не могу.
Генерал посмотрел в упор на командира батареи, и после некоторой паузы негромко сказал:
– Разрешаю остаться…
Генерал не стал кривить душой, обнадёживать обещаниями прислать плавсредства с Даго, нельзя говорить неправду этому командиру с кристально чистой душой. Уходя, генерал ещё раз пристально посмотрел на Стебеля, зная, что видит его в последний раз. Они простились по русскому обычаю.
В ночь на второе октября три торпедных катера убыли на Даго со штабом БОБРа и политотделом. Четвёртый торпедный катер остался в бухте в распоряжение полковника П.М.Гаврилова, исполняющего обязанности старшего представителя БОБРа. От политотдела старшим представителем остался полковой комиссар М.В.Шкарупо.
Башни взорвать!
«315-я береговая батарея 180-мм башенных орудий, находящаяся на полуострове Церель, заканчивала своё славное существование. Много славных дел записано на её счету при защите острова Эзель. Она была опорой при отражении морских десантов, при охране Ирбенского пролива от вражеских кораблей и даже штабом БОБРа, когда он находился на острове Церель. Все ценности хранились последнее время на этой батарее. Теперь снарядов осталось только на один залп.
В боевой рубке находились командир этой батареи Александр Моисеевич Стебель и военком батареи старший политрук Николай Фёдорович Беляев. На их лицах не было прежнего воодушевления, сидели молча, каждый при своих думах.
– Зря вы не ушли с Елисеевым, – сказал военком.
– Не зря. Вместе пришли мы сюда, вместе батарею строили, вместе воспитывали классных специалистов, сплотили в единую боевую семью, вместе топили вражеские корабли…
После небольшой паузы он добавил:
– Вместе и уйдём отсюда или погибнем.

Командир 315-й береговой батареи, капитан Александр Моисеевич Стебель
Он нажал на педаль электрического звонка и объявил боевую тревогу. С центрального поста доложили, что батарея к бою готова, на орудия поданы последние снаряды.
– Раньше срока приготовили батарею, – сказал военком, посмотрев на часы.
Командир был поглощён расчётами, последние снаряды не должны погибнуть даром.
– К бою, по фашистской пехоте! – скомандовал Стебель последний раз. – Батарея залп!
Вздрогнул судорожно командный пункт, и где-то пронеслось эхо взрывной волны. Стебель психологически готовился подать другую команду.
– Башни взорвать! – приказал Стебель, – ничего не должно остаться врагу, это наш последний долг. Дальномер, стереотрубы, всё уничтожить. О выполнении доложить мне лично.
– Есть! – ответил принявший команду краснофлотец Овсянников и побежал на запасной командный пункт.»
(Ю.А.Виноградов. «Хроники расстрелянных островов»).
Затем Стебель приказал уничтожить все секретные документы, все ценности. На батарее хранились деньги, более пятнадцати миллионов, их тоже приказал сжечь. Кочегарам помогал интендант 2 ранга Фролов, которого генерал Елисеев обязал лично присутствовать и проверить.
В боевую рубку с трудом поднялся командир сорок третьей батареи Василий Георгиевич Букоткин. Его сорок третья 130-мм батарея когда-то стояла на полуострове Кюбассар, первая отражала натиск фашистов при обороне Виртсу, острова Муху, потом он был ранен, его батарея попала в окружение, и вышли из него в живых четырнадцать человек. Ему сообщили, что и эти последние погибли на перешейке. Ранее погибли военком батареи старший политрук Григорий Андреевич Карпенко и комсорг Иван Божко. Сам он едва передвигался на своих израненных ногах.
– Опять сбежал из госпиталя? – спросил его Стебель.
– Сбежал, – ответил Букоткин, – не могу там сидеть без дела.
– Тогда разделяй с нами последнюю и неизвестную участь, – сказал военком Беляев.
Букоткин смотрел на своих боевых товарищей, и ему было спокойнее с ними, в госпитале его мучила мысль, что больше никогда их не встретит. Внимательно посмотрев на Александра Моисеевича, он заметил много перемен, неизменными остались только его голубые глаза и добрая застенчивая улыбка. Всё в нём было от щедрой души, простоты, ума и деловитости.
– С ним не страшно идти в огонь и воду, и даже умереть, – подумал Букоткин.
В госпиталь он решил не возвращаться, и разделить участь своих товарищей, какая бы она ни была.
– Батарею взорвали… – сказал Стебель, – таков приказ начальника артиллерии БОБРа.
Букоткин заметил, что сказанное о взрыве батареи, Стебелю было подобно убийству родного ребёнка, губы его задрожали, и голос сорвался, глаза стали влажные.
Приказ был выполнен, искалеченные стволы неподвижных башен уже не смотрели в сторону Ирбенского пролива. Комендоры добивали пудовыми кувалдами механизмы, уцелевшие от взрыва. Стебель проверил сам лично, убедился, что немцы не смогут восстановить батарею.
От полковника Ключникова приехал начальник артиллерии БОБРа капитан Харламов проверить выполнение приказа об уничтожении батареи. Убедился, что всё сделано, как положено. Приказал Стебелю сформировать из краснофлотцев роту и послать её на оборону бухты Мынту.
Надо решать, что делать дальше
На командный пункт, расположенный в помещениях 315-й батареи, приносили тревожные доклады. Героические защитники на перешейке отходят на последние укрепления обороны. Рапорт принимал командир третьей стрелковой бригады полковник П.М.Гаврилов. Здесь же находился комиссар бригады И.П.Кулаков. Они отдавали последние распоряжения, зная неминуемую трагическую развязку. Они надеялись в критический момент уйти на остров Даго на четвёртом торпедном катере, который не ушёл со штабом и был в их распоряжении. Он был готов выйти в море, но бездействовал по причине отсутствия торпед. Вой снарядов и разрывы бомб на передовой, раскатистые крики «Ур-р-а» становились отчётливее и громче. Полковнику казалось, что они совсем близко. Поздно вечером, предвидя безвыходность положения, Церель покинули командиры 46-го и 39-го артполков. «Надо уходить», – промелькнуло в сознании полковника.
– Пора и нам, иначе будет поздно, – сказал комиссар.
– Передайте командиру запустить катер, – сказал Гаврилов.
Наспех собрали несколько командиров и рядовых. Посадка. Вышли на рейд. Их как будто поджидали немецкие самолёты. На первом заходе «юнкерса» катер загорелся и стал тонуть. Никто не спасся.
Теперь всю ответственность за судьбы людей взял на себя полковник Николай Фёдорович Ключников. На командный пункт приехал капитан Харламов и доложил, что 315-й батареи не существует. Принимая рапорт, Николай Фёдорович едва держался на ногах, его душил сухой кашель, на жёлтоватом лице выделялся неестественный румянец.
– Что делать дальше, Николай Фёдорович? – Спросил Харламов.
– Да, надо решать, что делать дальше, вы правы, – согласился Ключников, – решать надо сообща…
После этого на КП были собраны командиры и представители БОБРа. Ключников доложил обстановку, что снаряды кончились, артиллерия уничтожена, мин нет, патроны и гранаты в ничтожном количестве. Личного состава осталась четвёртая часть, из них половина раненых. Надежды на приход морских судов нет. Даже если и появятся корабли, то их не допустят к берегу сторожевые корабли и авиация фашистов. Сутки надо выдержать.
– А дальше что нас ожидает? – Спросили с места.
– А дальше всем командирам собраться на заминированном командном пункте и подорваться.
С ним не согласился полковник В.М.Пименов. Он спокойно и твёрдо заявил:
– Без командиров бойцы обречены на плен. Надо переходить на партизанское положение, организованно отступать в леса и вести борьбу с врагами.
– Лучше бы партизанить на материке, в Латвии, – подсказал Харламов.
Приняли решение удерживать фашистов, а тем временем собрать плоты и рыбачьи лодки для переправы на латвийский берег. Остальную часть людей, кому не хватит плавсредств, направить вглубь Эзеля. Когда вода в заливе покроется льдом, перейти на остров Муху, затем на материк. Казалось, всё было согласовано, принято к сведению и исполнению. Появилась какая-то надежда на выживание в яростной борьбе до последнего вздоха.
Авиаторы прощаются с Эзелем

Механик 12-й КОИАЭ Степан Иванович Дзюба
1 октября 1941 года.
Весь день летали лётчики на передовую линию обороны, чтобы уничтожать фашистов. Восемь раз Алексей Ильичёв вылетал на своей «Чайке» с полной боевой нагрузкой, а возвращался пустым. Благо, что передовая была совсем рядом. Девятый раз его проводили Егор Буранов и моторист Евгений Селецкий. Егор посмотрел на небо. Перистые облака виднелись то тут, то там, солнце спускалось всё ниже и ниже.
– Это, наверно, последний вылет, – сказал Егор.
На взлётной полосе стоял истребитель И-16, готовый к вылету. В конце полосы стоял большой белый маяк, возвещая всем о крае Церельской косы и начале моря.
– Женя, ты был когда-нибудь около маяка?
– Был, – ответил Селецкий.
– А я вот не был, хоть он и рядом.
– Сходите, я останусь здесь. Если прилетит – встречу.
– Спасибо, я пойду.
По окраине взлётной полосы Егор приближался к маяку. Он показался ему большим и величественным. Недалеко от него было старое кладбище. Могильные холмики почти сравнялись с землёй, заросли травой, кресты старые и неухоженные. Посредине кладбища выделялись две большие насыпи с торчащими дубовыми обрубками. На этих обрубках Егор заметил пазы, в которые когда-то вставлялись перекладины, они лежали рядом. Егор поднял их и вставил в пазы, получился большой крест. Об этих крестах писалось в островной газете «На страже»:
«В сентябре – октябре 1917 года моряки революционного Балтийского флота сорвали попытку прорваться германскому флоту к революционному Петрограду. Здесь немцы сосредоточили свыше 320 судов. В числе этих судов были десять новейших линкоров, их охраняли свыше ста самолётов. У балтийцев было 116 кораблей различных классов, среди них два старых линкора. Прилагалось тридцать самолётов. Балтийцы геройски сражались в неравном бою. Интервенты потеряли тридцать кораблей, вынуждены были отойти к своим базам, попытки подавить революцию не удались».
Погибшие защитники были похоронены на этом кладбище в двух братских могилах, поставлены деревянные кресты. Буржуазная Эстония не поставила хорошего памятника, а Советская власть в Эстонии существовала недолго.
– Может, я приду им на пополнение, – печально подумал Егор, глядя на заросшие могилы.
Самолёты возвращались, шли на посадку, Егор вернулся на аэродром.
Вечером всех мотористов построили и строем увели, Егор не знал, куда. Уже темнело, лётный состав не уезжал на ночной отдых. Недобитая армада фашистских кораблей подошла к берегу и стала производить обстрел защитников на линии обороны. Теперь им никто не угрожал, торпедные катера стояли без торпед, батарея капитана Стебеля была взорвана, несколько самолётов-истребителей стояло без реактивных снарядов и бомб.
Через лётное поле стали перелетать снаряды, оставляя огненные трассы. На взлётной полосе начали рваться мины. Всем лётчикам, оставшимся в живых, поступила команда перелететь на полуостров Ханко. По этой команде прибежал к своему самолёту Алексей Ильичёв и приказным тоном сказал:
– Егор, быстро снимай бронеспинку, сейчас полетим на Ханко, ты сядешь сзади меня.
– Это чья команда? – спросил Егор, – мне не было такой команды.
– Снимай, тебе говорю, немедленно снимай, не веди время!
– Алексей, я не полечу.
– Воентехник Буранов, немедленно снимай бронеспинку!
– Лёша, я останусь.
– Пожалеешь. Я Любе дал слово спасти тебя в трудную минуту.
– Остаюсь.
Тогда Алексей сел в кабину, запустил двигатель, ветер начал трепать одинокое дерево, стоявшее недалеко. Егор вскочил на подножку, проверил в кабине приборы, Алексей подтянул его к себе и обнял. Это было прощание навсегда. Больше они не встретились.
Самолёты взлетели, собрались в условленном квадрате и взяли курс на Ханко. В числе улетевших были лётчики Г.П.Семёнов, А.А.Ильичёв, Е.П.Бадаев, Г.Д.Цоколаев. Последним взлетал Г.Цоколаев вместе со своим техником Н.И.Волосевичем, на одноместном самолёте они использовали вариант со снятой бронеспинкой.
Из прилетевших с полуострова Ханко на Эзель в числе погибших значатся лётчики: П.А.Дорогов, К.А.Белорусцев, Г.Е.Добряк, П.Д.Лобанов, М.Т.Леонович, Н.Л.Шабанов и Власенко. Долго считали погибшим Константина Георгиевича Андреева, но он оказался живым. Прошёл все ужасы унизительного плена, фашисты его пытали, отбили память. После войны он возвратился к своей семье в Ленинград, его посещали друзья-фронтовики, но он многих не узнавал, не помнил. Это был старый, дряхлый, больной человек.
В числе первых с полуострова Ханко прилетел Иван Леонтьевич Творогов на самолёте И-16. В самую критическую минуту он оказался без самолёта, летал на передовую линию обороны больше всех ханковцев и прилетел последний раз, как говорят, на честном слове. Его техник В. Г. Мальце в принимал все меры, чтобы восстановить самолёт для перелёта на безопасный аэродром острова Даго. Вместо мотора М-25 он поставил М-62 и тоже с разбитого самолёта. Все питающие провода он соединил, а капоты не подходили, мотор был больше по габаритам. Лобовое кольцо «нака» он стянул проволокой, воздушный винт оказался мал по мощности. Мотор развивал большие обороты, а тяга была маленькой. Решался вопрос лететь, или не лететь.
Ночь. Порывистый осенний ветер чувствительно предупреждал о приближении холодов. Оставшись наедине с темнотой и сыростью, Егор не замечал ни того, ни другого. Ему казалось, что самолёт улетел и унёс с собой всю его жизнь, все его надежды. Какая-то страшная могучая сила опустошила душу, сделала тело невесомым и чужим. Над головой летали с оглушительным визгом снаряды. Одна мина разорвалась совсем рядом и привела Егора в осмысленное состояние. Он вспомнил про своего моториста Женю Селецкого.
– Куда его увели, почему так долго держат? – Возникла в голове тягучая мысль.
Он не знал, что Женя больше не придёт, его послали в резерв для отражения внезапного нападения фашистов. Вторая мина разорвалась совсем близко и будто отрезвила Егора, заставила принять решение. Он стал надевать ремень с прикреплёнными гранатами, взял в руки винтовку, которую держал в запасе на чёрный случай. Она была с оптическим прицелом, опробована, била метко. Теперь он думал только об одном, убивать фашистов и как можно больше. Смерть за смерть. Вдруг откуда-то издалека донеслось протяжное «Ур-р-а». Это стойкие защитники на перешейке шли в рукопашную атаку. Днём их косили пулемёты и автоматы, прижимая к земле, а ночью они навёрстывали упущеное. Егор решил идти на этот гул. Бросил прощальный взгляд на пустое место, где стоял его самолёт, запах минерального масла казался родным. Тормозные колодки разбросаны по сторонам, их не надо больше подбирать, но Егор отнёс их в положенное место. Из баллона сжатого воздуха торчала заряжающая трубка. Неожиданно его осветила фара автомашины.
– Егор, где ты? – услышал он знакомый голос Ивана Усатова.
– Здесь я.
– Садись в автомашину!
– На передовую, с комфортом, – подумал Егор и сел в машину.
Приехали к морскому причалу, увидели стоящие у пирса два катера КМ.
– Произвести посадку! – приказал командир катера.
По досчатому трапу стали садиться, а Усатов развернулся и уехал за очередной партией оставшихся техников. Шофёра не было, машиной управлял лично сам. Долго ждать их было опасно, катера были переполнены и отошли от пирса. Иван привёз людей, а катеров уже не было. Им сказали, что больше катеров не будет, они развернулись и поехали обратно.
Волею судьбы техники оказались на маленьких судёнышках КМ. Куда их перебрасывают, они не знали. Катера обогнули южную конечность полуострова вместе с маяком, стали отходить от берега. Огибая полуостров Церель, техники увидели, как огненные трассы снарядов, мин, вылетающих из стволов корабельных орудий, направлялись на беззащитных обороняющихся на сухопутном перешейке. Огромные морские волны приняли в свои холодные объятья эти безобидные судёнышки. Осенняя ночь была кромешно чёрной, катер карабкался на вершину огромной волны и стремительно проваливался вниз. Казалось, не вынырнет, а он снова карабкался на очередную волну. Спустя некоторое время сухопутные техники начали страдать от «морской» болезни. Егор посмотрел на актрису Валентину Телегину. Эту мужественную женщину судьба бросала по трудным военным дорогам. Она сидела неподвижно, напоминая Егору родную мать. Егор вышел из трюма на палубу. Стало легче дышать, но брызги холодных волн окатили его всего холодным душем. Китель в одно мгновение стал мокрым.
– Лишь бы сохранился комсомольский билет и Любушкины письма, – подумал Егор.
Наступил рассвет, никто не сомкнул глаз. Ветер пронизывал мокрую одежду, но люди холода не замечали. В полдень показался берег острова Даго. Причалили. Первой сходила на берег Валентина Петровна Телегина, ей все уступали дорогу. Она шла, цепляясь за подвернувшиеся предметы, чтобы не упасть. Подошла к командиру катера, низко ему поклонилась и тепло поблагодарила. Подошедший краснофлотец подал ей фляжку. Последним сходил на берег коренастый Евгений Складаный. Твёрдая земля под ногами, чистый песочек, пригретый солнышком, ласкали души.
– А где же второй катер? – спросили у командира катера.
– Он отстал ночью, и больше его не видели, – ответил лейтенант.
Прибывших увезли в какое-то помещение, накормили, но ничего не радовало, все были встревожены, второй катер не выходил из головы. Вспомнились оставшиеся защитники на Церели. Было очень тяжело на душе. Только на второй день прибыл второй катер. Егор встречал Бориса Безрукова, как с того света. Борис рассказал:
– Ночью в море мы потеряли из виду ваш катер, сбились с курса и долго бродили в море. Наконец, увидели берег и подумали, что это Даго. На берегу нас встречали люди, махали руками, называли славными защитниками. Подошли ближе. Бросив швартовый конец, краснофлотец услышал немецкую речь. Стало ясно, что прибыли в лапы фашистов. Швартовый конец стали подбирать обратно, катер повернул назад. Отойдя недалеко от берега, заглох двигатель. Из машинного отделения сказали, что отказала водяная помпа. Катер остановился на рейде. Немцы недоумевали, наверное, подумали: «Не уйдут», дали время на размышление. А катер стоял. Теперь им было ясно, что русские не собираются сдаваться в плен. Вылетел самолёт «Дорнье», решил попугать, прострочил пулями борт катера. Пули попали в вещмешки. Атака самолёта перепугала, стали искать выход. На палубу вышел механик Степан Дзюба, снял мохнатую шапку и стал ею размахивать. Лётчик прекратил заходы. Обманный номер получился, к Дзюбе присоединился другой механик, Пётр Федоткин. Вместе они махали шапками, прикладывали руки к сердцу, разыгрывали спектакль, отвлекали фашистов, а в это время шёл упорный ремонт водяной помпы. Прошло немного времени, а казалось, целая вечность, помпу исправили, мотор заработал, катер потихоньку стал отходить в открытое море. Штормовые волны маскировали его, не давая обнаружить противнику, на поиск вылетали вражеские самолёты, но обнаружить не смогли. Только на второй день к вечеру наш катер прибыл на Даго.
Последние бои на полуострове Церели
Второго октября на полуострове Церели фашисты напали на последнюю линию обороны. Вражеская авиация буквально висела над защитниками, артиллерия била с суши и с моря. Автоматчики в яростных атаках применяли разрывные пули. Всё горело, со всех сторон раздавались стоны раненых, вой снарядов, гул летающих самолётов. Шесть дней шли такие неравные бои. Герои не сдавались, они поклялись: «Драться будем, пока есть оружие, кончатся патроны – пойдём в рукопашную, не останется сил – вцепимся зубами в глотку врага!».
Когда закончились патроны, осталось последнее. Шли в контратаки с винтовками без патрон, со штыками наперевес. И не смотря на это, враги их боялись. Услышав крики «Ур-р-а!» бежали с поля боя. Так продолжалось шесть дней. Горячей пищи защитники не получали несколько дней. Днём 4-го октября враги прорвались на последние рубежи. Защитники были обескровлены, средства внутренней связи нарушились. Радист Федоренко находился на вахте в бывшем штабном укрытии 12-й КОИАЭ. Он увидел, как со всех сторон его окружили фашисты, но успел передать в эфир радиограмму:



