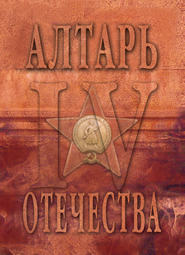 Полная версия
Полная версияАлтарь Отечества. Альманах. Том 4
Показалась фашистская пехота.
– Не стрелять! – приказал Денисов, – пусть подойдут поближе, пусть думают, что здесь никого нет.
Немцы двигались на траншеи во весь рост. С приближением немцев на сто метров, защитники открыли огонь из пулемётов. Неожиданная встреча удалась, вскоре земля стала серо-зелёной от трупов. Уцелевшие отступили.
Более двух часов было тихо. Полевая кухня приехала с горячей пищей, обед прошёл в приподнятом настроении. Через два часа снова заработала немецкая артиллерия, обрушилась лавина огня, обстреливался каждый метр. Батальон стал нести большие потери. Были убиты командир пулемётного взвода Семён Шимарёв и первый номер пулемётного расчёта рядовой Касиков. Убили Михаила Голубева, прекрасного стрелка из Донбасса. Много было раненых, санитары едва успевали перевязывать. Но батальон не дрогнул! Твёрдо стоял на своих позициях и мужественно отстреливался от наседавших фашистов. После небольшого перерыва снова заработала артиллерия. На командный пункт по ходам сообщений пришёл комиссар батальона старший политрук Ром. С ним был связной правого фланга старшина Шереметьев.
Не успев с ним поздороваться, Денисов очутился в каком-то огненном шаре. Взрывной волной его выбросило из командного пункта. Когда он пришёл в чувство и, не поднимая головы, посмотрел на землянку КП, из неё шёл дым. Он вскочил туда, на полу лежали убитые комиссар Ром с рассеченной головой и телефонистТ.Вубков.
Сам Денисов еле держался на ногах, сильно болела голова. Он прижал руку ко рту, боль усилилась. Всё лицо было залито кровью, осколок снаряда повредил верхнюю губу и челюсть. Подбежали санитары, уложили на носилки, спрашивали о самочувствии, но он ничего не слышал, из ушей текла кровь.
– Сильная контузия, – сказали санитары.
Понесли на носилках к санитарной машине. Около машины стояли командиры и с ними капитан Ковтун.
Он наклонился, поцеловал Денисова и сказал:
– Крепись, Ваня, мы ещё повоюем!
В госпиталь пришла санитарная машина с очередной группой раненых. Среди них был Иван Петрович Денисов.
Лётчики с Ханко идут на выручку
Двадцать второго сентября на взлётную площадку Церели сели три «Чайки».
– Чьи они? Откуда? – спрашивали лётчики 12-й КОИАЭ, – наши все обедают.
Приземлились очень хорошо, будто здесь и летали. Старший лейтенант П.П.Смирнов подошёл к только что прирулившим лётчикам.
– Ба, да это же свои!
Три прилетевших лётчика с полуострова Ханко шутя назвали свои фамилии:
– Семёнов Григорий Петрович.
– Андреев Константин Григорьевич.
– Шабанов Никанор Лаврентьевич.
– Какими судьбами? – поинтересовался Смирнов, – ведь у вас тоже не густо с самолётами и обстановочка тоже не лучше нашей.
– Сам погибай, а товарища выручай! – ответил К.Андреев.
Тогда они ещё не знали, что воевать с фашистами будут всего десять дней, а там сама судьба их пошлёт кого куда.
– Начнём со столовой, – предложил Смирнов.
По дороге лётчики интересовались обстановкой, и Смирнов коротко их ознакомил.
– А как дела у вас? – спросил Смирнов.
– Командир нашей эскадрильи – капитан Л.Г.Белоусов, – сказал Шабанов.
– Летает с ампутированными ногами, – добавил Андреев, – командир базы Ханко – генерал-лейтенант С.И.Кабанов. Задача у нас с вами одна: не допустить фашистов к Ленинграду, как можно больше уничтожить их здесь.
– Так же, как и вы, охраняем корабли, ведём воздушную разведку, корректируем огонь береговых батарей, помогаем десантникам высаживаться на другие острова, – перечислял Семёнов.
– Уничтожаем батареи, аэродромы, суда фашистов, – дополнил Андреев.
– С фашистами ведём счёт по принципу «смерть за смерть!» – добавил Шабанов.
Они рассказали, как 24 июля лётчики Антоненко, Бринько, Лазуткин и Белорусцев в этот день уничтожили пять гидросамолётов. Когда возвращались на свой аэродром, их атаковали шесть «фоккеров». В завязавшемся бою наши лётчики сбили пять из шести. В этот раз Бринько сбил два самолёта. Потерь своих не имели.
– Наш аэродром каждый день обстреливают минами и снарядами. Самолёты укрыты надёжно, а лётное поле приходится ремонтировать.
– Вот такие пироги! – подытожил Андреев.
Пообедав, они сразу приступили к боевым вылетам. В этот день они сделали каждый по три вылета.
На следующий день ещё прилетели с Ханко на истребителях И-16 Цоколаев Геннадий Дмитриевич, Творогов Иван Леонтьевич, Власенко Николай.
Тридцатого сентября прилетели лётчики Лобанов Пётр Дмитриевич, Добряк Георгий Евдокимович, Белорусцев Константин Александрович.
С прибытием лётчиков – ханковцев – жизнь авиаторов Церели пошла веселее. Двадцать второго сентября, в день прибытия ханковцев, старший лейтенант Смирнов повёл своих лётчиков на «Чайках» в решающий бой.
Они увидели немецкую батарею и сбросили на неё смертоносный груз. В это время на них набросились десять Ме-109, четыре Ю-88, а внизу на бреющем пролетали два Хе-115.
Семёнову удалось сбить одного Хе-115 с первой очереди реактивными снарядами. В этот момент на него напали одновременно два Ме-109. Семёнов моментально развернулся на одного, как позволяла «Чайка», послал один снаряд PC, и «мессер» разлетелся на куски. Второй фашист не захотел разделить участь своего товарища, убрался восвояси.
Двадцать третьего сентября Цоколаев и Семёнов атаковали Ю-88, задний стрелок отстреливался, разбил верхний цилиндр мотора Семёнова, но это не помешало отправить гитлеровцев в гости к Нептуну. Их на самолёте было четверо.
На штурмовку передовой полетели вместе с лётчиками 12-й КОИАЭ ханковцы. Стало веселее на душе. Но каждый раз их преследовали немецкие истребители. В одной из штурмовок передовой в хвост к самолёту И.Творогова зашёл Ме-109. Творогов развернулся моментально правым боевым разворотом и пошёл в лобовую на врага. Разошлись в десяти метрах, оба промахнулись. Снова развернулись и пошли в лобовую. На короткой дистанции промелькнул фашист в линии прицела Творогова. Выстрел из пушек. Иван снова развернулся в атаку, но фашист уже беспорядочно падал вниз.
Так сражались лётчики с превосходящим противником.
Двадцать второе сентября был днём выдающихся побед. Было сбито в воздушных боях пять вражеских Хе-115, один Хе-126, один Ю-88.
Вторая попытка фашистов высадить морской десант
Гитлер торопил своих генералов ускорить захват острова Эзель. Ему крайне нужно было высвободить войска и пустить их на взятие Ленинграда. У генералов этого не получалось, русские оказывали яростное сопротивление, не хотели отдавать советский остров Эзель. Первая попытка высадки морского десанта на Эзель в районе бухты Лес провалилась и обошлась им дорого.
Двадцать седьмого сентября они решили повторить операцию высадки десанта, место высадки снова выбрали полуостров Церель.
Для встречи непрошеных гостей тщательно готовилась 315-я береговая батарея, островная авиация 12-й КОИАЭ, отряд торпедных катеров. Об этой операции вспоминали командиры торпедных катеров Герои Советского Союза А.И.Афанасьев и А.И.Тарасенков. Вот их воспоминания:
«Двадцать седьмого сентября 1941 года на остров Эзель была двинута целая эскадра фашистских кораблей. Во что бы то ни стало, они хотели прорваться в советские воды, неся смерть и разрушения. Вот идёт крейсер «Кельн», вот появился эсминец типа «Ганс Людерман», вот целая пятёрка миноносцев типа «Лабрехт Маас»…
Вот они врываются в бухту и начинают обстрел наших береговых батарей. Они пытаются сломить дух защитников Эзеля. Им отвечает мощная артиллерия капитана Стебеля. Идёт артиллерийская дуэль. Непоколебимым строем идут на врага торпедные катера. Немцы пускают в дело самолёты. Один, второй, третий раз налетают на катера немецкие «асы», тщетно пытаясь заставить их отказаться от атаки. Напрасные усилия!
Катерные боцманы ведут жестокий пулемётный огонь. Бросаются в бой наши истребители. Авиация немцев вынуждена обороняться. Путь к кораблям противника очищен. Две торпеды Афанасьева уже стремительно идут на фашистский крейсер. Ещё одну торпеду в ту же цель направляет лейтенант Ущев. Попали!
Корма фашистского крейсера опускается вниз, нос его задирается кверху, корабль идёт на дно. Так был потоплен фашистский крейсер в шесть тысяч тонн водоизмещения. На вооружении его стояли девять 150- миллиметровых пушек, шесть 88-миллиметровых, восемь 37- миллиметровых, 12 торпедных труб и 4 пулемёта. Остальные торпедные катера прикончили ряд немецких миноносцев. Эта операция – блестящий пример победы советского катерного оружия».
Вот так А.И.Афанасьев и А.И.Тарасенков описали этот бой.
Катерники во взаимодействии с авиацией показали, что Балтийский москитный флот может наносить удары и быть почти неуязвим.
В этой операции активно действовали лётчики: старший лейтенант П.П.Смирнов, старший лейтенант П.Г.Семёнов, лейтенант П.А.Дорогов и лейтенант А.А.Ильичёв.
Над советскими катерниками висели в воздухе девять фашистских самолётов Ме-109. С появлением «Чаек» им пришлось больше думать о себе, они знали, что это плохо кончится.
Фашистский торпедоносец Хейнкель-115 тоже пытался нанести удар торпедами по нашим катерам, но увидев «Чаек» – уклонился. Полетав в сторонке, он снова появился над нашими катерами, и тогда Семёнов атаковал его. От атаки завернулась вверх плоскость фашиста, и с такой плоскостью он падал до самой воды, пока не скрылся в ней бесследно.
В этом бою, по данным архива ОЦВМА, фонд 122, дело 13830, были уничтожены фашистские самолёты, один Хе-115, один Ме-109.
О действиях катерников в этом бою пишет мичман Н.К.Горбунов:
«Двадцать седьмого сентября в бухте Лыу произошёл морской бой наших торпедных катеров с немецкими кораблями. Пять фашистских миноносцев и один крейсер начали обстреливать 315-ю батарею и боевые порядки защитников Церельской линии обороны.
Для ведения точной стрельбы фашистский крейсер встал на якорь. Поступила команда торпедными катерами атаковать вражеские корабли. Командовал торпедными катерами старший лейтенант В.П.Гуманенко. Своё место в бою он определил на катере Б.Ущева. Перед катерниками он поставил задачу: лейтенанту Ущеву и главстаршине А.А.Афанасьеву на катерах потопить крейсер. Катерникам лейтенанту В.Налётову и Н. Кременскому взять на себя корабли охранения.
В море катерники увидели вражеский ордер во главе с крейсером типа «Кельн» и с ним полдюжины кораблей охранения.
Крейсер стоял на якоре и вёл обстрел нашей обороны. Вокруг него ходили переменными курсами пять миноносцев.
Катер главстаршины А.Афанасьева стремительно вырвался вперёд и начал ставить дымовую завесу, фашисты открыли по нему огонь, вода закипела от фашистских снарядов. Увидев опасность, крейсер начал сниматься с якоря. Наши катера всё время ходили противоартиллерийским зигзагом, дымовая завеса помогала сблизиться с врагом, всё это мешало фашистам вести прицельный огонь.
Первым устремился в атаку катер Н.Кременского, выпустил две торпеды в ближайший миноносец. Катер лейтенанта Б.Ущева пошёл в атаку на крейсер, и вдруг, из дымзавесы наперерез катеру выскочил лидер. Тогда Ущев выпустил одну торпеду по лидеру, вторую по крейсеру. Катер лейтенанта В,Налётова атаковал два миноносца, охранявших крейсер с веста. Кругом стоял сплошной дым. Катера повернули на обратный курс. На обратном пути следования они увидели подбитый вражескими снарядами катер лейтенанта Н.Кременского. Подошли и сняли всех с катера, а сам Кременский снял флаг и с ним вплавь добрался до катера Ущева. Бой с вражескими кораблями длился всего семь минут.
Были потоплены два эсминца, вспомогательный катер, был подорван лидер. Оставшиеся суда фашистов повернулись обратно, унося свой позор».
Забытая гармошка

Воентехник 2-го ранга 12-й КОИАЭ Григорий Иванович Запевалов, 1943 г.
На полуострове Церель вечерело. Уставшее солнце заходило за горизонт, бросая последние лучи на верхушки деревьев. Боевой день подходил к концу. Лётчики прилетали с передовой и ожидали машину для отправки на ночлег. К ним подошли свободные авиаспециалисты услышать рассказы о бое, но никто не начинал разговор. Все стояли молча, лица были суровые, уставшие. На земле лежала заброшенная всеми гармошка-хромка. Никто не дотрагивался до неё с тех пор, как немцы прорвали последнюю линию обороны.
Подошёл воентехник Григорий Вапевалов. Никто не повернулся в его сторону, каждый думал о своём. Григорий увидел брошенную гармошку, и ему стало жалко её. Он поднял, ладонью смахнул пыль, посмотрел на кнопки, надел на плечо ремень и растянул меха. Гармошка подала голос, будто заплакала, жалуясь. Григорию захотелось поднять боевой дух защитников. Он свободно развернул меха и заиграл «Раскинулось море широко». В вечерней тишине звуки усиливались и неслись прямо к морю. Оно было рядом, высокий маяк стоял в конце церельской косы, а дальше была необъятная синь. Горбатые волны набегали на промытые камешки, они шуршали, двигались, как живые. Чудесница русская хромка болью отозвалась в сердце каждого, вспомнились деревенские вечера, голосистые песни девушек. Она разбередила забытые, огрубевшие чувства. Гриша заиграл мелодию другой русской песни «Славное море, священный Байкал». Моторист Вапевалов постоянный участник художественной самодеятельности, широкоплечий русский парень, запел эту песню во всю мощь своего голоса. Песня, как кинжал, разрезала мёртвую тишину опалённого берега. Многие стали подпевать, кто голосом, а кто просто губами. Сила и отвага слышались в словах и музыке песни о мужестве и желании обрести свободу.
«Вот так надо бороться за жизнь!». – Подумали все стоявшие рядом защитники.
На звук гармошки пришла актриса Телегина. Она весь день не знала, куда себя деть, в шутку просила подполковника Кудрявцева подвесить её вместо бомбы и сбросить на цель. Все её знали по кинофильму «Учитель», где она сыграла роль простой женщины. Её активное участие в песне и добродушная улыбка поднимали настроение, она была единственной женщиной в хоре. Песня подходила к концу, простившись, сели в машину и уехали. Ушла и Валентина Петровна Телегина.
Прощальная встреча
Ночь. Свежий сентябрьский ветер покачивал рули и элероны «Чайки». От этого она становилась похожей на ночную бабочку, а ветер дул в уши и будто торопил: «Кончайте работу! Поздно! Заканчивайте скорее!». Много дел было у Егора и Жени Селецкого. Пробоин было много, и надо было проследить движение пуль и осколков, не нарушили ли они живучесть самолёта. Но дело двигалось к концу, Женя уже начал промывать бензофильтры.
– Слава аллаху! – сказал Егор, и вытер руки ветошью.
Погас мерцающий огонь миниатюрной лампы-переноски. К ним бесшумно подошли два матроса, ночью их было трудно узнать.
– Здравствуйте, стартех! Здравствуй, Женя!
– О, да это Саша Курамшин, Толя Орлов! Вот так встреча!
– Мы тоже не думали, что придётся встретиться, – сказал Саша, – а вот встретились.
– Рассказывайте, что там на передовой?
После того, как оружейники младшие мастера Курамшин и Орлов после реконструкции самолётов оказались не у дел, их отправили на сухопутный перешеек обороняться от наседавших фашистов. Егору и Жене казалось, что пришли они с того света. Сообщили, что у оборонявшихся кончились боеприпасы, и яростные атаки фашистов отбиваются только штыками. Говорили без тени уныния и ропота на судьбу. Курамшин положил на плечи Егора свои широкие ладони, пристально посмотрел в глаза и сказал:
– Теперь не обидно и умереть, за мою одну жизнь фашисты отдали не менее сотни. Поплатились, в рукопашной колол штыком их нещадно!
– Мы с Сашей везде вместе, – сказал Анатолий, – и в атаку ходим плечом к плечу. С ним не страшно, он успевает прикончить наседающих и на него, и на меня. И я стараюсь не отставать! Считайте, что Александр Курамшин национальный герой, русский богатырь! Расскажите об этом всем.
Он дружески толкнул Александра в плечо, тот и не шелохнулся. Егор вспомнил, как Курамшин в Липово сидел на занятиях. Широкоплечий парнище с волжским оканьем, с тёмными глазами и аккуратной причёской, всегда безукоризненно чистый и подтянутый. Очень ему шла краснофлотская форма. Отвечал неторопливо, рассудительно, а смех его можно было отличить от всех, так могут смеяться только дети. Наговорившись, Егор предложил остаться на ночлег на брезентах, но ребята отказались.
– Надо вернуться пока темно, – сказал Курамшин, – но у меня есть просьба.
– Какая, говори, всё сделаю, – ответил Егор.
– Если узнаете, что я больше не приду… напишите письмо по адресу: Куйбышевская область, Богдашканский район, село Русские Веденья, моему отцу Курамшину Илье. От них узнает обо мне жена.
– И мои данные запишите, – попросил Анатолий, – Орлов Анатолий Фёдорович, комсомолец, русский, 1920 года рождения, Калининской области Кировского района, деревня Сенище, призывался в Кировском РВК, рабочий.
– Будем надеться на победу и на встречу после войны, адреса я сохраню, – ответил Егор.
После этой встречи война длилась почти четыре года, записная книжка претерпела все тяготы войны, побывала под дождём, истёрлась. Восстановить адреса удалось только через Центральный военный архив, и когда Егор послал письмо по этому адресу, пришёл ответ, что Курамшин Илья по данному адресу не проживает.
На церельском перешейке тринадцатый дивизион КМТЩ
Двадцать первого сентября старшего лейтенанта Д.А.Овсянникова принимали в партию. В жизни каждого это событие знаменательно. Вернулся с собрания Дмитрий Апексимович в приподнятом настроении. Всегда бодрый, собранный, неунывающий по натуре, он вселял оптимизм и в окружающих. Его подчинённые из 13-го дивизиона КМТЩ знали, что в этот день, двадцать первого сентября его день рождения. Все тепло его поздравляли, а военком БОБРа П.Ф.Зайцев преподнес ему в подарок автомат.

Командир 2-го звена КМТЩ старший лейтенант Дмитрий Апексимович Овсянников
В блиндаже его окружили бойцы, он сидел рядом с автоматом, в руке держал трубку с головой Мефистофеля, всем хотелось услышать, что скажет их любимый командир. Тихо и задушевно он начал свой разговор:
– Товарищи мои дорогие, этот автомат мне дали в руки, чтобы я ещё крепче бил фашистов. Сегодня меня приняли в партию, теперь я не только командир Балтики, но и рядовой коммунист, и вместе мы будем биться с врагом до последнего вздоха. Спасибо вам за тёплые поздравления.
Он достал серебряный портсигар и всех угостил папиросами. Потом посмотрел на часы, и сказал:
– Пора приготовиться к встрече с незваными гостями.
Фашисты не заставили долго ждать. Появились бомбардировщики, затем артподготовка, и показались вооружённые головорезы. Бойцы третьей стрелковой бригады, которой командовал полковник Пётр Михайлович Гаврилов, а на поле боя полковник Николай Фёдорович Ключников, приняли бой, отбили вражеские атаки и бросились в контратаку. За ними пошли все сводные отряды и подразделения.
С левого фланга из огневой точки, оборудованной немцами в виде дзота, обрушился ливень огня. Все атакующие матросы и бойцы залегли. Наши артиллеристы не могли накрыть эту точку, атакующие оказались на ничейной полосе между нашей обороной и гитлеровской. Создалось критическое положение. Тогда командир отряда Овсянников приказал Н. Горбунову:
– Подбери людей из группы захвата, гранатами уничтожьте эту пулемётную точку.
Николай взял тех, которых знал: Н.Жильникова, М.Долгих, Г.Гаманюка. Разделились по два человека, справа и слева, и стали ползти к фашистскому дзоту. Их поддерживали огнём из оставшегося орудия. Время тянулось медленно, казалось вечностью. Наконец, достигли дзота. Бойцы ждали действий и делали отвлекающий маневр. Жильников и Долгих бросили гранаты в амбразуру дзота. Не давая врагу опомниться, забрасывают гранаты Гаманюк и Горбунов. Вражеский пулемёт заглох. Наши бойцы поднялись во весь рост и в неистовом атакующем порыве выбили фашистов с позиции, закрепились на отвоёванном рубеже. Георгий Гуманюк был убит, но его жизнь была отдана не зря. Фашисты понесли огромные потери Недолго продержались бойцы на отвоёванном рубеже. Снова бомбёжки, миномётные обстрелы, грохот орудий и мощные взрывы. Защитникам нечем было ответить, при бомбёжке вышло из строя последнее орудие.
Двадцать пятого сентября на взлётную площадку полуострова Церель сели два транспортных самолёта. Они доставили из Ленинграда боеприпасы и продовольствие, на обратном пути взяли раненых. Это была последняя связь с материком. Она, как тонкая ниточка, оборвалась, и больше не восстанавливалась. На передовой шли упорные кровопролитные бои. Обречённые на неизбежную гибель, защитники героически отдавали последние усилия. В момент, когда силы защитников были на исходе, и отбить атаку было нечем, в бой неожиданно вступили моряки, прибывшие с острова Висланди. Это решило исход боя. Враги увидели моряков, которых они называли «Чёрная смерть», и сразу обратились в бегство. Во главе моряков шёл старшина первой статьи Осметченко. Моряки не только отбили атаку, но и прогнали врагов на их линию обороны. Семь раз фашисты врывались, но закрепиться на отвоёванных рубежах не могли. На поле боя лежало неубранными более шестисот фашистских трупов.
Тридцатого сентября защитники были оттеснены на последний рубеж Каймри-Рахуста. Кончились патроны, не стало артиллерии, нет снарядов, пища подавалась нерегулярно, окопные командиры ничего не могли сказать обнадёживающего. Каждый боец понимал безысходность положения, но никто никому не жаловался, не проявлял своей слабости. Принимали всё молча, как должное. Первого сентября не у всех были патроны. Фашисты просачивались через рубеж обороны, обстреливали бухту Менту. К вечеру этого дня фашисты вели бой с разрозненными группами. И всё же бои были жестокие, рукопашные. У каждого осаждённого было только одно желание – убить врагов, и как можно больше. Если придётся умереть, то только на поле боя, только не плен. Эту участь делили все вместе, и бойцы, и их окопные командиры. Они ничего не могли сказать утешительного, подкрепления не ожидалось.
Мужественные, стойкие, непокорённые, чистые перед народом и Родиной, бойцы оказались на положении героев – одиночек. Суровое лихолетье войны захлестнуло их, и здесь им суждено было биться с врагом до последнего дыхания, спасая Ленинград, а с ним всю Родину.
Убили авиатехника А.И.Новикова
26 сентября 1941 года. Авиаплощадка полуострова Церель.
К налётам фашистских самолётов многие привыкли. Смерть не казалась страшной и неизбежной.
– Будь что будет, – думал каждый, – что положено тебе, то и будет.
При налёте фашистских самолётов не все уходили в укрытия, которыми служили щели – небольшие канавки, вырытые в земле на глубину полметра. Глубже была грунтовая вода.
По стоянке самолётов, замаскированных сучьями деревьев, проходил инженер эскадрильи Степан Филимонов. Его приход к технику был связан с ремонтом самолёта, как при нехватке запчастей найти выход.
В небе появились фашистские самолёты. Они летели над кромкой берега и сбросили авиабомбы без стабилизаторов. Всем казалось, что бомбы упадут в море, не достигнув цели. Но при снижении ветер гнал их на сушу. Вот уже совсем близко. Техники и мотористы стали укрываться в щелях. Недалеко от самолёта Егора находилась щель, куда укрылся электрик эскадрильи воентехник Аркадий Иванович Новиков. Когда бомба была совсем близко, Аркадий закричал:
– Егор, скорей сюда, на тебя летит бомба!
– Будь что будет, – ответил Егор, не глядя на бомбу.
Земля вздрогнула, раздался оглушительный взрыв. Егора завалило камнями и землёй с грязью. Он хотел выбраться, но всё закружилось, и Егор снова уткнулся лицом в землю. Когда пришёл в себя, привстал на колени, чтобы преодолеть силу земного притяжения. Хотел смахнуть грязь с лица, увидел кровь, и только тогда понял, что ранен. Посмотрел в сторону щели, где укрывался Аркадий, перед ним была огромная воронка с вывернутыми корнями деревьев, и никаких признаков, что здесь был человек, только на дереве несколько клочков одежды. Кровь заливала глаза, лицо пылало от боли, в голове бил колокол. Он пошёл в сторону землянки медпункта.
– Ранение и контузия, – сказал военфельдшер В.Озёрный.
Удалить грязь и кровь ватным тампоном он не мог из-за сильного кровотечения.
– Надо ехать в госпиталь.
К воронке подошли авиаторы, сняли головные уборы в знак скорби о погибшем Аркадии Ивановиче Новикове, вспомнили его тёплую заботу о товарищах.
Военфельдшер В.Озёрный и раненный Егор подъезжали к большой палатке, которая называлась госпиталем. Вокруг стояла огромная вереница носилок с ранеными, некоторые стонали, другие ругались. Раненых в голову принимали в первую очередь, и Егор с Озёрным оказались в числе первых. Егора положили на стол, покрытый многоразовой простынёй, обработали рану на лбу, извлекли небольшой осколок.



