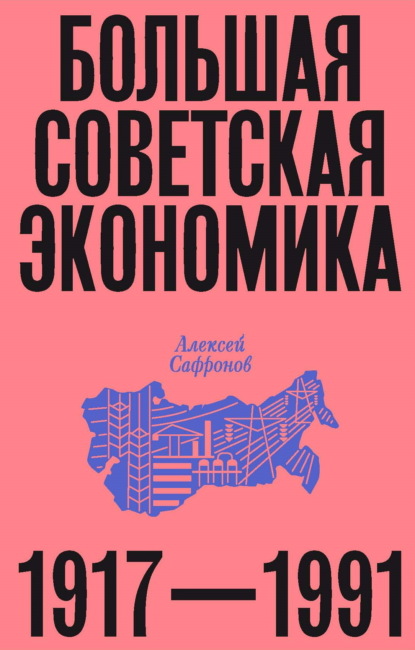
Полная версия:
Большая советская экономика. 1917–1991
В этот раз красноречия Ленину не хватило: на следующий день после его речи, 6 июля, левые эсеры убили германского посла Мирбаха с целью возобновить войну с Германией (и тем самым пересмотреть позорные итоги Брестского мира) и начали восстание в нескольких городах.
Восстание было подавлено, но 30 августа эсеры убили председателя петроградской ЧК Моисея Урицкого и ранили Ленина (по одной из версий, атеросклероз, раньше времени сведший его в могилу, стал результатом повреждения пулей левой сонной артерии [44, C. 59]). В ответ большевики объявили о начале красного террора – взятии заложников из числа представителей имущих классов с расстрелом их в случае продолжения борьбы. Официально красный террор продолжался всего два месяца, но маховик гражданской войны неумолимо раскручивался дальше.
Декретом ВЦИК от 2 сентября 1918 года вся Советская Россия объявлялась военным лагерем, вся ее хозяйственная жизнь подчинялась требованию «Всё для фронта, всё для победы!»
Большевикам надо было экономически обеспечить ведение боевых действий, то есть вооружить, одеть и накормить Красную армию, в условиях, когда денежная система была развалена, рабочие голодали и разбегались из городов, основные запасы топлива и крупнейшие производственные районы были потеряны, а хлеб приходилось отбирать силой у деревни.
В таких явно ненормальных условиях и сформировался комплекс экономико-политических мер, названный военным коммунизмом. Последний решал, по существу, одну задачу – обеспечить победу большевиков в гражданской войне. При нехватке всех видов ресурсов для ее решения требовалась их максимальная централизация, чтобы они тратились только на самые неотложные нужды. Здесь авральная национализация оказалась полезной – запасы сырья и материалов со всех национализированных предприятий образовали единый фонд, за счет которого можно было маневрировать.
Органы управления периода военного коммунизма
Характер военного коммунизма иллюстрируется названием одного из основных хозяйственных органов этого периода – Комиссии использования. 13 июля 1918 года в связи с началом гражданской войны вышло постановление СНК об образовании Центральной междуведомственной комиссии по распределению эвакуированного, эвакуируемого, подлежащего эвакуации и демобилизованного имущества при Всероссийской чрезвычайной эвакуационной комиссии. Опыт по распределению пригодился быстро. 21 ноября был издан декрет СНК «Об организации снабжения населения всеми продуктами личного потребления и домашнего хозяйства», которым была запрещена частная торговля. Снабжение должно было производиться по единому плану использования всех производимых в стране и импортируемых продуктов [45, C. 36]. Для составления этого тотального плана и была создана Комиссия использования ВСНХ, которую возглавил Ларин, один из авторов-идеологов декрета «Об организации снабжения».
«Этот комитет устанавливает для каждого продукта, сколько его должно быть передано для Красной армии, сколько для распределения среди населения, сколько употреблено на премирование заготовок и рабочих, сколько на технические нужды, сколько передано в экспортный и сколько в резервный фонд; он рассматривает и утверждает материальные сметы, устанавливает порядок снабжения, численность различных категорий населения, нормы снабжения этих категорий (рабочих, крестьян и так далее), средние нормы натурального премирования заготовок и труда и так далее» [40, C. 137].
Ларин упоминает три других главных хозяйственных органа того периода:
• Центральная производственная комиссия при президиуме ВСНХ, проверяющая и устанавливающая производственные программы отдельных отраслей хозяйства.
• Главный топливный комитет при президиуме ВСНХ (Главтоп), определяющий размеры заготовки и снабжения топливом всех потребителей.
• Высший совет по перевозкам при СНК.
Поскольку речь шла о загрузке уже существующих предприятий, технический расчет расходования продукта или материала на единицу выработки на них уже был в общих чертах известен. Потребности в топливе, сырье, материалах конкретизировались и уточнялись Центральной производственной комиссией. Всеми ресурсами, кроме топлива, ведала Комиссия использования, поэтому лимиты сырья и материалов, а также лимиты топлива, выделяемые Главтопом, фактически и определяли производственную программу. Высший совет по перевозкам доставлял эти ресурсы на конкретный завод. Всем остальным органам управления оставалось только пустить их в производство. Начало этой практике было положено уже 27 августа 1918 года, когда вышел первый декрет о распределении металла.
Окончательную стройность система обрела в 1920 году, когда для руководства распределением рабочей силы был создан Главный комитет труда (Главкомтруд). Он среди прочего проводил принудительные мобилизации крестьян для строительных, лесозаготовительных и иных работ. Юридически деятельность Главкомтруда была обеспечена введением всеобщей трудовой повинности. Тогда же НКВД начал привлекать к трудовой деятельности заключенных в концентрационные лагеря, а Центральный комитет по оказанию помощи пленным и беженцам, соответственно, пленных и беженцев.
Теперь государство могло маневрировать всеми факторами производства по своему усмотрению.
Непосредственно за производство отвечали главные управления отраслей промышленности ВСНХ (главки), которые представляли собой окрепшие, оформившиеся и обособившиеся секции производственных отделов. Почти каждая отрасль национализированной промышленности имела свой главк, который ею и руководил. Главкам спускалась производственная программа, которую «их» заводы должны были выполнить. Весьма примечательно, что те работники ВСНХ, которые оставили книги о начальном периоде его работы (уже знакомый нам Ларин, а также Л. Крицман) затрудняются назвать точное число главков, указывая, что их было около пятидесяти. Названия этих главков навсегда вошли в золотой фонд русской словесности: Центрошифер, Центрошамот, Главфармазав, Центрощетина, Главжир, Чеквалап (чрезвычайная комиссия по заготовке валенок и лаптей) и другие.
Постепенно от Комиссии использования стали отпочковываться главки, ведавшие по аналогии с Главтопом распределением отдельных видов продукции: Продрасмет, Химснабжение и тому подобные. Многие виды продукции распределялись самими главками на основании поступающих заявок.
16 августа 1918 года при ВСНХ была создана чрезвычайная комиссия по производству предметов военного снаряжения во главе с Леонидом Красиным. Она положила начало созданию параллельной ВСНХ и аналогичной ему структуры, управляющей военными заводами.
В ноябре 1918 года был создан Совет обороны и входившие в него Главное управление продовольственным снабжением Красной армии при Народном комиссариате продовольствия (Главснабарм) и чрезвычайный уполномоченный Совета обороны по снабжению Красной армии (чусоснабарм, должность учреждена 9 июля 1919 года), отвечавший за поставки непродовольственной продукции (обмундирование, вооружение и тому подобное). Высшим хозяйственным органом в области производства вооружений стал Совет военной промышленности (Промвоенсовет), подчиненный чусоснабарму. Единство действий ВСНХ и Промвоенсовета одно время достигалось за счет того, что их возглавлял один и тот же человек – Алексей Рыков. В начале 1920 года после перелома в Гражданской войне Совет обороны был преобразован в Совет труда и обороны (СТО), который должен был стать новой инстанцией, стоящей над всеми уже существующими для согласования деятельности ВСНХ, Промвоенсовета и наркоматов (продовольствия, внешней торговли, финансов и др.).
В целом организационное строительство было одной из тех сфер, где теоретические установки большевиков сильнее всего расходились с практикой. При декларируемом и желаемом всеми единстве хозяйственного плана и хозяйственного центра в реальности органы управления все больше дробились, специализировались и обосабливались.
Руководство ВСНХ, губсовнархозов, районных, кустовых управлений и непосредственно предприятий назначалось по согласованию с профсоюзами, в которые весной 1918 года влились фабзавкомы. Это должно было обеспечивать участие рабочих в управлении. II Всероссийский съезд профсоюзов в начале 1919 года закрепил, что профсоюзы от отстаивания интересов рабочих переходят к управлению хозяйством [29, C. 20]. Если ранее профсоюз объединял работников определенной профессии (железнодорожников, банковских работников и так далее), то теперь – одного предприятия. Это делало отдельный профсоюз более похожим на прежнее правление или совет директоров предприятий, но одновременно объективно снижало его влияние как массовой организации с политическими задачами.
В новой программе РКП(б), принятой VIII съездом партии 22 марта 1919 года, профсоюзам отводилась роль «всего управления всем народным хозяйством как единым хозяйственным целым. Обеспечивая, таким образом, неразрывную связь между центральным государственным управлением, народным хозяйством и широкими массами трудящихся», большевики продолжали утверждать, что власть в государстве – это сами рабочие, и, главное, проводили этот принцип в жизнь.
Все национализированные предприятия делились на три группы. Самыми важными предприятиями (первой группы) главки управляли напрямую, а предприятиям второй группы устанавливали планы производства. Предприятиями третьей группы руководили местные совнархозы. Предприятий первой группы в 1920 году было 2910 единиц [29, C. 27]. Оперативное управление предприятиями второй и третьей группы осуществляли губернские совнархозы. Поскольку предприятий второй и третьей группы было много, для управления ими существовала еще одна промежуточная ступень – районные или кустовые управления, руководившие группами предприятий, либо расположенных на одной территории (районное управление), либо технологически связанных между собой (кустовые).
Предприятия были лишены хозяйственной самостоятельности в оперативной работе и числились на государственном бюджете. Их продукция не поставлялась на рынок, то есть не являлась товаром в классическом марксистском смысле, а поступала в ведение ВСНХ для распределения.
Половина из оставшихся частными предприятий (главным образом мелкие предприятия кустарной промышленности) были объединены единой системой государственных централизованных заказов (20 из 50 отраслей кустарной промышленности), получали от государства сырье и сдавали ему свои изделия. Ларин отмечал, что кустарная промышленность не конкурировала с фабрично-заводской, но дополняла ее, изготавливая такие предметы быта, которые на заводах не производились [40, C. 99]. Это означало, что при загрузке кустарей государственными заказами выпуск товаров ширпотреба сокращался и заменить его было нечем.
Принципы организации работы народного хозяйства во время военного коммунизма
Военный коммунизм был системой управления имеющимися ресурсами и мог существовать до тех пор, пока оставалось, что распределять. По всей стране проводилась инвентаризация; сырье и материалы, которые находились на складах любых ведомств, описывались и учитывались для централизованного распределения на наиболее неотложные нужды.
Такой подход практиковался во всем. Например, 11 июля 1918 года СНК принял декрет о пользовании московскими городскими телефонами. Там говорилось, что, поскольку на городской телефонной станции вышло из строя 50 % оборудования, а нового взять неоткуда, то до лучших времен надо обеспечить телефонной связью 15 тысяч самых важных пользователей, в первую очередь правительственные учреждения, а телефоны в частных домах становятся телефонами общего пользования [33, C. 7].
Можно выделить несколько приемов в управлении экономикой, которые позволили выполнить основную задачу данного этапа.
Маневрирование ресурсами
Это был основной принцип, частными проявлениями которого выступали остальные.
Россия до Первой мировой обеспечивала себя машинами и оборудованием только на 47 % [40, C. 32] (что и стало одной из причин разразившегося в 1917 году хозяйственного кризиса, о котором шла речь в первой главе). Чем дальше, тем больше одни машины служили донорами запчастей для других (так называемая каннибализация оборудования). Из-за нехватки сырья и топлива оборудование работало далеко не на полную мощность, поэтому изнашивалось и ломалось медленнее, чем при нормальной загрузке. Оборудование для двух новых электростанций в Подмосковье, Каширской и Шатурской, строительство которых началось в эти годы, удалось выделить с уже действовавших станций благодаря экономии от перераспределения и объединения. Таким же путем более рациональная организация работы действующих электростанций Московского узла после их национализации позволила усилить их мощность и выделить ресурсы для начала электрификации Брянского промышленного района [40, C. 74]. Когда понадобилось построить железную дорогу для вывоза нефти из района Эмбы, для нее сняли рельсы с нескольких менее важных железнодорожных магистралей [40, C. 59].
Как в военной сфере быстрая переброска армий с фронта на фронт по железной дороге, ядро сети которой осталось в управлении советской власти, обеспечивала красным ключевое тактическое преимущество, так и в промышленности маневрирование объединенными запасами и резервами позволяло при их общем сокращении не допускать обвала выпуска ключевых видов продукции.
Централизация
Все производство каждого вида продукции сосредотачивалось на нескольких наиболее крупных и технически передовых заводах. Другие заводы и фабрики служили донорами основных средств и запчастей, а также сырья и материалов. На данном этапе национализация становится способом обеспечения деятельности этих нескольких заводов: все новые и новые предприятия национализируются не для того, чтобы наладить их работу по единому плану, а чтобы использовать их ресурсы. Если Милютин в мае 1918 года говорил о 521 национализированном предприятии, то к августу 1920 года национализировано было уже 37 тысяч предприятий. По постановлению ВСНХ от 29 ноября 1920 года подлежали национализации все промышленные предприятия с числом рабочих свыше пяти при наличии механического двигателя и свыше десяти без него [46, C. 80]. Это означало, что к концу 1920 года ненационализированных предприятий, ресурсы которых еще можно было забрать и использовать (потому что прямо руководить из Москвы каждой фирмочкой с пятью работниками никто не собирался), почти не осталось.
Средняя численность работников одного фабрично-заводского предприятия благодаря централизации возросла с 67 человек в 1909 году до 194 человек в 1920 году [40, C. 85]. Кроме того, одним из принципов работы стала стандартизация выпуска.
Стандартизация
Каждое предприятие теперь специализировалось на выпуске небольшого количества видов продукции (в идеале – одного), с тем чтобы оптимизировать производственный процесс именно под них, упростить, удешевить и ускорить производство. К примеру, если до национализации на каждой мельнице мололи несколько сортов муки, то теперь каждая выполняла один вид помола. Как результат – «в первой половине 1919 года на мельницах, состоящих в управлении Главмуки, перемалывается в среднем по 4½ милл. пуд. в месяц, во второй половине 1919 года уже по 9½ милл. пуд., в первой половине 1920 года по 15 милл. пуд.» [40, C. 87] (муки от этого, конечно, больше не стало, речь лишь о загрузке мукомольного оборудования).
Экономия
До революции резиновая промышленность Российской империи работала исключительно на привозном сырье (натуральный каучук) и выпускала в основном галоши. Резиновые изделия для промышленности (ремни, рукава, шины, медицинские принадлежности и тому подобное) выпускались в небольшом объеме. При полной загрузке резиновым фабрикам требовалось бы 78 тысяч пудов каучука в месяц, и запасов сырья хватило бы всего на несколько месяцев. Но оказалось, что если запретить выпуск галош как таковой (выпуск галош сначала сократили, а с 1 января 1920 года вообще прекратили), то фабрикам на технические и медицинские изделия потребуется всего 4 тысячи пудов каучука и запасов его хватит на годы (на июль 1920 года оставалось еще 140 тысяч пудов, то есть на три года работы фабрик) [40, C. 89].
Почти 30 % металла уходило на нефабричное производство: продавалось крестьянским кузницам и шло на домостроительство. Когда из-за топливного кризиса и оккупации ряда районов производство металла резко упало, домостроение и продажа металла крестьянам были прекращены. Дефицит металла также означал сокращение снабжения деревни сельхозмашинами, что сказалось на падении урожайности.
В Петрограде к весне 1920 года из 1000 домов с центральным отоплением отапливалось всего 80 – топливо шло почти исключительно на промышленные предприятия [40, C. 62].
В целом режим экономии следовал четкому порядку приоритетов: сначала снабжение военных заводов, потом всех остальных; сначала снабжение рабочих, потом всех остальных.
Использование вторсырья и заменителей
В той же резиновой промышленности для производства новых изделий требовалось всего 25 % нового каучука, остальные 75 % исходного сырья получали за счет переработки старых резиновых изделий, запасы которых были огромны. Аналогичным образом бумажная промышленность в основном работала на макулатуре, причем в макулатуру списали все архивы нотариусов, все документы о правах на землю и иную недвижимость, архивы банков и прочие документы, утратившие смысл при новом строе [40, C. 90].
Запасы свинца и цинка к 1 января 1920 года составляли всего 1 млн пудов, но в стране было много лома цветмета, откуда эти металлы можно было извлекать еще долго [40, C. 63].
Нехватка топлива привела в 1919 году к появлению новой отрасли промышленности – добычи горючих сланцев. По тем же причинам в плане ГОЭЛРО, составленном в 1920 году, важное место занимало развитие торфодобычи: если угольный Донбасс был далеко и оказался разрушен в ходе боевых действий, то в большинстве промышленных районов европейской России (а в плане электрификации страны под Россией понималась только европейская часть) торф находится прямо под ногами. На дрова активно вырубались ближайшие к промышленным центрам леса, для вывоза дров строились временные ответвления от железнодорожных магистралей, уходившие на 20–30 верст в лес. За 1919–1920 годы было введено около 500 верст таких линий [40, C. 93]. В знаменитом романе Н. Островского «Как закалялась сталь» Павка Корчагин совершает свой трудовой подвиг именно на строительстве такой железнодорожной ветки, чтобы не дать Киеву замерзнуть зимой без дров.
Как только был освобожден нефтеносный район Эмбы к северу от Каспия, началось сооружение нефтепровода и железной дороги для вывоза нефти. При этом было допущено временное применение деревянных труб из-за нехватки железных [40, C. 59].
К лету 1918 года в стране иссякли запасы чая и кофе. Подвоз новых поначалу был невозможен из-за блокады, устроенной странами Антанты, а потом советское правительство решило, что есть более важные вещи, чтобы тратить на них валюту. Было начато производство «чайно-кофейного напитка» из цикория, в изобилии произраставшего в Ярославской области [40, C. 87].
Интенсификация
В частных руках любая фабрика работает не на 100 % своей мощности. Сама возможность рыночной конкуренции обусловлена тем, что совокупный выпуск продукции превышает потребительский спрос – иначе потребителю было бы не из чего выбирать. После национализации те фабрики, на которых было решено сосредоточить выпуск, стали работать с загрузкой, близкой к максимальной, – конечно, если для них успевали находить и подвозить топливо и сырье.
На 1 января 1918 года у Советской России было 14 525 «здоровых», то есть исправных паровозов. С потерей Украины и началом гражданской войны к 1 октября 1918 года на подконтрольной Советам территории осталось только 5037 исправных паровозов. Чинить паровозы не успевали, да зачастую было и нечем, и через год, к 1 декабря, в стране осталось 4140 рабочих паровозов – и это при том, что успехи Красной армии вели к расширению подконтрольной территории и, соответственно, увеличению длины железнодорожных линий, по которым можно было что-то перевозить. Если на 1 января 1918 года на тысячу верст сети приходилось 273 паровоза, то на 1 декабря 1919 года – только 88 [40, C. 33]. Чтобы при таком количестве паровозов все же обеспечивать потребности страны, пришлось значительно интенсифицировать работу транспорта: средний вес грузового поезда за год (с 1918 по 1919) вырос на 10 %, суточный пробег – на 14 %, продолжительность оборота вагона сократилась на 17 %. В первом полугодии 1919 года было перевезено на 24 % больше грузов, чем за первое полугодие 1918 года [40, C. 34].
Нормированное снабжение
Еда для рабочих была таким же фактором производства, как топливо и сырье для промышленности, и ее нехватка также лимитировала производство.
Галопирующая инфляция буквально уничтожала зарплату, распад денежной системы и ликвидация банковской системы приводили к натурализации обмена. За один год, с августа 1918 по июль 1919 года, потребительская инфляция в Москве составила 684 %, причем рост цен шел с ускорением: за три осенних месяца 1919 года они взлетели еще на 312 % [40, C. 49]. К 1 января 1920 года в сравнении с мирным временем цены в стране выросли в 750 раз, а в Москве в 3400 раз (!) [40, C. 51].
Для защиты рабочих от инфляции 1 июля 1918 года в Петрограде был введен так называемый классовый паек: карточное снабжение населения. Купить определенный продукт по фиксированной цене мог только обладатель специальной карточки, в которой делалась отметка о покупке. К концу июля карточки были введены во всех населенных пунктах городского типа. Карточки делились на четыре категории снабжения: рабочие, служащие, члены их семей, представители бывших господствующих классов. Проблема заключалась в том, где государству брать продукты для продажи по фиксированным ценам по карточкам.
Уже упоминавшийся декрет «Об организации снабжения населения всеми продуктами и предметами личного потребления» устанавливал, что все предметы ширпотреба, изготовляемые национализированными заводами, поступают в распоряжение Наркомпрода и распределяются им по государственным и кооперативным лавкам, непосредственно распределением заведует Главпродукт (один из главков Наркомпрода). При этом каждый гражданин должен был быть приписан к какой-либо государственной либо кооперативной лавке. Фактически тем самым вводился не только запрет на свободную продажу, но и запрет на свободную покупку. Таким образом, частная торговля была объявлена вне закона – государство старалось извести мешочников и спекулянтов, – но заменить их разветвленным и налаженным аппаратом государственной торговли в тех условиях, конечно, не могло.
Завершился этот процесс 16 марта 1919 года, когда вышел декрет СНК «О потребительских коммунах». Этим декретом в каждом городе и в каждой сельской местности все кооперативы объединялись в единый распределительный орган – потребительскую коммуну. Все население конкретного города или сельской местности включалось в нее, а распределительные пункты (лавки) всех «старых» кооперативов теперь подчинялись единой коммуне данной местности. Смысл декрета состоял в ликвидации нескольких параллельных каналов снабжения (по линии Наркомпрода, рабочей кооперации, общегражданской кооперации).
В первую очередь режим экономии привел к сокращению производства товаров ширпотреба. Кроме того, после запрета частных лавок сама организация торговли стала хуже, государственная и кооперативная сеть не могли «в момент» заменить частника. С другой стороны, все излишки у крестьян изымались в порядке госзаготовок, жесткость которых все более усиливалась. Наркомпрод должен был централизованно получать на предприятиях определенный фонд промышленных товаров для обмена на хлеб. Но получать за предназначенные для обмена на хлеб промтовары удавалось стабильно меньше, чем планировалось.
Из-за этих проблем в январе 1919 года изъятие хлебных излишков заменяется разверсткой – теперь государство старается изъять у крестьян не все сверх необходимого минимума (потому что на практике определять размеры крестьянских запасов оказалось слишком трудно, что позволяло крестьянам обманывать заготовителей), а объем, необходимый государству, – уже не заботясь, останется крестьянам тот самый минимум для проживания или нет.
Государственная монополия на хлеб была расширена. С 1920 года она стала распространяться на картофель, скот, дичь, овощи, творог, молоко, мед и другие продукты. Все они теперь официально могли закупаться только органами Наркомпрода согласно разверстке. В случае несдачи установленных разверсткой количеств взыскание недоданного проводилось принудительно продотрядами. Крестьянские потребительские общества снабжались промтоварами только после выполнения обществом его доли разверстки.



