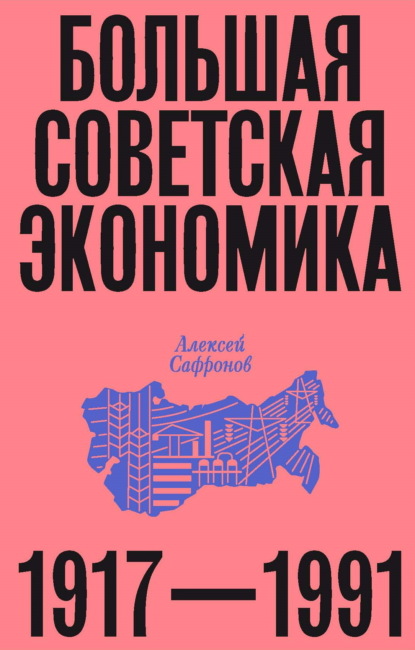
Полная версия:
Большая советская экономика. 1917–1991
По данным В. Милютина, к 1 июня 1918 года было национализировано 521 предприятие, причем ВСНХ и СНК национализировали только 20 % из них, остальное было инициативой местных и областных организаций [34, C. 85]. Для управления предприятиями в ВСНХ создавались центральные органы регулирования и управления отдельными отраслями промышленности – главки.
После заключения Брестского мира с Германией в марте-апреле 1918 года Ленин в ряде работ ставит задачи по организации хозяйства и замедлению темпа национализации, чтобы наладить управление уже перешедшими в государственную собственность предприятиями.
С 26 мая по 4 июня 1918 года проходил первый Всероссийский съезд совнархозов, в постановлении которого было закреплено, что «проведеніе націонализаціи должно быть лишено случайнаго характера и можетъ проводиться исключительно или В.С. Н.X. или Сов. Нар. Ком. по заключенію Высш. Сов. Нар. Хоз.» [34, C. 87], но вместо замедления темпов национализации ради налаживания работы уже национализированных предприятий в реальности ситуация стала развиваться прямо противоположным образом. Причин этому было две: Юрий Ларин и Брестский мир.
Уже в январе 1918 года Ларин передал по прямому проводу в Харьков «огульное распоряжение национализировать горные предприятия Донбасса», чему решительно воспротивился президиум ВСНХ, в который он входил (из чего следует, что президиуму Ларин о своих намерениях не доложил) [31, C. 21].
Тактика «поставить всех перед фактом» была развита Лариным в Берлине, куда он отправился в июне 1918 года в составе делегации, в которую также входили Н. Бухарин и Г. Сокольников. Делегация должна была обсудить с немцами экономические условия Брестского мира.
В апреле 1918 года вышел декрет Совнаркома о регистрации ценных бумаг, включавший пункт о возмещении в конкретных случаях бывшим владельцам фабрик и заводов их стоимости в тех размерах и с теми условиями, которые определяются законом о национализации [2, C. 210]. Но выплачивать компенсации всем капиталистам советская власть была не готова. А по условиям Брестского мира германским гражданам, потерпевшим убытки вследствие отчуждения имущества, полагалась компенсация [35, C. 420]. Это касалось и закрытых царской, и национализированных советской властью немецких предприятий. В результате русские фабриканты стали продавать свои предприятия немцам, надеясь таким образом выручить за них хоть что-то, а немцы покупали их, рассчитывая на компенсацию в случае национализации, обещанную условиями мирного договора [36].
Советская делегация как раз и должна была прояснить эти болезненные вопросы. Ларин не подвел: «Приехав в июне 1918 года в составе советской делегации в Берлин для переговоров об отношениях после Брестского мира, на первый же вопрос немецкого представителя о наших намерениях я указал, что произойдет национализация всех акционерных промышленных предприятий. Это вызвало сразу конфликт внутри русской делегации, во-первых, и протест немцев, во-вторых. Немцы заявили, что они готовы терпеть национализацию лишь того, что конфисковано до сих пор, и то при условии вознаграждения владельцев, а всякая национализация после 1 июля (до которого оставалось несколько дней) ими отвергается, а тем паче общая национализация всех акционерных предприятий» [31, C. 30].
Полномочный представитель РСФСР в Германии Адольф Абрамович Иоффе послал Ленину телеграмму с просьбой дать ему полномочия отправить Ларина обратно в Москву, так как работать «с ним невозможно» [37, C. 431], но дело было сделано – ВСНХ был вынужден в авральном режиме за несколько дней подготовить декрет об общей национализации промышленности, с тем чтобы национализировать все, что можно, до 1 июля 1918 года. Именно в таких условиях и появился 28 июня декрет СНК о всеобщей национализации.
Проблемой национализированной (и совершенно расстроенной к лету 1918 года) промышленности было то, что теперь содержать ее нужно было государству, у которого совершенно не было на это средств. Очевидная невозможность для молодого государства наладить работу сотен национализированных предприятий привела к появлению летом 1918 года парадоксального постановления ВСНХ, которым предписывалось мелкие и средние национализированные предприятия «признавать находящимися в безвозмездном арендном пользовании прежних владельцев. Правление и бывшие собственники финансируются на прежних основаниях» [2, C. 211].
Очень многие экономические мероприятия советской власти и в начальный, и в последующие периоды ее существования во многом были ответом на складывающиеся обстоятельства и лишь отчасти – реализацией коммунистических идей. Так произошло и с переходом к нормированному распределению.
Нормирование производства и потребления
До войны основными центрами добычи угля для всей Российской империи были Польша и Донбасс. Там же находились крупнейшие промышленные центры. Потеря польского угля стала одной из основных причин экономических проблем России во время Первой мировой. Украинская Центральная рада не признала октябрьский переворот, и уже 7 (20) ноября 1917 года была провозглашена Украинская народная республика, которая 27 января (9 февраля) 1918 года подписала с Германией сепаратный мир. В соответствии с ним в обмен на военную помощь против советских войск Украина обязалась поставлять Германии сырье и продовольствие. По Брестскому миру РСФСР обязывалась вывести войска из Финляндии (которая получила независимость 31 декабря 1917 года, после чего там сразу же началась гражданская война) и Украины, а также отказаться от притязаний на Прибалтику. РСФСР теряла порядка 56 млн человек, треть пашенных земель, текстильной промышленности, 70 % металлургии и почти 90 % добычи угля.
В. Милютин, докладывая об этом делегатам Первого съезда совнархозов, утверждал, что оставшегося хватит для выживания при условии ликвидации всяких непроизводительных трат топлива, чугуна, стали и других видов сырья, что потребует сконцентрировать все ресурсы исключительно на производительных целях. Он указывал, что обеспечить такую концентрацию может только социалистическая система [34, C. 58]. Так складывались предпосылки для будущей централизации всей экономической жизни.
Первым шагом этой централизации стало постановление СНК от 29 декабря (11 января 1918 года) о разрешительном порядке ведения внешней торговли, которое 22 апреля 1918 года сменил декрет СНК о монополии внешней торговли.
Монополия преследовала несколько целей: пресечь вывоз дефицитных ресурсов за рубеж, сосредоточить доходы от продажи импортных товаров внутри страны в руках государства, усилить переговорные позиции советской стороны в торге с иностранцами за счет укрупнения заказов и ликвидации конкуренции со стороны других российских покупателей. Монополия продолжала курс, начатый еще царским правительством, которое в период войны сначала ввело лицензирование внешнеторговой деятельности, потом взяло импорт военного сырья в свои руки, а в 1916 году обязало экспортеров вносить свои валютные поступления на счета Министерства финансов [38, C. 55].
Для организации внешней торговли при Народном комиссариате торговли и промышленности создавался Совет внешней торговли из представителей наркоматов, главков, кооперативов, профсоюзов, торгово-промышленных организаций. Наркомторг должен был вырабатывать план товарообмена с заграницей, а Совет – реализовывать его, организуя, с одной стороны, закупку товаров за границей, а с другой – заготовку и закупку российских товаров через главки, кооперативы или собственных представителей [34, C. 81].
В «Очередных задачах советской власти» в апреле 1918 года Ленин пишет: «Социалистическое государство может возникнуть лишь как сеть производительно-потребительских коммун, добросовестно учитывающих свое производство и потребление, экономящих труд, повышающих неуклонно его производительность и достигающих этим возможности понижать рабочий день до семи, до шести часов в сутки и еще менее. Без того, чтобы наладить строжайший всенародный, всеобъемлющий учет и контроль хлеба и добычи хлеба (а затем и всех других необходимых продуктов), тут не обойтись… Каждая фабрика, каждая деревня является производительно-потребительской коммуной, имеющей право и обязанной… по-своему решать проблему учета производства и распределения продуктов… Образцовые коммуны должны служить и будут служить воспитателями, учителями, подтягивателями отсталых коммун» [39, C. 185, 191].
Таким образом, Ленин мыслит социализм как ассоциацию трудовых коллективов. Но поскольку для наилучшей организованности требуется согласованная работа десятков тысяч людей, неизбежно их «беспрекословное подчинение единой воле для успеха процессов работы, организованной по типу крупной машинной индустрии», подчинение «воли тысяч воле одного. Это подчинение может, при идеальной сознательности и дисциплинированности участников общей работы, напоминать больше мягкое руководство дирижера. Оно может принимать резкие формы диктаторства, – если нет идеальной дисциплинированности и сознательности» [39, C. 200]. Ленин призывает привлекать к управлению «буржуазных специалистов», платить им большие зарплаты – лишь бы скорее наладить «учет и контроль» производства и распределения. Также он ставит вопрос о трудовой повинности – в первую очередь для богатых – как способа контроля за источниками их дохода, а затем для всех – как способа установления трудовой дисциплины.
К сожалению для Ленина, в реалиях 1918 года народные массы были явно не настолько сознательны, чтобы централизация хозяйственной политики прошла в формах, напоминающих работу дирижера. Более того, несогласие с Брестским миром и с вопросом о дисциплине и централизации привело партию левых эсеров к разрыву с большевиками, которые с весны 1918 года становятся единственной правящей партией.
Двумя главными препятствиями к восстановлению промышленности (помимо укрепления дисциплины) были нехватка хлеба для рабочих и топлива для заводов (или, как тогда говорили, «хлеба для машин»). Принятый в день захвата власти Декрет о земле теоретически означал политическую победу крестьян в вековой битве за землю, но его реализация привела не только к упрочению позиций советской власти в деревне, но и к резкому падению объемов производства товарного хлеба. Крупные помещичьи и кулацкие хозяйства производили хлеб в основном на продажу. Раздел земли помещиков между крестьянами привел к незначительному увеличению крестьянских наделов, и почти вся эта небольшая прибавка пошла на улучшение питания крестьян. Во многом выигрыш был в буквальном смысле съеден беглецами из городов, которые увеличили численность сельского населения.
В целом же от уравнительного перераспределения техника обработки земли ухудшилась (самые передовые сельхозмашины были как раз у помещиков и кулаков) [40, C. 11]. Кроме того, резко сократились площади посева технических культур, например льна, чему также способствовало расстройство общего рынка хлеба: губернии, которые раньше сеяли в основном технические культуры и жили на привозном хлебе, теперь старались обеспечить им себя самостоятельно. Свой вклад внесла и дезорганизация вследствие войны и революции. В результате в 1918–1919 годах потребление крестьян составило 96 % от довоенного, а вот потребление горожан – всего 60 % [40, C. 25]. Очевидно, что призывы к дисциплине труда на голодающих рабочих действовали мало.
Проблема снабжения населения продовольствием встала во весь рост еще перед царским правительством. Министр земледелия А. Риттих 29 ноября 1916 года подписал постановление о хлебной разверстке, то есть о принудительном сборе определенных объемов хлеба с каждой губернии и каждого уезда. За собранный хлеб крестьянам платили, но цена была ниже рыночной. Временное правительство приняло закон о хлебной монополии, но оказалось не в состоянии воплотить его в жизнь. На второй день после Октябрьской революции был создан Народный комиссариат продовольствия (Наркомпрод), который должен был обеспечить снабжение крестьян промышленными товарами и снабжение горожан продовольствием.
Первоначально речь шла о добровольном товарообмене, организуемом государством. Идеи Ленина и других коммунистов (вспомним опубликованную в ноябре 1917 года программу Ларина) об объединении населения в производственно-потребительские коммуны начали реализовываться декретом СНК от 11 апреля 1918 года «О потребительских кооперативных организациях». Все торговые предприятия облагались пятипроцентным налогом с оборота, от которого были освобождены члены кооперативов (потребительских обществ), чтобы у населения появился экономический мотив в них вступать. По мере обеспечения кооперативов продуктами зарплата рабочих должна была заменяться карточками (свидетельствами) на получение в кооперативах определенных предметов потребления по нормам, устанавливаемым центральными или местными советами [41, C. 49–50]. Таким образом, в перспективе должна была возникнуть система распределителей, где прикрепленные к ним члены потребительских обществ получали бы разнообразные продукты за свой труд без купли-продажи. Эти же распределители привлекались бы центральными хозяйственными органами к закупке, заготовке, переработке и производству местных продуктов.
Опубликованный декрет был компромиссом, о чем потом с сожалением писал Ленин в «Очередных задачах советской власти». Первоначальный план был раскрыт в тезисах Ленина к проекту декрета: потребительское общество должно объединять на селе жителей волости, а в городах – квартала или части улицы. Купля-продажа продуктов допускалась бы только между потребительскими обществами, но не в индивидуальном порядке. Правление потребительских обществ образовывало бы снабженческо-сбытовой комитет (снабсбытком), который бы ведал не только закупкой и распределением продуктов для членов своего общества, но и сбытом местных продуктов. Все снабсбыткомы работали бы под контролем местных советов [42, C. 77–92]. Реализация декрета привела бы не только к уничтожению частной торговли, но и в перспективе к прямому продуктообмену между производственными коллективами.
За 1917–1918 хозяйственный год (он начинался 1 октября, то есть с условного момента завершения летних сельхозработ) Наркомпрод отправил крестьянам 35 тысяч вагонов промышленных грузов и смог получить 35 тысяч вагонов хлеба (и еще около 10 тысяч вагонов прочих сельхозпродуктов). Уже по этому соотношению заметно явление, которое позже получило название «ножниц цен»: поскольку горожане нуждались в хлебе больше, чем крестьяне в промышленных товарах (их хозяйство во многом продолжало оставаться натуральным), крестьяне взвинтили цены: за четыре вагона сельхозпродуктов им доставалось три вагона промышленных товаров, которые в «нормальной» ситуации должны были стоить гораздо дороже, «за каждый пуд сданного им государству хлеба [крестьянин] получил в среднем почти вдвое большее количество мануфактуры, чем получал за него в мирное время» [40, C. 20].
Получался «порочный круг»: чтобы восстановить производство промышленных товаров, на которые можно выменивать хлеб, надо накормить рабочих, а чтобы накормить рабочих, нужен хлеб. Наркомпрод обеспечивал заготовку от одной до двух третей необходимого горожанам продовольствия, остальное давали «мешочники», то есть мелкие торговцы и спекулянты, которые привозили припасы из деревень и продавали либо выменивали их на стихийных рынках. Не от хорошей жизни «мешочниками» становились сами рабочие.
В мае 1918 года под воздействием начавшегося голода в городах центр тяжести экономической политики смещается от мер добровольных (организации товарообмена) к мерам принудительным. 13 мая президиум ВЦИК принимает декрет «О предоставлении народному комиссару продовольствия чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими», в котором было записано: «Ни один пуд хлеба не должен оставаться в руках держателей за исключением количества, необходимого для обсеменения их полей и на продовольствие их семей для нового урожая» [41, C. 52]. Все, кто не вывозил излишки хлеба на ссыпные пункты, объявлялись врагами народа. За хлеб платили по твердым ценам, которые были ниже рыночных, да к тому же не успевали за инфляцией. Тем, кто доносил на укрывателей хлеба, выплачивалось вознаграждение в половину стоимости изъятого хлеба. Наркомпроду разрешалось применять вооруженную силу для изъятия излишков, а также привлекать к заготовкам хлеба городских рабочих и крестьян-бедняков.
27 мая в соответствии с новыми диктаторскими полномочиями и замыслом о превращении всей страны в сеть производственно-потребительских коммун Наркомпрод был реорганизован. Теперь он должен был отвечать за снабжение населения всеми предметами первой необходимости и продовольствия, организовать в государственном масштабе распределение этих товаров и тем самым подготовить национализацию торговли [42, C. 307]. Наркомпрод должен был снабжать местные потребительские общества (кооперативы), а они уже доводили продукцию до своих членов. В деле заготовки продовольствия он опирался на местные продовольственные комитеты, при которых «в целях организационных, инструкторских и агитационных» создавались отряды сознательных рабочих из губерний, потребляющих хлеб (то есть голодающих).
В начале июня в деревню направляются первые продотряды из числа рабочих. Тогда же ВЦИК делает ставку на разворачивание классовой борьбы в деревне, чтобы с помощью деревенских бедняков легче было изымать хлеб у зажиточных крестьян.
11 июня выходит декрет ВЦИК и СНК «Об организации и снабжении деревенской бедноты». Местным продовольственным органам предписывается организовывать комитеты деревенской бедноты (комбеды) для распределения между беднотой хлеба, предметов первой необходимости и сельхозорудий, а также для оказания содействия в изъятии хлебных излишков. У местных продовольственных органов формировались запасы хлеба и предметов первой необходимости для выдачи комбедам бесплатно или со скидкой. Нормы выдачи и размер скидки варьировались в зависимости от успешности изъятия комбедами хлеба у кулаков [42, C. 416–419]. Таким образом, чем активнее бедные крестьяне изымали хлеб у своих богатых соседей, тем сильнее они могли поправить собственное материальное положение. Кроме того, власти рассчитывали создать на базе комбедов сельскохозяйственные коммуны с коллективным использованием сельхозорудий (идея, легшая позднее в основу колхозов).
Часто в литературе встречается неточное утверждение, что создание комбедов и продотрядов означало начало продразверстки. Во-первых, разверстка была введена еще царским правительством в декабре 1916‑го. Сам термин «разверстка» отсылает к способу проведения этого мероприятия: общий требуемый объем хлеба разверстывался по губерниям, а те делали разверстку по уездам. Местные власти должны были убедить крестьян продать нужное количество хлеба по фиксированным (низким) ценам, что сделать не удалось.
В мае 1918 года большевики начали проводить политику изъятия излишков, то есть определяющим было не то, «сколько хлеба нужно государству», а «сколько можно взять сверх нужного крестьянину». Плачевное состояние сельскохозяйственного учета и стремление крестьян скрывать запасы привело к тому, что эта политика провалилась. Норматив-то советская власть установила, а вот вычислить, у кого хлеба больше, а у кого меньше норматива, не могла.
Поэтому в январе 1919 года был опубликован декрет о переходе от политики изъятия излишков к продразверстке. Теперь с крестьян брали не излишки хлеба, а фиксированный объем, необходимый для снабжения рабочих и армии, уже не заботясь о том, останется ли что-нибудь самим крестьянам. Это была одна из чрезвычайных мер, вызванных уже бушевавшей к тому времени гражданской войной.
Комбеды просуществовали до ноября 1918 года, их деятельность вызвала волну крестьянских восстаний, так как Наркомпрод установил неизымаемую норму хлеба в 12 пудов на человека в год, что, по оценке работника Центрального статистического управления (ЦСУ) СССР Л. Литошенко, было в полтора раза ниже, чем до Первой мировой [43, C. 228]. Надо было или становиться «врагом народа», или соглашаться затянуть пояса ради «товарищей-рабочих» и победы социализма.
Фактически же, по оценке Ю. Ларина, душевое потребление крестьян в 1918–1919 годах составило не 12, как предписывалось советской властью, а почти 17 пудов хлеба в производящих хлеб губерниях и 11 пудов в потребляющих [40, C. 24]. Крестьяне явно не были готовы делиться, а крупных хозяйств, производящих хлеб для продажи, благодаря уравнительному переделу земли стало меньше. Скудные запасы хлеба делали критически важной задачу его правильного распределения, тем более что создание комитетов бедноты совпало с восстанием Чехословацкого корпуса и началом полномасштабной гражданской войны.
Таким образом, новое правительство оказалось в ситуации острого фискального кризиса, усугублявшего деградацию государственных институтов на фоне признания большевиками поражения в мировой войне, которое оттолкнуло от них многих сторонников и «попутчиков», а также придало энергию нарождающемуся белому движению. В первые месяцы 1918 года в России окончательно сформировались те признаки революционной ситуации, которые выделяют современные западные исследователи революций, такие как Д. Голдстоун, Т. Скочпол, Р. Коллинз и другие: фискальный кризис, внешнеполитические неудачи, раскол элит – и, как следствие всего этого, распад государства. «Триумфальное шествие советской власти» конца 1917 – начала 1918 года быстро захлебнулось: страна стремительно сползала в анархию и войну всех против всех.
Политэкономическое резюме
Доктрина социализма исходно не включала в себя раздела о догоняющем развитии. Хотя в ХХ веке именно осуществляющие догоняющее развитие страны внедряли у себя те или иные элементы плановой экономики, первоначально концепция социализма разрабатывалась с расчетом на обеспечение экономического и политического равенства всех граждан. Ускорение развития должно было осуществляться не в ходе специальных, централизованно планируемых мероприятий, а благодаря снятию противоречий, которые раньше его тормозили.
Общество, по замыслу большевиков, должно было представлять собой сеть производственно-потребительских коммун размером примерно с городской квартал каждая, способных производить большинство видов необходимой их членам продукции самостоятельно. Внутри коммуны ее продукция не продавалась, а распределялась, что ограничивало сферу рыночного обмена отношениями между коммунами. Правление центральных хозяйственных органов избиралось бы местными совнархозами (экономическими отделами местных советов), а сами центральные хозяйственные органы лишь гармонизировали бы хозяйственную деятельность коммун. Поскольку большинство предметов должно было производиться и потребляться на месте, централизованному планированию оставалось иметь дело только с ограниченным числом объектов, что казалось как будто бы несложной задачей.
Первые же месяцы новой власти показали, что в существующих условиях переход к описанной системе был невозможен. Надежды на легкий переход к социализму базировались на вере в «сознательных рабочих», которых фабричное производство научило одновременно решительности, коллективизму, умению действовать сообща и жажде справедливости. Война, голод, контрреволюция, интервенция и сепаратизм окраин объективно снизили договороспособность российского общества, а сохранявшие «сознательность» рабочие терялись среди тех, кто свободу понимал в том смысле, что «государство теперь наше – значит, мы ему ничего не должны».
Очевиден парадокс: для «безболезненного» строительства социализма нужны высокоорганизованные структуры гражданского общества (неэксплуататорской части общества) и развитого местного самоуправления, но сама возможность захвата власти открывается только в результате масштабного кризиса с коллапсом прежнего государства, под тяжестью которого эти структуры распадаются и деградируют. Переход от идеи единого кооператива трудящихся к продотрядам, которые просто отбирают хлеб, так как не могут предложить ничего взамен, занял всего два месяца. Выяснилось, что для спасения революции приходится принимать срочные временные меры, которые скорее отдаляют экономическую систему от первоначального замысла, а позднее эти временные меры, как правило, становятся постоянными.
Глава 3
Военный коммунизм 1918–1921 годов
В начале июля 1918 года на V Всероссийском съезде советов Ленин крайне эмоционально убеждал левых эсеров, что в текущих условиях борьба за социализм и борьба с голодом суть одно и то же, что никакой возможности дожить до нового урожая и спасти от голода рабочих и сельскую бедноту, кроме как с помощью разверстки и комбедов, нет и что это не наступление на крестьян, а наступление на спекулянтов, которые готовы, пользуясь моментом, уморить голодом значительную часть населения.



