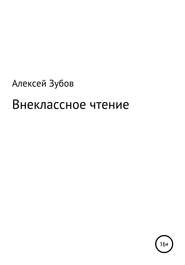 Полная версия
Полная версияВнеклассное чтение
Ждать дальше, сдерживать глупые слезы – уже не было сил, и Коленька «разрядился» – «выстрелил». Не как Бен, но тоже вовремя.
Принеся в школу бутылочку с бензином, Коленька, чувствуя себя не живущим и свободно дышащем, а «плывущим», в ставшем вдруг чужим и вязком, пространстве «их» социума, поднялся в пустынный отсек «учительского» коридора, облил (руки у мальчика ходуном ходили) бензином дверь кабинета Лидии Александровны и поджег.
Поджег, поросенок такой, а зажигалку у отца подтянул.
Ну, вот. Вот и он совершил преступление. «Жизнь» началась.
Пожары в общественных местах всегда привлекают много зевак – во всем мире людям нравится наблюдать, как горят магазины, банки или правительственные учреждения – это очень впечатляет.
– Сегодня был на пожаре – куча народу сгорело, все – конторские служащие, – говорит за ужином усатый глава семейства где-нибудь в Колумбии, обжигаясь горячим бурито.
– Деток их теперь куда девать, разве в спецлагерь? – задумчиво фантазирует креолка-супруга, сидящая в переднике и в чепце (Колумбийцы очень чистоплотны на кухне!) напротив мужа.
Судьба деток служащих, вообще, деток чиновников очень беспокоит простое общество. Общество зорко следит за этими детками, и только и ждет момента, когда о них придется позаботиться.
… … …
Знания, передаваемые из мира взрослых в мир детей, пропускаются через учителя-интерпретатора – это правило.
Географию и историю одновременно в школе Бена подавал лысый Боб Хэд, человек в старых ботинках, с темной кожей, прошлым и душой.
Вся история человечества виделась ему, как непрерывный обман публики – он так и заканчивал, обыкновенно, тему:
– Рим, Греция, цивилизации прошлого – все это – обман общественного мнения.
Или.
– Война за независимость, отмена рабства, права и свободы граждан – все это – обман общественного мнения.
Вам любопытно, как «обман общественного мнения» подытоживает географическую тему?
Вот так:
– Доказательством шарообразности Земли служит только ее тень на Луне. Тень! Это не что иное, как обман общественного мнения.
Или.
– Высчитывая звездный параллакс, астрономы принимают луч света прямым, хотя глядя на свечу, мы видим, что свет колеблется – все это – обман общественного мнения.
Знания, передаваемые таким вольным образом, оставляли в юных головах много свободного места для фантазий, развлечений и, что нас особенно интересует, для любви.
И Бен и Коленька, став подростками, испытали это животворящее чувство – чувство влюбленности в «образ». Да, они, как и все, испытали это благодатное, здоровое помешательство, становясь, потихоньку, мужчинами.
А, я забыл упомянуть – в школу к Коленьке, после чуть было не сгоревшей двери кабинета завуча, наведывался умного вида мужчина, вроде бы, следователь. Он ласково, с шуточками беседовал с ребятами, и с Коленькой, естественно, и тихо, но убежденно предлагал «стать настоящим человеком», и сообщить, «если что узнаешь», ему по телефону.
Коля, как все, сунул карточку с номером телефона в карман, и долго думал, что он, Коленька, теперь, видимо, навсегда чужой для этого мужчины, завуча Лидии Александровны и всех «настоящих людей».
Ему было холодно и одиноко.
Но свободно.
… … …
«Из учителей мудрый правитель особенно выделяет
грамматиков и каллиграфов – их пестование
улучшает покорность в учениках.
Покорный ученик никогда не допустит такую бестактность -
обсуждать происходящее».
(…)
«Когда я был еще очень юным,
мне было позволено присутствовать на чайной церемонии.
Она происходила в красной Драконовой беседке, что
в старом императорском парке, возле южных ворот
– дело было весной, в пору цветения слив.
Было приятно слушать отдаленные возгласы караульных:
«Двое – к воротам, трое – в конец дорожки!»
А величавые сановники, а придворные дамы в изысканных нарядах!
Я помню, как отец выразил пожелание,
чтобы какая-нибудь из дам напомнила присутствующим старых поэтов,
и госпожа Тайхоу, совсем юная, ей было не больше четырнадцати,
стала читать.
Она читала, и искоса поглядывала на меня,
а я, украдкой, поглядывал на нее
– она была очень красива в зеленом платье с серебряными лотосами,
и мы не могли сдерживать улыбки.
В конце концов, отец велел нам идти в сад, гулять.
«Молодые люди еще успеют насладиться церемониалом», – сказал он,
– «а теперь, пусть любуются сливой».
В старину люди смотрели на все с мудрой простотой».
(…)
– Вот, о, вот эта красная, надень-ка … просто, королева подиума, «он» с ума сойдет, точно.
– А эта? Тоже красная, но в клеточку. Милая, правда?
– Эта? Эта, вообще, сногсшибательная. С этим поясом – «отпад». Да, «он», точно, упадет.
– Есть еще синяя. Как тебе?
– О, слушай, слушай, синяя. «Держи меня, мама, я лечу!» О, я сейчас умру. Слушай, я хочу такую. Да, «он» умрет, просто. Просто, умрет.
– Не знаю, какую выбрать.
– Красную.
– Красную, которая «с ума сойдет», или которая «упадет»?
– Померь-ка еще, подумаем. Нет, все-таки, которая «с ума сойдет».
У нее поясок симпатичнее.
… … …
«Пацаны, когда взрослеть начинают, девчонок боятся и интересуются, интересное-то всегда пугает – а как? Природа жизни. Вот именно, «как?» и боятся.
А «устаканятся» маленько – и тогда главное – не «как?», а главное – «с кем?». Кто «она», и кто «ты». Да, вот ты-то, именно, кто?»
… … …
Украв накануне двадцать долларов из церковной копилки, Том Хэнк и Бен Гарнер шли теперь – была середина прекрасного, нежаркого летнего дня, чуть ближе к вечеру – к Салли-Верзиле, подгоняемые мучительным до бессонницы любопытством – любопытством, пересиливающим нормальный страх здоровых существ, любопытством, заглушающим брезгливость и отметающим все резонные доводы «не делать так, парни», – они решили попробовать: как «это» с женщиной? Понятно, что женщина для такой пробы должна была быть продажной – спецшкол для такой науки пока не заведено.
Найти женщину, ожидающую от мужчины, когда тот будет ее «покупать» – не проблема в цивилизованном, культурном обществе – их полным полно в каждом «кластере», но что значит «найти»? К ней ведь надо как-то подойти, обратится, как-то все это сделать правильно, с достоинством и без суеты, как у людей принято, а то на смех подымут – стыда не оберешься.
Мы-то с Вами знаем, как положено обращаться к даме, когда Вы намерены заняться с ней кое-чем, а Бен и Том не знали – им и было-то всего по пятнадцать! – для того они и шли к Салли, как к мудрому старшему брату и вождю – за помощью в обряде «инициации».
Салли-Верзила играл в мяч с двумя жлобами-приятелями на старой, с порванным травой асфальтом, баскетбольной площадке за бывшей, теперь зарастающей молодым сосновым лесом, фабрикой детских игрушек. Игра эта временами напоминала баскетбол, а временами просто веселую стрельбу мячом-ядром – было забавно наблюдать, пригубляя виски, как мяч «дубасил» нехилых парней, валя с ног и чуть не оглушая, – да за ней и наблюдали две симпатичные, ярко намакияженные девушки – Бэсси-Мандаринка – пышная и вкусная и Пантера – Мэри – та была худее в разы, но тоже – та.
– Салли, – сказал Том в перерыве между ударами, – мы хотим сделать Бену подарок – поздравить с днем рождения.
(Эту фразу придумывали чуть не полдня).
– Молодец, Бен, ты правильный чел, – прогудел Салли.
– Мы решили – пусть у него будет девушка!
Друзья замерли, ожидая вердикта. Бен был серый от нервного озноба.
Салли глотнул пива.
– Ну, пускай будет. Давно пора, Бен, – кругом полно девчонок, выбирай.
Искатели «запретного плода» поерзали:
– Ты не понял, Салли, не девушка – девушка, а, вроде как, женщина.
До Салли дошло. Он иронично посмотрел на Бена:
– Когда мне было, сколько тебе, Бен, девчонки сами вешались мне на шею, да, просто липли, как эта жвачка, так что отдирать приходилось. Не дело молодому темнокожему джентльмену платить девке за услугу, будто он какой-нибудь сопливый клерк. Будто он член городского совета. Конгрессмен вонючий.
Друзья были пристыжены.
– Это подарок, Салли, вроде парка с «горками».
Салли развеселился:
– Хорошо сказано! «Горки»!
Он повернулся к девушкам:
Э, красотки, кто поиграет с моим братцем?
Пантера-Мэри даже не обернулась – она увлеченно пилила ногти, а Бэсси-Мандаринка (от скуки, что ли?) спросила, потягиваясь:
– Деньги есть?
И увидав, торчащие в нервном кулаке купюры, купюры – волшебные билетики в таинственный мир взрослых наслаждений, добавила голосом дежурной медсестры, вызывающей умирающего туберкулезника на «укол»:
– Пошли.
Место для любовных свиданий, а Бэсси-Мандаринка этими свиданиями и промышляла, было тут же, неподалеку, за густыми, ломаными-переломанными кустами орешника на зеленой полянке под старым, раздвоенным, как два пальца в знаке «виктори», дубом. Эта развилка в стволе была очень знакома Бэсси – очень. Мандаринка попрыгала на одной ноге, потом на другой, стаскивая тугие джинсы сразу вместе с трусиками, сложила их стопочкой и положила на развилку. Потом достала из кармана куртки мандарин, очистила и взяла дольку в рот.
Она любила сладкое во время нудной работы.
– Ну, давай, Бен, не облажайся, – и она повернулась к Бену спиной, и она оперлась на развилку дуба, и она была, как Аризонский чернослив на базарном лотке, и там была, говоря языком Михайло Ломоносова, «бездна звезд полна».
Надо ли упомянуть, что птички-ореховки щебетали, а цветы благоухали? Упомянул.
У Бена на секунды остановилось трепетное (с утра) сердце, потом ноги в коленках стали ватными (выражение избитое, но точное – используем и мы – нам-то что?), – «вот же, вот то, что следует пройти, и чего ты и хотел», а потом с Беном приключилось то, что в народе называют «медвежья болезнь».
– Я сейчас! – крикнул он, подчиняясь желанию более могучему, но менее поэтизированному, рывком освобождаясь от путающихся штанов и прыгая в гущу орешника.
Видите, как важно сохранять выдержку! И как важно не сворачивать на кривые тропинки судьбы! Хорошо, рядом был орешник! А случись подобное в метро? Вам встречались в метро молодые люди, толкающие всех, обгоняющие и спешащие вверх по эскалатору? То-то.
«Я сейчас!» – удивляюсь, прямо, иным «обещалкиным». Один мне тоже Европейский уровень жизни обещал, а я десять лет, как Павловский офицер, – император наш строго следил за диетой своей гвардии, и как-то спросил у одного из офицеров, много ли перемен блюд тот имеет, на что был дан ловкий ответ: «курицу плашмя, да курицу ребром». У меня плюс лапша, а о фруктах и думать забыл. Все эти «обещалкины», как Бен в кустах.
Да, Бен застрял в ореховых кустах, теряя силы, теряя присутствие духа.
А Бэсси засунула в рот другую дольку мандарина (деньги она с Бена уже получила и была в хорошем настроении), потом пошевелила кормой, широкой, как у каравеллы Колумба и тоже познавшей жестокие бури и сонные штили, и пропела, делая игривое движение ножкой:
– Смелее, малыш, я жду!
… .,. …
Боб Мос – лет тридцати и баптист – твердо верил в провидение, удачу и приметы – и сегодня все подсказывало ему, что его желания будут «услышаны». Во-первых, ему попался одноглазый кот – верный знак (коль старухи на улицах не врут), что все сбудется, как ты и мечтал, во-вторых, он сидел «на бобах» уже третью неделю, а старина Петерсон всегда учил, посиживая за своей рюмочкой: «Жизнь – колесо. Когда ты на «дне» – радуйся! Скоро тебя подымет», в третьих, провидение и так отказало ему уже и в выигрыше в лотерею, и в находке клада, да что клада, просто чужого кошелька с чужими деньгами, отказало и в специальности, и во внешности, и, даже, в уме – так что дальше (а ведь логично) оно, провидение, отказывать бы уже постеснялось.
Он закончил свой привычно-изнурительный трудовой день на лесопилке, и шел медленно, устало (поворочай-ка бревна несколько часов!), но со светлой надеждой во взоре, как вдруг услыхал женский голос, зовущий из кустов орешника:
– Я жду!
Боб немного удивился, но решил посмотреть: кто его там ждет. Он свернул в орешник, вышел на полянку и увидел дуб и в его развилке красавицу Бэсси.
В том, чего она ждала, сомнений не было.
Боб еще больше удивился решению «свыше» – меньше всего он просил вот об этом – но как тут спорить?
Кому-то судьба дарит «Ягуар», кому-то камни в почках, кому-то на редкость вредного спутника жизни – смирись, человек, не ты решаешь, чего ты достоин.
Боб посмотрел на небо, пробормотал: «Могли бы лучше подкинуть деньжат, ну, да ладно», сдвинул кепи на затылок, и, как любят говорить спортивные комментаторы, «уверенно овладел ситуацией».
Он знал – второго «приза» не будет. Это все, чем порадовала его Жизнь.
Когда спустя некоторое время задумчивая Бэсси-Мандаринка вернулась на асфальтовый пятачок к играющим в мяч, Салии-Верзила с ухмылкой спросил ее, не пойдет ли она, не «поучит ли» и его – на что услышал сердитое, что «у нее шлюпка не из канадского дуба, катать всех желающих до ночи».
Тогда парни с удивлением посмотрели на бледного, с потухшим взором, измученного Бена, кажется, совладавшего чуточку с «медвежьей» болезнью и выбирающегося из кустов следом.
– Что, Бен, ты живой? Помогите ему, ребята, посадите сюда. Видок у тебя, как у зомби.
На что был дан правдивый ответ:
– Наполовину.
И теперь к нему пристало: «Бен-Половина».
А «Осторожного стрелка» подзабыли.
… … …
Напугали меня тут футурологи: грозятся, дескать, скоро просверлят вежливые инженеры у меня в затылке дырочку, вставят молча в мозг электрод с чипом, и, без всякого интерфейса, будет скучающий народ мои мысли читать.
Поразмыслив, и поужинав (а ужинаю я всегда два раза – один раз так, а другой под телевизор), я успокоился – как же, Моцарт-то без рояля – глух и глуп – что у него в головке махонькой услышишь, кроме шуршания проводов-нейронов?
Так что, если и придут сверлить, ничем я ребят не порадую. Что мои мысли? – Импульсы?
Допаминовый скор? Хи-хи.
Нет, они – материальные артефакты, интерфейс, предметность.
Мысли мои – вне меня.
… … …
Этот «интерфейс» из-за своей «податливой текучести», «прилипчивости», порой, острые шуточки откалывает, будто он личность самостоятельная или, что приятнее, щекотнее (но страшней!) часть твоей личности. Именно он, интерфейс и познакомил моего Колю… Нет, давайте я расскажу, как дело по-правде было.
… Истекая кровью, граф де Бельфор бился на шпагах с наседающими Вельмандуа (их было человек сорок, все в желтых колетах и черных шляпах) на широкой, залитой кровью негодяев, мраморной лестнице с вазонами и львами, ведущей в покои маркизы де Ливр. Нежная и милая маркиза (на губах умеренно яркая, «мягкая» помада, глаза слегка подведены, не «кричаще», волосы – мелкие кудри, одна прядь сексапильно прикрывает глаз – вот это спорно), в измятом придворном платье из голубого бархата была жестоко привязана веревками, пахнущими конюшней, к витому столбу балдахина – ее собирались пытать!
Старик-герцог Вельмандуа (регент, регенты всегда коварны) вознамерился силой вырвать у маркизы письмо покойного короля, в котором она, маркиза де Ливр, объявлялась его законной дочерью и наследницей герцогства Бургундии. У, злодей! Надежда была лишь на графа и его ловкую шпагу, и граф медленно прорубался к спальне через толпы клевретов старого герцога. Но медленно, медленно!
Герцог щелкнул костлявыми пальцами, и виконт Гийом де Ла Гош (это тот еще негодяй!), жутко улыбаясь, достал плеть, какими пытают мужиков и собак, подошел к трепещущей маркизе и одним движением кинжала разрезал шнуровку корсета – маркиза оказалась в дезабилье. Потом, ухмыляясь, рванул белоснежную рубашку, сдирая заодно и черный католический крестик – граф все это видел, он бился уже в дверях, закалывая ежесекундно по пять человек – невинная плоть обнажилась для алчных взоров палачей и благородного графа – да, невинная плоть, в частности, юная и круглая, как орех, грудь маркизы…
Вертушков-папа, вернувшись после дежурства (он еле на ногах держался! У него ночью была внеплановая операция по удалению «слепого» камня из желчного протока, а днем пришлось заменять заболевшего товарища и ушивать две грыжи), увидал нераскрытую, и этим все сказавшую, школьную сумку сына, увидал (краем глаза) распахнутый настежь пустой холодильник на кухне (пустой холодильник его почему-то особенно взбесил), увидал записку от жены, Вертушковы-мамы, прилепленную к зеркалу, что «буду нескоро», увидал и прелестную грудь маркизы де Ливр на экране – он побледнел, побагровел, прошептал что-то по-латыни, вытащил из брюк ремень и, стеганув хорошенько «графа де Бельфор», стал гоняться за бедным «графом» крича: «Паршивец!» и «Тунеядец!»
В эти же секунды несчастную, рыдающую «маркизу де Ливр» таскала за кудри и хлестала по голой спинке, поднятым с пола лифчиком, ее тетушка Вера Павловна, ругая «маркизу» так: «Дрянь бесстыжая!» и «Потаскуха интернетная!»
Потом «маркизу де Ливр» заставили вымыть пол у нее в комнате, учить уроки и «сидеть тихо», слушая Стравинского.
Тетушка Вера Павловна была женщина чопорная, строгая, не та дурочка Вера Павловна, что у Чернышевского о двух мужьях зараз мечтала, а дама с моралью древней.
Она как-то устроила своей любимой племяннице и воспитаннице Даше Орлович (это подлинное, «паспортное» имя «маркизы де Ливр» для нас, тупоньких) жуткий скандал, когда увидала, что Даша угощает подружек кофе, подавая его в чашечках без блюдец.
– Ты, милая, не с улицы. Или тебе развлечение – строить из себя простушку-селянку, каких в кино показывают? Только и способна, что позорить фамилию!
Вера Павловна была старшей сестрой Дашиного первого (и биологического – да, что за гадкое словцо) папы. Всего пап было три, и все трое Дашу любили и дарили ей регулярно конвертики с «сюрпризами». Мам было две или четыре – сказать что-то сложно, но та, что Дашу рожала, жила теперь со вторым папой в Венеции, и воспитание дочери было всецело доверено золовке. Все четыре мамы Дашу просто обожали, и тоже дарили ей конвертики с «сюрпризами» – почему я не Даша! – и все семеро взрослых искренне желали Даше встретить
«порядочного мальчика из нашего круга».
А где же встретишься с мальчиком «из их круга», как не в Интернете? Как не в игре?
Игра. Человеческие игры, отличаются от игр зверей тем, что люди ловят перемены ситуаций.
Менять и меняться – без этого человек жить не может. Если в реальной жизни перемен нет, люди уходят в игру – это лекарство. Менять и изменяться в игре можно десятилетиями, всю жизнь, и жизнь эта ничуть не хуже жизни Одиссея или Колумба.
Я тоже игрок, а вы? Разве нет? Мы все погружены в игру.
… … …
Коля Вертушков – «граф де Бельфор» – страдал, отлученный от компьютера. Жизнь его была теперь пресна и сурова. Жизнь, жизнь взрослых, вечно требующих разной фигни, жизнь, закатывающая его, как шар в лузу – учиться, получить специальность, работать и иметь хорошую порцию «коллективного супа» – представлялась некрасивым обманом, подленькой ложью, а правда, красота, жизнь реальная и полная чувств, были там, возле очаровательной маркизы де Ливр, в роскошных нарядах, (и иногда полуобнаженной, чего уж там), дивные черты лица которой лишь очень отдаленно походили на Дашины – прелесть и секрет программирования. Молодые люди в нашей «плоской» жизни знакомы не были – как и зачем? Он был «Ник», она была «Крэзи» – и они дружили виртуально. И у них уже были такие вот свидания, «отношения», и это была тоже влюбленность – влюбленность в «интерфейс».
… … …
Договорив до героини, я, пожалуй, приторможу – эту девочку следует прочувствовать.
Решить надо: обидится она на меня за «подколки» или разрешит. Хоть немного иронии.
Классики, Федор Михайлович, в частности, рекомендуют: о девушках, лучше без шуток – так смешнее.
«Ты их, бедных, сперва подкорми, а потом уже про мораль спрашивай».
Кто ж против? – девчонки, только, больно прожорливые попадаются, а шоколад дорожает.
Я, когда учился, все думал: а сам-то Федор Михайлович, разве, где, когда шутил? А потом как торкнуло – если уж «Вишневый сад» – комедия, то «Преступление и наказание» – фарс голимый. А мы-то дурни! Смеяться надо – тогда совсем другие лики у персонажей проявятся.
… … …
«Мой дядя, принц У-Ди, когда занялся даосскими практиками,
долго шел путем «Золота и киновари», но после сказал:
«Юным монахам только позволительно придавать большое значение
молитвам-заклинаниям, святым амулетам и снадобьям,
тот же, кто познал веления Неба,
целиком уходит в практику «Нефритовых покоев» -
близость с женщиной, выполненная правильно, рывком приближает бессмертие».
В конце концов, он стал бессмертным и ушел в горы.
Мы навестили его как-то с отцом, и отец спросил:
«Что есть бессмертие?»
«Тот, кто уходит в инобытие, должен скинуть свое «я», как кокон.
Но простым людям это не по силам -
простые люди как раз это свое простенькое «я» и надеются обессмертить.
Они удерживают внутри то, чье место снаружи.
Глупцы! Кто рукой остановит ветер?»
…
«… еретическим измышлением и бесовским помыслом
стал называть себя Дмитрием Ивановичем Московским,
но лгал зело.
А вина его:
ел телятину, что русским людям не в обычай,
ходил, аки смерд, по ружейным мастерским, и работу сам делав, и на с медведями игрища,
после обеда не спал, но слушал музыку,
рук перед едой не мыл,
бороду брил, как латинянин,
стражу имел иноземную,
собирался воевать с Турцией и для того устроил на Москва реке потешную крепость,
где много ратного люда покалечило,
к вере православной был не горяч,
баню не любил…»
(Слово о Гришке Яковлеве Отрепьеве, беглом монахе, год 1606)
В тот год внешне спокойная, никем и ничем не тревожимая внешне, Россия испытывала необыкновенное, гнетущее души граждан напряжение, какое бывает в ужасающе замершем воздухе перед очистительной грозой.
Споры, до этого раздиравшие общество, вдруг прекратились, и сторонники «жизненно необходимых» реформ, до хрипоты доказывающие, поймав вас в лифте, что путь спасительный – путь развития государством всяческих заводиков и производств, и всерьез зовущих к новому и окончательному «железному занавесу» от Запада ради автаркии, их противники, справедливо припоминающие печальный пример Союза, где чрезмерное засовывание государством своих «лап комитетских» во все дыры тормозило не только выпуск обыкновенных носков, где нужен хоть какой-то элементарный станок, но даже пение человеком песен, где кроме голоса и культуры, которая, в этом случае, есть общение с соседями, ничего более не требуется, острословы, иронично предрекающие тотальное разворовывание, выделенных на какой-нибудь велосипедный заводик, госкредитов «менеджментом сиволапым», который есть «Воровское сословие – и все», замордованные, робкие до жалости, полуграмотные в вопросах «внешних вызовов» личности, почти что шепотом молящие о большей свободе частного бизнеса, и что «лучше бы нейтралитет, как Швейцария!», алчные до денег пенсионеры, люто ненавидящие все, что колеблет цены на соль, спички и муку и разжигает мировые войны, в которых, каким-то злым чудом, Россия всегда страдает больше прочих, кривоногие домохозяйки с дикими глазами и говором, какой в жизни уже и не встречается, но которого на телевидении – полным-полно, грозящиеся убить любого, кто «за тех, кто у нас все отнять хочет и детей ест!» – все разом смолкли, и со злобой обманутых на базаре и горьким недоумением ждали: что будет?
Кто будет очередным президентом страны?
Ни европейцам, ни индусам, ни китайцам, ни арабам не понять, что такое Русская власть и что такое Русский выбор.
Выбор в России – это присяга на верность Отечеству, Власть в России – это Отец Отечества.
Русскому человеку непонятно и смешно, как на место Отца могут выдвигаться или «самозваться» кандидаты от разных движений и партий. Испокон веку выбирали так:
лучшие люди смирялись, простой народ принимал. Или нет.
Власть народа осуществляется через доверие Президенту – вот это-то, не учитываемое никакими писаными конституциями доверие, иным странам и непонятно.
Народ, как Бог, следит за каждым шагом Президента, молча оценивая, есть ли этот шаг – шаг Отца. Народ прощает и терпит, пока правило соблюдено.
… … …
– А теперь объясни мне, ради Бога, Петруша, только без пафосных криков рекламных и истерического заламывания рук, просто объясни, как будто я самый что ни на есть дурень, скажем, твой бухгалтер, для чего мы полезли в …ию? – спрашивал высокий, тщательно выбритый, полный мужчина в отличном сером костюме, в светлой рубашке и без галстука, сидящий в легком, плетенном из коричневых, «старинных» ивовых прутьев, кресле возле круглого стеклянного столика, уставленного закусками – дело происходило на террасе из желтоватого мрамора, выходящей на зеленый, с цветущими хризантемами внутренний дворик фешенебельного двухэтажного отеля.



