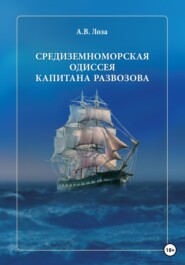 Полная версия
Полная версияСредиземноморская одиссея капитана Развозова
– Стрелять по команде! – прозвучало приказание мичмана, командира стрелковой партии.
Французская шебека все ближе и ближе…
– Вызвать абордажную партию! – приказал Развозов. Он понимал, что абордаж – главный аргумент в этом бою. Прозвучал барабанный бой «Марш на штыки». Матросы абордажной партии, отчаянно смелые и бесстрашные, не боящиеся рискнуть жизнью, сгруппировались на палубе в соответствие с боевым расписанием.
В те годы бойцы абордажных партий российских военных кораблей использовали отечественное и зарубежное оружие. Это и абордажные пики с ланцевидными боевыми наконечниками с длинной древка от 170 до 240 сантиметров, и абордажные тесаки с короткими широкими прямыми клинками с двухсторонним лезвием и обоюдоострым боевым концом, и абордажные топоры (интрепели) с массивной лопастью с заточенным лезвием и остроконечным, несколько изогнутым назад четырехгранным крюком (клевцом) с деревянным топорищем.
Об интрепеле нужно сказать особо. Этот топорик, надежное оружие моряков во время абордажных схваток, являлся универсальным морским инструментом. С ним было проще передвигаться по качающейся палубе – можно было моментально зацепиться за фальшборт, мачту или части рангоута. При необходимости топорик с крюком мог выполнять функцию небольшого багра. А при абордаже, когда нужно перескочить с одного корабля на другой, топорик с крюком не давал упасть вниз – на верную смерть. Когда дело доходило до рукопашной схватки, то быстрые и мощные удары интрепелем зачастую оказывались более эффективными, чем фехтование тесаком или абордажной саблей.
Когда корабли наваливались, сцепляясь, и абордажная команда перепрыгивала на вражеский борт, одной из главных задач было обездвижить противника, не позволить ему разорвать контакт. Поэтому атакующие принимались крушить своими интерпелями такелаж, портить снасти.
В 1797 году в новом Уставе военного флота было написано: «Надлежит, чтобы каждый матрос имел у себя пару пистолетов, саблю или интрепель, или мушкетон и несколько гранат с зажженным фитилем в медной трубке на шляпе». Участие в абордажной схватке требовало от матросов немалого мужества и бесстрашия, возможно, поэтому название интрепель, от английского intrepid – «бесстрашный», и прижилось в русском флоте.
Из огнестрельного оружия в абордажной схватке использовали флотские мушкетоны короткие (малой пропорции) с кремневыми замками массой более двух килограммов и абордажные пистолеты с кремниевым замками и гладкими стволами калибром 17,78 мм, массой в полтора килограмма. Фактически абордажный пистолет был одноразового использования, ибо у бойца в абордажном бою не было времени и возможности для его повторного заряжания. Поэтому действовал негласный закон «чем ближе стреляешь – тем надежнее выстрел», а бойцы абордажной партии имели при себе по два пистолета.
Абордажное оружие на парусных судах русского флота хранилось в соответствии с правилами: так, ружья абордажных команд хранились в пирамидах, размещенных вокруг мачт и вдоль каютных переборок, ружья стрелковых партий – в ящиках верхнего дека или на юте. В ящиках каждое ружье лежало отдельно, чтобы не создавать помех при разборе их стрелковой партией. Ружья гребцов помещались в ящиках, находившихся под банками шлюпок. Мушкетоны размещались в отдельных ящиках верхнего дека отдельно от ружей.
Пистолеты, тесаки и интрепели частично находились в корабельном арсенале, но основная их часть подвешивалась с внутренней стороны борта, вблизи орудий или в ближайших оружейных пирамидах. Пики подвешивались на рострах, а лядунки с порохом – на бимсах.
Порох на парусных судах хранился в картузах и деревянных ящиках в крюйт-камере. Ящики с пороховыми картузами плотно закупоривались и обмазывались смесью из сала и воска для предотвращения отсыревания.
Мичман, командир абордажной партии проверил своих бойцов и, осмотрев их оружие, скомандовал: «Заряжай!»
«Венус» подошел уже близко к берегу и за тихостью ветра вынужден был бросить якорь.
«Автроил» тоже стал на якорь. Французские шебеки были рядом.
Абордажная схватка – типичный пиратский прием при захвате вражеского судна. Но только пираты нападали на торговые, в основном безоружные суда, а сейчас перед ним были хорошо вооруженные и многочисленные французские шебеки, понимал капитан-лейтенант, обдумывая план абордажной схватки.
– Спустить шлюпки! Абордажная партия в шлюпки!
– Весла на воду! Навались!
Абордажную команду прикрывала стрельбой с борта корабля стрелковая партия. Шлюпки толчками приближались к французской шебеке.
– Пали! – выкрикнул команду командир абордажной партии, подходя к шибеке.
Французы отстреливались. Два французских ядра пронеслись над «Венусом». Одно пробило парус на фок-мачте, другое прошло над квардеком и упало в воду за кормой. На палубе нестерпимо воняло жженым порохом…
Вражеские пули свистели в воздухе, впиваясь в обшивку шлюпок, кто-то из наших матросов, охнув, съехал с банки на дно шлюпки… Моряки абордажной партии пустили в ход абордажные багры и, крича: «За матушку Россию, братцы! На абордаж!», ринулись на палубу вражеского судна. Это был момент, когда матросы уже не нуждались в приказах. Каждый давно, внутренне был готов к этому, отдав свою жизнь на волю Бога, и оставалось лишь сражаться! Почувствовав на себе ярость атаки матросов абордажной команды, французские моряки, спасаясь, прыгали за борт и плыли к берегу. Храбрость и дерзость наших матросов и офицеров решили дело и привели к полному успеху.
Из Шканечного журнала фрегата «Венус»:
«В 22-й день июня… под парусами в проливе. Приведена к фрегату французская шибека на коей находилось 8 пушек медных 5-ти фунтовых».
Командир «Венуса» капитан-лейтенант Развозов, стоя на палубе, оглядывал повреждения в снастях взятой шебеки, именуемой «Тременда», и следил за работой моряков, которые спускали паруса, сбрасывали в море обломки и рваные канаты, очищая ее палубу. «Автроил» взял шебеку «Генрих». Абордаж закончился спуском на шебеках французского флага и подъемом славного Андреевского. Плененные французские шебеки с нашей командой двигались за фрегатами.
Из Шканечного журнала фрегата «Венус»:
«На французскую шебеку командированы от нас с фрегата флота лейтенант Насекин, гардемарин 2, штурманский ученик 1, квартермейстер 1, матросов 24, солдат 8, канонир 2 итого 39 человек».
На переходе свежий ветер гудел в парусах «Венуса», подгоняя корабли отряда, вслед за редкими облаками.
Из Шканечного журнала фрегата «Венус»:
«В 28-й день июня 1806 года лавируя под парусами в проливе между Рагузским берегом и островом Лезино. В ¾ 3-го часа усмотрели от нас у острова Лезины лодку по которой выпалено из пушки, которая после оказалась далмацкая пустая которую отпустили…»
29 июня отряд прибыл в Курцало, а оттуда 3 июля перешел в бухту Кастель-Нуово. Пленные шебеки, имея российский флаг вверху, а французский – под ним, салютовали вице-адмиралу Сенявину, каждая девятью выстрелами. При осмотре взятых трофеев Д. Н. Сенявин переименовал шебеку «Генрих» в «Забияку», а шебеку «Тременда» назвал «Ужасная». Несколько следующих дней команда «Венуса» пополняла запасы и отдыхала.
Шканечный журнал фрегата «Венус»:
«В 4-й день июля… принято с корабля Ярослав ревизором мичманом Вердеревским провианту, а именно гороху 150 пудов, круп грешневых 176 пуд, сухарей ржаных 101 пуд 3 фунта, мяса соленого 102 пуда 37 фунтов…»
В начале июля 1806 года было получено приказание вице-адмирала Сенявина отряду в составе линейного корабля «Ярослав», фрегата «Венус» и шебеки «Забияка» приступить к блокаде района Новой Рагузы (северо-западная часть полуострова Пелопоннес) с целью прекращения подвоза морем продовольствия для сосредоточенных там двадцати тысяч французов.
Отряду было поручено крейсировать (каперить) в «малом море», как называли Нарентский залив. У острова Меледа встретили шебеку «Азард». 7 июня простояли в Курцало, а на следующий день, вступив под паруса, прибыли в назначенный пост в «малое море». На небе нестерпимо сияло солнце. Длинные волны катились под кораблями, приподнимая их и опуская. День, ночь и снова день… Сутками фрегат бороздил волны, покачиваясь в сине-зеленом пространстве. За бортом волны, над мачтами купол с ослепительным солнцем. Душной ночью – с яркими звездами и тихим плеском мелких волн за бортом. К полудню солнце накаляло деревянную палубу, хотя ее постоянно окатывали забортной водой, так, что матросы босиком не могли на нее ступить.
Корабль «Ярослав», фрегат «Венус», шебеки «Забияка» и «Азард» почти все время находились под парусами. Почти каждый день перехватывали по несколько судов.
Деятельность отряда наших кораблей сорвала сообщение Рагузы с Далмацией и островами. Тем самым прекратился подвоз морем продовольствия, для сосредоточенного в Новой Рагузе французского корпуса.
Жара продолжала изматывать. Яростное солнце немилосердно палило головы и плечи. Ветра почти не было, а если и был, то слабый и неустойчивый, и когда менял направление, тогда паруса громко хлопали. Сине-зеленые волны сливались вдали с безоблачным бирюзовым небом. На наших кораблях, находившихся уже длительное время в крейсерстве, запас воды уменьшился, да и оставшаяся вода стала портиться. Как писал участник событий: «От жаров вода испортилась, и сей смрадной воды выдавалось матросам и офицерам по стакану в день. Во все плавание в Средиземном море только здесь имели мы крайний недостаток в оной».
Попытки набрать воду на берегу занятом французами, успеха не имели пока, как писал очевидец: «Открывши в пустом месте ключ, послали под прикрытием шебеки, гребные суда с бочками. Неприятель пришел воспрепятствовать, но поручик Вечеслов с солдатами, заняв выгодную высоту, не допустил их вредить рабочим людям, кои без потери, по налитии водою, возвратились на фрегат».
Шканечный журнал «Венуса»:
«В 31-й день июля 1806 года … Привезено с Далматинского берега на борт пресной воды средних 10 бочек».
Погода не менялась. Солнце огненным глазом продолжало сиять на небе, и тихая зеленоватая гладь простиралась за бортом. Солнце медленно спускалось к горизонту, словно растворяясь в вечернем зное… Ветер пропадал совсем, паруса обвисали, волны словно застывали голубым зеркалом. Время на раскаленной палубе фрегата словно замедлялось и тянулось, как вытекающая из палубных пазов смола. Так продолжалось сутки за сутками… Но даже в таких условиях капитан-лейтенант Развозов и его офицеры обходили корабль от бака до юта, проверяя, все ли в порядке. Его Федорович Развозов знал: репутация моряка, капитана это ухоженный корабль, порядок на палубе и ни один канат не провисает.
В первый день августа командирами кораблей было получено повеление прекратить военные действия, ибо еще 8 июля 1806 года в Париже был заключен мир, о котором французы известили только 31 июля. На следующий день отряд – «Ярослав», «Венус», «Забияка» и «Азард» – прибыли в Курцало, где соединились с кораблем «Святой Петр».
Используя стоянку в Каттаро, экипаж «Венуса» поменял каменный балласт своего фрегата.
«В 3-й день августа … привезено с Рагузинского берега на барказе каменного балласту 51 бочка весом 780 пуд».
«В 4-й день августа… привезено на барказе каменного балласта 9 бочек весом 120 пуд».
Забрав гарнизон, возвратились 8 августа в Каттаро.
Из Шканечного журнала «Венуса»:
«В 8-й день августа 1806 года… ветер брамсельный, ровный, ясно, сияние солнца. В начале 2-го часа пришли мы в бухту Боко де Каттаро, убрав все паруса на глубине 24 сажен грунт ил положили якорь».
К 11 августу 1806 год в Боко де Каттаро собрался весь флот.
До конца августа экипаж «Венуса» приводил в порядок и ремонтировал свой фрегат, пополнял запасы и расходные материалы, что следует из записей в Шканечном журнале:
«В 10-й день августа … стоя в Боко де Каттаро в эскадре. …послан был баталер Абросимов… куплено на берегу ревизором мичманом Вердеревским и привезено на фрегат смолы жидкой 4 пуда 35 фунтов… Привезено с берега баталером в пищу служителям мяса свежего 180 литр».
«В 11-й день августа… с корабля Селафаил ревизором мичманом Вердеревским тросов белых по 100 сажень 2, в 1 3/4 дюйма – по 40 1/2 сажень 1, в 1 дюйм по 40 м 1/2 сажень 3, линю белого в 12 нитей 12 мотков, ниток ликтросовых 1 пуд 20 фунтов, грот-марсов шкотов в 61/2 дюйма 30 сажень 1, фор-марса шкотов в 63/4 дюйма 24 сажень, крюйсель шкотов в 4 дюйма 19 сажень, фор-стеньги вант в 81/2 дюймов 20 сажень Лавлиню 19 сажень.
В то же время привезено с берегу баталером в пищу служителям мяса свежего 180 литр».
«В 13-й день августа… с вице-адмиральского корабля сигналом затребовано со всей эскадры. Велено послать штурманов для поправки карт».
«В 21 день августа… велено принять из города смолы густой 783 литр, с корабля Азия свечей сальных щетом 100, с Уриила масла коровьего в 2-х бочонках 8 пуд».
«В 22-й день августа… сего числа при фрегате работа происходила по шхиперской должности грот-ванты и бизань-ванты смолою выжиривали шпор-штаги, запасные марса- реи, шлюп-балки, якоря тоже смолою выжиривали, поконопатили левую сторону от трапа до форштевня, выконопатили и смолою залили. Под кормою 16 пазов тоже выконопатили и смолою залили. При работе конопатчиков находилось с разных кораблей 12 человек».
Работы по конопачению и покраске фрегата длились до 29 августа.
«В 29-й день августа… всю нижнюю палубу законопатили и смолою залили. Снаружи фрегат чернью выкрасили. При работе имелось конопатчиков 10, маляров 7, итого 17 человек».
Моряки успели привести в порядок свой корабль как раз ко Дню именин государя императора Александра I, которые происходили на следующий день.
«В 30-й день августа 1806 года… велено для Его Императорского Величества Государя Александра Павловича выпалить по 31-й пушке, разцветить флагами.
В 12 часов на вице-адмиральском корабле Селафаил при пушечном выстреле был поднят молитвенный флаг. У нас в начале 12-го часа проведена Божественная молитва… и по прошествии оной для Его Императорского Величества Государя Александра Павловича со всей эскадры выпалено из 31 пушки…»
«В 31-й день августа… для церемонии тезоименитства для Его Императорского Величества Государя Александра Павловича следуя вице-адмиральскому кораблю со всей эскадры выпалено из 24-х фунтового калибра 26, 6-ти фунтового калибра 5, итого 31 пушка.
…8 часов стали находить шквалы, были блистания молний и слышен гром…»
Я специально привожу столь подробные выписки из Шканечного (вахтенного) журнала, ибо только они дают фактическую картину жизни и службы моряков Средиземноморской эскадры российского флота за тысячи миль от родных берегов. Читая эти строки, словно переносишься на 200 лет назад…
В середине августа 1806 года на помощь нашему флоту в Средиземном море из Кронштадта вышла эскадра под командованием капитан-командора И.А. Игнатьева в составе пяти линейных кораблей «Рафаил», «Сильный», «Твердый», «Мощный», «Скорый», фрегата «Легкий», корвета «Флора» и трех малых судов. Забегая вперед, следует сказать, что эскадра Игнатьева за четыре месяца без потерь преодолела путь вокруг Европы и 21 декабря 1806 года прибыла в Корфу и вступила под начальство вице-адмирала Сенявина.
Парижский договор не был ратифицирован российским императором Александром I.
Александр отказался ратифицировать договор по ряду причин: во-первых, стало ясно, что Англия на мир с Наполеоном не пойдет, во-вторых, отношения двора Фридриха-Вильгельма с Наполеоном стали все более напряженными, говорящими о близкой войне. Как писал историк Е. Тарле: «В России и царские сановники, и аристократия, и широкие дворянские круги не только не сочувствовали Наполеону, но желали ему поражения и не прощали Аустерлиц. Все это вместе взятое заставило царя отказаться в августе от ратификации договора, подписанного 8 июля 1806 года.
26 августа на эскадру Сенявина прибыл русский фельдъегерь, привезший повеление Александра I от 31 июля, отменявшее все прежние распоряжения.
Так Дмитрий Николаевич Сенявин узнал о своем неожиданном и полном торжестве. Его дерзкое неповиновение царской воле было вполне оправдано, русские военные позиции не были уступлены французам. Широкие планы Наполеона по завоеванию Далмации и Черногории были сведены русскими в 1806 году к нулю».
В сентябре 1806 года, после того как вице-адмирал Д. Н. Сенявин получил повеление Александра I, военные действия России против французов возобновились.
По заключению мира, с середины августа 1806 года французы начали строить батарею при самом входе в Катарский залив на мысе Остра.
В начале сентября отряд кораблей под командой контр-адмирала А. А. Сорокина в составе фрегата «Венус», кораблей «Параскевия» и «Святой Петр» с целью разведки вышли в море…
«В 1-й день сентября… на флагманском корабле Селафаил наших компасов компасные стрелки артифицеональным магнитом намагничены, которые склонение имеют
17 градусов W-е. …В 5 часов по починке барказа привели с берегу ко фрегату.
…в 7 часов привезено с берегу баталером быков живых 3. …в половине 4-го часа после полуночи пошел дождь с градом, был гром, было блистание молний. …В половине 6-го часа подняли с воды на фрегат барказ, катер, 4-х и 2-х весельные ялы. …в 6 часов стали сниматься с фертоинга, подняли якорь. …в начале 10-го часа следуя контр-адмиральскому кораблю Параскевия, отдав марсели и у оных все рифы, натянув шкоты, формарсель и стали лавировать на выход в море…»
«Во 2-й день сентября… лавируя под парусами. Лавирующий с нами корабль под контр-адмиральским флагом Параскевия на оном начальник дивизии контр-адмирал и кавалер Александр Андреевич Сорокин, партикулярный Святой Петр, в ¼ 1 часа прошли мы мыс Острав расстоянии 1-го кабельтова на румбе N-N-W и на оном мысе подняты 2 флага французской армии до 100 человек».
Выполняя разведку, «Венус» обнаружил две французские батареи.
«…в ¼ 3-го часа от мыса Остра к N-W-ту … на высоте французами построена вновь батарея и от оной к N-W-ту по берегу в расстоянии 2-х верст построена другая вновь батарея на низменности. …приказано нашему фрегату следовать в Старую Рагузу».
7 сентября капитан-лейтенант Развозов получил приказание совместно с кораблем «Св. Петр» уничтожить французскую батарею на низменности мыса Остра.
Шканечный журнал «Венуса»:
«В 7-й день сентября … в 3 часа с контр-адмиральского корабля Параскевия сигналом велено нашему фрегату идти в повеленный путь…»
Капитан Развозов собрал офицеров.
– Господа, поставлена боевая задача: Уничтожить французские батареи на мысе Остра. Прошу проверить готовность комендоров и орудий к бою. Особое внимание командиров мачт к четкому и быстрому управлению парусами. В бою от этого зависит меткость стрельбы… С Богом, господа офицеры!
…Фрегат «Венус», маневрируя, вышел на дистанцию прямого залпа. Нервы у капитан-лейтенанта Развозова крепкие. Фрегат правым бортом изрыгнул огонь. Палуба при каждом залпе вздрагивала. Слышались команды: «Бань!», «Жай!»
Комендоры пробанивали стволы пушек, заряжали их, и снова и снова гремели выстрелы… Над палубой стоял плотный дым… Комендоры из ведер оплескивали стволы пушек уксусом, чтобы те не раскалялись. Удушающий запах пороховой гари с едким уксусом сбивал дыхание.
И снова звучали команды: «Бань!», «Жай!»
Французские батареи с берега огрызались ответным огнем.
Капитан-лейтенант Развозов, стоя на мостике фрегата, успевал следить за боем, определять силу и направление ветра. В грохоте боя капитан должен улавливать порывы ветра, который никак нельзя потерять. В это время ветер переменился сразу на два румба. Последовала команда, и парусная вахта привела паруса к ветру…
Строчки из Шканечного журнала фрегата «Венус» скупо повествуют о бое у мыса Остра:
«В 8-й день сентября 1806 года… В ¼ 3-го часа находящимся между городом Старой Рагузой и мыса Остро 2 батареи по которым по 1-й к W-ту с корабля Святой Петр выпалено из 4-х пушек, а по 2-й от первой к О-ту из 3-х пушек ядрами. Во время лежания в дрейфе фрегат восходил к ветру, в то время с корабля Святой Петр выпалено еще из пушек с ядрами.
С ¾ 4-го часа находящейся на мысе Остра на низменной батарее, на которой находилось 4 пушки по которой с корабля Святой Петр стали производить пальбу с ядрами, в исходе того же часа тоже и у нас начали производить пальбу с ядрами, тоже и с оной батареи производили по нам пальбу с ядрами и с оной. Продолжалось ¼ часа и выпалено в оное время 8 пушек, а после с оной батареи люди ушли. Во время оной стрельбы употреблено пороху 24-х фунтового калибра боевых в 1/3 ядра 21 картуз, то же число ядер».
Как писал участник событий мичман Броневский: «Корабли своими орудиями сбили 10-пушечную батарею… “Петр”, стоя на якоре у оконечности мыса, фрегат “Венус” под парусами беспрестанно беспокоили неприятеля ядрами и картечью, убив много людей».
Из Шканечного журнала «Венуса»:
«В 11-й день сентября… лавируя под парусами в виду мыса Остра. В 2/3 4-го часа на мысе Остра видно было французские части армии, по которым у нас производили пушечную пальбу. В 5-м часу окончили у нас пальбу в которой употребили пороху 24 фунтового калибра 46 картузов и то же число ядер…»
Фрегат «Венус» постоянно находился под парусами, даже ночью. Вахтенные – один впереди на баке, другой – возле грот-мачты, третий – на юте – зорко всматривались в ночь…
Именно ночью, 12 сентября «Венус» и «Святой Петр» не допустили два французских судна, шедшие с провизией к мысу Остро, и отогнали их в бухту Молонто.
Из Шканечного журнала «Венуса»:
«В 12-й день сентября… ветер брамсельный, малооблачно… В начале 10-го часа с лавирующего корсара Св. Петр по идущим вдоль берега 2 требакулам выпалено из 3 пушек. В ¾ 11-го часа вновь с вышеназванного корсара по тем трбакулам шедшим к французам еще из 5 пушек».
На следующий день русские войска при поддержке артиллерии своих кораблей произвели нападение на французские укрепления у мыса Остро при входе в Каттарский залив. Французы не выдержали и отступили, оставив свои укрепления, на которых после их отступления было захвачено 38 орудий. В бухте Молонто взято 10 французских транспортов с провиантом и взята пятиорудийная батарея.
Шканечный журнал «Венуса»:
«В 13-й день сентября 1806 года лавируя в виду мыса Остра. В 2 часа… приехал к нам на фрегат на 6-ти весельной шлюпке с переговорным флагом с полуострова Молонты французский офицер, привез командующему от генерала Лазестона с письмом. В письме писано, чтобы …не брать ихние требакуля стоящие у полуострова Молонты в заливе, и оное письмо послано с вышеписанным командиром к его превосходительству господину вице-адмиралу и кавалеру Дмитрию Николаевичу Сенявину…»
15 сентября французская флотилия из десяти канонерских лодок и брига, стоявшая в порту Старой Рагузы, выслав вперед требаку под переговорным флагом, вознамерилась прорваться в Новую Рагузу. Но когда фрегат «Венус», по сигналу капитана I ранга Белли, с корабля «Азия», вступил под паруса, французская флотилия отступила, возвратилась назад, а с одной требаки была взята пушка. Как это произошло, описывает Шканечный журнал:
«В 15-й день сентября… усмотрено от нас в бухте Молонто французских требакул 6, в то время от нас дано знать контр-адмиральскому кораблю Параскевья сигналом, что видим неприятельские суда… В 3-м часу приехали к нам из Молонты на 2-х лодках черногорцы, которые донесли командующему, что крепости заняты ими, а стоящие требакулы затоплены. В половине того же часа для осмотра оных требакул послан от нас барказ с лейтенантом Мельниковым. В половине 7-го часа вышеписанный лейтенант Мельников из бухты Молонта возвратился и привез на барказе медную 12-ти фунтовую пушку… и на фрегат оную подняли».
На следующий день французы вновь пытались прорваться в гавань Новой Рагузы, но фрегат «Венус» подошел к входу в Старую Рагузу и огнем своих орудий воспрепятствовал этому, перестреливаясь с канонерскими лодками и батареями укреплений. При перестрелке фрегат «Венус» получил повреждения в рангоуте и две пробоины, одна из которых была подводная. Подводная пробоина – всегда тяжелое повреждение корпуса. Старший офицер фрегата послал в трюм аварийную партию во главе с корабельным плотником. Матросы тащили деревянные брусья, доски, паклю и смолу. Пробоина была заделана и течь уменьшилась. Воду из трюма продолжали откачивать ручными помпами.
Все эти дни капитан-лейтенант Развозов был на мостике. Матросы и офицеры слышали его уверенный голос, и эта уверенность передавалась им.
Лишь 25 сентября фрегат «Венус» оставил свой пост у Старой Рагузы и на следующий день прибыл в Кастель-Нуово.
Шканечный журнал «Венуса»:
«В 26-й день сентября … в 5 часов в оной бухте убрав все паруса и на глубине 24 сажени, грунт ил положили якорь».
В последний день сентября капитан-лейтенант Е. Ф. Развозов получил повеление вице-адмирала Д. Н. Сенявина отправиться на Сицилию, Мальту и Сардинию для доставления пороха в Каттаро, а перед этим доставить в Корфу надворного советника Карла Сиверса и мичмана Драевнича.



