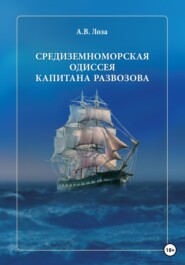 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Средиземноморская одиссея капитана Развозова
Заканчивался тяжелый, сложный для эскадры вице-адмирала Сенявина, но победный год. Как писал историк Е. Тарле: «Господство русского флота на Адриатике было бесспорным. Флот прочно закрепил то, что было завоевано армией. С такой славой моряки и солдаты Сенявина закончили этот многотрудный для них 1806 год».
Наступил Новый 1807-й…
Глава 5. Удача капитана Развозова
Море притягивает, зовет каждого по-разному. Один с детства живет на его берегу и слышит шум его волн. Другой растет вдали от него, но и тогда море тянет к себе, зовет! Юноша с мечтой в сердце отчаянно стремится к морю, узнать незнаемое, увидеть невиданное, испытать себя в трудном, рискованном деле…
Вот и Егорка Развозов – мальчишка, родившийся в небогатой дворянской семье, неподалеку от Твери, смышленый, читающий запоем книги, мечтал проложить свой фарватер к неведомым материкам и странам… Рассказы о морских странствиях зажгли в душе Егора искру любви к морю. Его звал морской простор, хотелось плавать на корабле, узнать вкус соленой морской воды, ощутить грудью упругие ветра всех широт, взлететь по вантам на реи… В самих названиях кораблей чудилось Егору что-то захватывающее, волнующее – шхуна, бриг, фрегат… Все-таки заболел Егорка Развозов морем.
Родился Егор Развозов в 1767 году. Отец – поручик Федор Андреевич Развозов, дворянин Тверского наместничества Осташевского уезда.
РГА ВМФ в фонде «Морское училище. Документы воспитанников за 1822 год» сохранился документ, в котором говорится, что: «…благородного его происхождения доказательством, по коим внесен он с родом в Дворянскую родословную книгу в 6 часть, явствует, что за прадедом его Иваном Развозовым состояло недвижимое в Ворожевском уезде имение еще в 1636 году».
(РГА ВМФ Ф. 432. Оп. 5. Д. 2312. Л. 3)
Когда пришло время, на родственном совете решили: поступать Егору в Морской корпус…
Как следует из «Общего Морского списка», часть IV, «Царствование Екатерины II», на страницах 648–649: «Развозов Егор Федорович 1782 г. марта 17. Поступил в Морской корпус кадетом». И далее: «1784 г. апреля 1. Произведен в Гардемарины. 1784–1786 гг. ежегодно плавал в Балтийском море».
В те годы Шляхетский морской кадетский корпус находился в Кронштадте, в так называемом Итальянском дворце, куда его перевели из Петербурга с Васильевского острова после пожара 1771 года. Командовал корпусом Иван Логинович Голенищев-Кутузов, член Адмиралтейств-коллегии. Инспектором классов был Курганов, после него – Голостенов. Ротные командиры – все «из морских офицеров, знающие науки и иностранные языки».
Младшие кадеты вывозились летом в корпусной военный лагерь. В лагере обучали «ружейной экзерциции, пальбе и фронтовым приемам» По возвращении из лагеря в корпус оружие, боеприпасы и вся амуниция сдавались в арсенал, а воспитанники приступали к занятиям.
Как писал генерал-майор А. С. Кротков в своем труде «Морской кадетский корпус. Краткий исторический очерк» 1901 года издания: «Морское дело кадеты изучали в практическом классе, где обучали морской практике, объясняли случаи, бывающие в морской практике, на имеющихся в корпусе моделях кораблей, показывали на вооруженном корабле употребление такелажа и корабельных орудий в поворотах корабля и прочее, до того надлежащее; на модели профиля корабля показывали внутреннее расположение корабля и что, где, при нагрузке вмещается; …показывали описи берегов, вымеривание фарватеров, положение берегов на картах, показывали поверку компаса, употребление морских инструментов, как делать обсервации, развязку лаг-линя и поверку часов».
Морской корпус имел в своем ведении трехмачтовую яхту, которая ходила в море до Красной горки для обучения кадет «…на этой яхте, кроме тяжелых работ, должны они сами все делать и парусами управлять под командою корпусных офицеров». Директор корпуса И.Л. Голенищев-Кутузов старался привить своим питомцам хорошие манеры и правила поведения. Иван Логинович пытался создать в корпусе и на учебных судах обстановку для культурного воспитания будущих морских офицеров. Для этого он рекомендовал предоставить гардемаринам право питаться за командирским столом.
В корпусе обучали французскому, английскому и немецкому языкам, так как «знание иностранных языков очень нужно для морского офицера в его службе, гораздо нужнее, нежели для каждого в другой службе, ибо морской офицер в своей службе имеет частые сношения с иностранцами и, кроме того, для достижения совершенства в своем искусстве должен читать иностранныя книги о мореплавании, коих книг на русском языке, кроме самого малого числа их, вовсе нет».
Кадеты по расписанию посещали классы от семи до одиннадцати часов и от двух до шести часов пополудни. Математические и морские трудные науки преподавались утром, а словесные и более легкая часть морских наук вечером, на том основании, что труднейшие науки, требующие большого умственного напряжения у воспитанников, лучше усваиваются утром.
Для астрономических наблюдений на здании корпуса была устроена обсерватория. Профессор Котельников, ученик Эйлера, читал по своим запискам высшие математические и морские науки. Морские эволюции кадеты проходили по сочинению Госта, переведенному самим Голенищевым-Кутузовым. Все науки проходили, применяясь к будущей морской службе воспитанников.
Вообще, теоретические сведения сообщались в Морском кадетском корпусе в то время хорошо. В числе преподавателей был замечательный человек Н.Г. Курганов, образованный не только в математических и морских науках. Он знал «хорошо французский и немецкий языки и мог читать английския и латинския книги».
Для морской практики гардемарины и артиллерийские кадеты ходили на кораблях и фрегатах Балтийского флота. При этом «для гардемарин и кадет отпускались от корпуса на суда серебряные ложки, вилки, ножи, солонки и столовое белье».
В 1783 году число воспитанников корпуса выросло с 360 человек до шестисот, что было необходимо в связи с «увеличением морских сил в Балтийском море» и что «стал заводиться флот на Черном море». Для пополнения необходимого числа флотских офицеров Императрица Екатерина II указала увеличить штат воспитанников Морского корпуса. Были образованы «две новые роты, так что с 1783 года в Морском корпусе стало 5 рот; собственно воспитанников было 585 человек. Из 585 воспитанников было 15 сержантов, по 3 в каждой роте, 5 подпрапорщиков, 20 капралов, 145 рядовых гардемарин, 60 артиллерийских кадет и 340 морских кадет».
«Прибавлены были деньги на пищу и на одежду кадет; на пищу было отпущено, вместо 8 ½ коп., по 12 коп. в день, а на одежду, вместо 32 руб., по 36 руб. 20 коп. на кадета».
Дополнительно были назначены «помощник инспектора классов, учителя морской практики, нравственной философии и права, итальянского, датского и шведского языков для кадет».
Быт воспитанников Шляхетского Морского корпуса в конце XVIII века, по воспоминаниям барона Владимира Штейнгеля, выпускника 1799 года, был достаточно суров. Он писал: «…в учении не было никакой методы, старались долбить одну математику по Эвклиду, а о словесности и других изящных науках вообще не помышляли… Между кадетами замечательно была вообще грубость… Была еще одна особенность в нашем корпусе, это – господство гардемаринов и особенно старших над кадетами; первые употребляли последних в услугу, как сущих своих дворовых людей: я сам, бывши кадетом, подавал старшему умываться, снимал сапоги, чистил платье… Зато какая радость, какое счастье, когда произведут, бывало, в гардемарины; тогда из крепостных становишься уже сам барином, и все повинуется».
Как это напоминает армейскую «годковщину» в современном понимании этого слова. Наверное, Штейнгель достаточно правдиво описывал кадетский быт, но в общем чувствуется сгущение красок, если учесть, что Штейнгель был декабристом. Вряд ли грубость старших над младшими была в корпусе самоцелью, скорее всего, это делалось в духе исправления ленивых и неисполнительных кадет, соответствуя общему направлению воспитания, бытовавшему в то время.
Забегая вперед, отмечу, что «в 1802 году было приказано Морскому кадетскому корпусу именоваться без прибавления слова “шляхетский”».
Надо сказать, что порядок в ротах часто зависел не от командиров, а от старших гардемаринов. Так, в работе Г. И. Зуева «Историческая хроника Морского корпуса. 1701–1925 гг.» говорится, что «в числе спорных пунктов корпусной этики, как правило, выдвигались их претензии распоряжаться не только кадетами, но и старшими гардемаринами. Эти споры обычно решались рукопашным боем, который происходил в корпусном дворе. Дрались стенка на стенку. Корпусные поэты слагали по этому поводу оды и поэмы, прославлявшие «рыцарские поединки». Некоторые даже считали, что подобные суровые условия корпусной жизни воспитывали умение постоять за себя, за свое достоинство, спайку в решении общих задач».
В Морском корпусе кадеты с презрением относились к тем, кто пренебрегал долгом товарищества. Абсолютно недопустимым считалось фискальство – жалобы и доносы воспитателям. Офицер Морского корпуса Н. Бестужев давал такой совет своему брату, идущему в первое плавание: «Не давай себя в обиду, если под силу – бей сам и отнюдь не смей мне жаловаться на обидчика».
Кадета Егора Развозова дисциплина не тяготила. Он принимал все как должное. К придиркам старших гардемарин относился спокойно, сносил их стоически, не озлобляясь. Сам Егор, став гардемарином, никогда не помыкал младшими, часто заступался за них, не давая издеваться другим. Егор был смелым парнем. Он интуитивно чувствовал, что море любит тех, кто за себя может постоять и за товарища. Постоишь за товарища – и он тебя выручит, когда трудный час придет.
Учеба в Морском корпусе Егору Развозову давалась легко. Учился он всегда похвально. Кадет Развозов отличался от сверстников пытливостью и настойчивостью в постижении морского дела. Он уже знал, что паруса бывают прямыми и косыми – фоки, гроты, марсели, брамсели, крюйсели, кливера, стаксели; знал, что первая мачта на корабле называется фок-мачта, затем – грот-мачта, третья – бизань-мачта. На занятиях, изучая устройство паруса, Егор знал, что шкаторина – это кромка паруса, знал, где у паруса нашиты риф-банты и гордень-боуты, что ликтрос – это канат, которым оканачиваются паруса. Егор уж не путал фок с фор-марселем, рангоут с такелажем, фалы с брасами и шкотами. Помнил наизусть названия всех парусов и реев.
Егорка Развозов с интересом слушал преподавателя Морского корпуса: «С древнейших времен люди изобретали средства преодоления водных пространств: деревянные плоты, лодки-долбленки, папирусные лодки. В древности известными мореходами были жители острова Крит. Они первыми на своих судах применили киль и шпангоуты. Финикийцы, древние греки, римляне и карфагеняне совершенствовали мореходные качества своих судов.
В VIII–IX веках появился латинский треугольный парус, позволивший мореходам маневрировать против ветра. Прошли века, и трехмачтовые каравеллы Колумба пересекли Атлантический океан, открыв Америку. И вот теперь – фрегаты, корветы, бриги…»
После ему снились стройные белопарусные корабли, летящие по волнам, кренясь при свежем ветре, разрезая волны своими форштевнями…
На морской практике на Балтике Егор Развозов первый раз поднялся на вершину мачты. Кадеты сгрудились у фок-мачты, когда прозвучала команда боцмана:
– Развозов, на салинг – марш!
Егор вздрогнул, поднял голову и взглянул вверх на салинг – площадку в виде рамы у топа стеньги. Проворно подошел к вантам, закрепленным у борта, и быстро полез по ним на марс. Постояв там секунду и переведя дух, полез по следующим вантам, закрепленным уже на марсе, и стремительно взлетел на салинг.
Он посмотрел вниз. От высоты чуть кружилась голова. Фигуры боцмана и друзей кадет внизу, на палубе были совсем маленькими… Егор, держась рукой за вантину, перевел взгляд вдаль. Перед ним до самого горизонта простиралась морская ширь. Вдали, сливаясь с морем, толпились белые облака… Солнце сияло вовсю. В душе Егора теснились восторг и радость! Он преодолел себя! Он здесь – на вершине мачты, на головокружительной высоте!
– Развозов, вниз! – Скомандовал боцман.
На той первой морской практике Егор Развозов понял, что не укачивается, даже на крутой волне. Хотя среди его друзей кадет многих укачивало «в лежку». За время практических плаваний Егор овладел многими необходимыми моряку знаниями: обучился прокладывать курс, пользоваться секстантом и астролябией, стоять на руле, ловить переменчивый ветер, следить за оттенками моря. Особенно сложным было понять взаимодействие между парусной командой и рулевым. И тот и другие зависели от ветра, его силы, направления и постоянства.
Несмотря на суровое воспитание кадетов и гардемаринов, Егор Развозов рано впитал в себя понятие «честь». Честь нельзя сыграть, сымитировать. Честь – качество наследственное, которое складывается деяниями нескольких поколений. В России понятие чести по смыслу всегда было ближе к понятию «правда». Правда, которая утверждается жертвой собственной жизни. У русских честь в душе!
За все годы службы Развозов пальцем не тронул ни одного матроса, запретив заниматься рукоприкладством на своих кораблях и другим офицерам.
Как вспоминала в 1932 году Мария Владимировна Гетнер, в девичестве Развозова, род Развозовых находился на военной службе с середины XVI века… Несколько поколений Развозовых с честью, верой и правдой служили России.
Вся последующая служба и жизнь Егора Федоровича Развозова – яркое тому свидетельство и подтверждение.
Быстро летели корпусные годы…
В 1782 году февраля 18-го числа определен в Морской кадетский корпус в кадеты. В 1784 послан был в компанию на корабле Мечеслав и прибыл обратно в Кронштадт в кадетский корпус, а в 1785 послан в компанию на фрегате Александр и прибыл обратно в Морской корпус, в 1786 году по получению звания мичмана определен в Гребной флот и определен в 1-ю дивизию.
(РГА ВМФ Ф. 406. Оп. 7. Д. 52. Л. 164)
Навсегда запомнил Егор Федорович свой выпуск 20 апреля 1786 года, как навсегда запомнил Клятвенное обещание, под которым поставил собственноручную подпись:
«Аз нижеименованный обещаюся и клянуся всемогущим Богом, пред святым Его Евангелием в том, что хочу и должен Ея Императорскому Величеству Императрице ЕКАТЕРИНЕ АЛЕКСЕЕВНЕ Самодержице Всероссийской, и Ея Императорского Величества любезному сыну Государю Цесаревичу и Великому Князю ПАВЛУ ПЕТРОВИЧУ, законному всероссийского престола Наследнику, верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови… и для своей корысти, свойства дружбы, ни вражды противного должности своей и присяге не поступать, и таким образом себя весть и поступать, как доброму и верному Ее Императорского Величества рабу и подданному благопристойно есть и надлежит, и как я перед Богом и судом Его страшным в том всегда ответ дать могу, как сущно мне Господь Бог душевно и телесно да поможет.
В заключении же сей моей клятвы целую слова и крест Спасителя моего. Аминь».
(РГА ВМФ Ф. 432. Оп. 1. Д. 249. Л. 99)
На плацу Морского корпуса в строю под знаменами весь состав, включая младшие роты. Офицеры при орденах и шпагах. Директор корпуса Голенищев-Кутузов зычно произнес: «Господа гардемарины производятся высочайшим указом в мичманы и направляются по кораблям…» Ответом на речь адмирала было дружное «Ура!». Так Егорка – Егор Федорович Развозов – стал офицером. Быть офицером в девятнадцать лет – здорово!
Мальчишка, но на поясе шпага.
О самом Егоре Федоровиче Развозове и его службе я узнал из «Послужного списка … за 1797 год», хранящемся в Российском Государственном архиве ВМФ.
ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК
команды корабля Всеволод
флота лейтенанта Егора Развозова
за 1797 год
Какой дивизии и эскадры: Третьей дивизии, Первой эскадры.
Какого корабля: корабля Всеволод.
Чин: флота лейтенант Егор Федоров сын Развозов.
Сколько отроду лет: 30.
Каких чинов, каких наций и закона, много ли имеет мужеского пола душ: из дворян
Российской нации и закона, мужского пола за собой имеет душ 16.
Время вступления в службу: год 1782.
Какими чинами и когда проходил: в кадеты – 1782 год, в гардемарины – 1784 год, от гардемарин в капралы – 1785 мая 1, в мичмана – 1786 мая 1, в лейтенанты – 1788 мая 1.
Грамоте, считать и писать умеет ли или другие какие науки знает: грамотен,
читать и писать умею и что надлежит морскому офицеру знаю.
Во время продолжения службы когда и где в компании на море был, на каких кораблях:
в 1787 назначен в экспедицию на судне Смелый из гребного флота,
в 1788 определен на фрегат Подрожеслав, был в крейсерстве, взяли в плен судно,
в 1795 на корабле Елена назначен был в Англию под флагом вице-адмирала Ханыкова,
в 1796 направлен на корабль Ретвизан, был в разные времена в крейсерстве под флагом английского вице-адмирала Мегрейда. В сентябре получил повеление чтобы идти в Россию на соединение с эскадрой вице-адмирала Ханыкова. На Кронштадтском рейде 6 октября 1796 втянулись в гавань, где зазимовали.
В 1797 года марта 7 по предписанию Адмиралтейств-Коллегии командирован к городу Архангельску на корабль Всеволод, где ныне и нахожусь.
Сколько, когда и за какие вины имеет штраф: не бывал.
Подпись: Лейтенант Егор Развозов.
И ниже:
Мнение командования, кто аттестовал: «Поведения весьма хорошего, в должности своей исправен» капитан-лейтенант Карл Кригер.
«С мнением капитан-лейтенанта Кригера «СОГЛАСЕН» Григорий Козлянинов».
(РГА ВМФ Ф. 406. Оп. 7. Д. 52. Л. 164–167)
Когда из архивных глубин было извлечено и передано мне толстенное Дело № 52 с Послужными списками офицеров Екатерининского времени, первое, что бросилось в глаза: листы желтые, хрустящие, какие-то пергаментные, чернила светло-коричневые – выгоревшие. Этим документам более двести двадцать лет! Осторожно листаю, подложив под обложку специальную подушечку, чтобы не переламывались листы. Нахожу Послужной список лейтенанта Егора Развозова.
Волнение охватило меня, когда я увидел личную подпись – Лейтенант Егор Развозов.
Я всматриваюсь в почерк человека, жившего более двухсот лет назад, боевую службу и жизнь которого я хочу вывести из тени исторического забвения. Подпись размашистая, буквы «Р» в подписи с длинными отогнутыми вниз, в левую сторону «хвостами», говорящие о энергичности и целеустремленности человека…
Скупые строки «Послужного списка…» Е. Ф. Развозова: «…в 1787 назначен в экспедицию на судне Смелый из гребного флота» приоткрывают малоизвестную страницу истории российского флота – подготовку к первой кругосветной экспедиции, к участию в которой был отобран мичман Развозов.
Историческая справка
В декабре 1786 года императрица Екатерина II задумала экспедицию вокруг света, начальником которой был назначен 29-летний капитан I ранга Г. И. Муловский.
В задачи экспедиции входили: закрепление за Россией владений в Тихом океане, основание русской крепости на Южных Курилах, заведение торговли с Японией, утверждение российского права на земли, открытые русскими мореплавателями в Тихом океане, путем установки чугунных гербов и медалей с изображением императрицы, составление карт Приморья, Сахалина… В эскадру кругосветной экспедиции были включены пять судов: флагманское судно «Колмагор» под командованием капитана I ранга Г. И. Муловского, «Соловки» под командованием капитана II ранга А.М. Кириевского, «Сокол» – капитан-лейтенант Е.К. фон Сиверс, «Турухан» – капитан-лейтенант Д. С. Трубецкой и транспортное судно «Смелый». На «Смелый» и был назначен молодой мичман Е. Ф. Развозов.
Научная часть экспедиции была поручена академику П.С. Палласу. В ученый отряд экспедиции вошли астроном Уильям Бейли, естествоиспытатель Георг Форстер, ботаник Соммеринг и четыре живописца. Для «ведения обстоятельного путешественного чистым штилем журнала» был приглашен секретарь Степанов.
Экспедиция готовилась особо тщательно. Экипажи судов и офицеры были собраны в Кронштадте. Корабли были подняты на стапели и работа на них кипела до темна.
На флагманском судне был оборудован лазарет на сорок коек с ученым лекарем, на другие суда были определены подлекари.
Корабли были отлично вооружены и загружены продуктами: квашеной капустой, соленым щавелем (по двести пудов на каждое судно), по двадцать пудов сушеного хрена, по двадцать пять пудов лука и чеснока. Из Архангельска было доставлено по особому заказу триста пудов морошки, заготовлено тридцать бочек сахарной патоки, более тысячи ведер сбитня, 888 ведер сдвоенного пива. Мясо, масло, уксус и сыр планировали закупить в Англии. Кроме двойной мундирной амуниции, нижним чинам и служителям полагались «по двенадцати рубах и по десять пар чулок (восемь шерстяных и две нитяных)».
Офицерам эскадры, а в экспедицию отбирались лучшие из лучших, Адмиралтейств-коллегия гарантировала производство в следующий чин и двойное жалованье на время плавания.
Екатерина II лично определила порядок награждения начальника экспедиции капитана I ранга Г. И. Муловского:
«…когда пройдет он Канарские острова, да объявит себе чин бригадира; достигши мыса Доброй Надежды, возложить ему на себя орден Св. Владимира 3-го класса; когда дойдет до Японии, то и получит уж чин генерал-майора».
В Англии русским министром-послом были заказаны лоцманы, дожидавшиеся эскадру в Копенгагене. 4 октября 1787 года суда кругосветной экспедиции Муловского в полной готовности к отплытию, выстроились на Кронштадтском рейде. Но срочная депеша из Константинополя о начале войны с Турцией перечеркнула все планы. Последовало высочайшее повеление Екатерины:
«Приготовляемую в дальнее путешествие под командою флота капитана Муловского экспедицию, по настоящим обстоятельствам отложить, и как офицеров, матросов и прочих людей, для сей эскадры назначенных, так и суда и разные припасы для нее заготовленные, обратить в число той части флота нашего, которая по указу нашему от 20 числа нынешнего месяца Адмиралтейств-коллегии данному, в Средиземное море оправлена долженствует».
Но и в Средиземное море эскадра не ушла. Пользуясь тем, что Турция объявила войну России, шведский король Густав III предъявил в июле 1788 года русскому правительству ультиматум: возвратить Швеции территории Финляндии и Карелии, отошедшие к России по Ништадтскому и Абоскому договорам, разоружить Балтийский флот, прекратить войну против Турции и вернуть ей Крым. Императрица Екатерина II назвала этот ультиматум «образцом… горячечного бреда». Началась война со Швецией. Корабли остались на Балтике.
Если бы этой кругосветной экспедиции суждено было состояться, то в наше время перед Россией не стоял бы вопрос о принадлежности Южных Курил, на семьдесят лет раньше Россия могла бы начать освоение Приамурья, Приморья, Сахалина, иначе могла бы сложиться судьба Русской Америки.
Но история не знает сослагательного наклонения! О кругосветном плавании было забыто на целое десятилетие.
Так, по стечению политических и военных обстоятельств, мичман Е. Ф. Развозов не стал участником кругосветной экспедиции, а продолжил служить на Балтике, где был назначен на фрегат «Подрожеслав».
Скупые строки «Послужного списка…»: «…в 1788 определен на фрегат Подрожеслав, был в крейсерстве, взяли в плен судно».
Сколько за этими простыми словами отваги, мужества, воинской удачи…
Фрегатом «Подрожеслав» в 1788 году командовал капитан-лейтенант Ф. Я. Ломен – опытный офицер, плававший волонтером у берегов Вест-Индии, ходивший на корабле «Святослав» в Ливорно, награжденный орденом Святого Георгия 4-й степени за восемнадцать кампаний. У такого командира было чему поучиться.
Мичман Развозов стремился в каждом поручении достичь наилучшего результата, проникаясь чувством долга и ответственности за порученное дело. Его смелость, расторопность и распорядительность не остались без внимания начальства, и 1 мая 1788 года Е. Ф. Развозова произвели в чин лейтенанта.
На фрегате «Подрожеслав» лейтенант Развозов принял участие в сражении со шведским флотом у острова Гогланд. Фрегат «Подрожеслав» находился за линией наших линейных кораблей вместе с шестью другими фрегатами. Бой длился до наступления ночи. Шведская эскадра была обращена в бегство.
Свое боевое крещение Егор Федорович Развозов получил на Балтике в войне со Швецией.
После Гогландского сражения, в котором три корабля – «Память Евстафия», «Иоанн Богослов» и «Дерись» – не выполнили своевременно приказание флагмана сомкнуть строй и вновь атаковать шведов, адмирал Грейг их командиров отдал под суд, заменив другими офицерами. Командир «Подрожеслава» капитан-лейтенант Ф. Я. Ломен был переведен на корабль «Дерись», а вместо него командовать «Подрожеславом» назначили капитан-лейтенанта К. И. Гревенса.
В штормовом сентябре 1788 года «Подрожеслав», крейсируя на меридиане Паркалаут, с целью пресечения подвоза провианта к Свеаборгу, где укрылся шведский флот, обнаружил купеческий бриг. Подойдя к бригу по корме на четверть кабельтова, фрегат лег в дрейф. Старший офицер фрегата на борту «купца» выяснил, что груз идет из Швеции и предназначен для военных кораблей, в связи с чем купеческое судно вместе с грузом в качестве приза было взято в плен.



