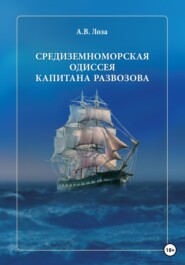 Полная версия
Полная версияСредиземноморская одиссея капитана Развозова
Такое поразительное сходство придает мне смелости утверждать, что Александр Владимирович и Егор Федорович могли быть похожи.
Конечно, у Александра Владимировича на плечах погоны, а Егор Федорович носил эполеты, но взгляд, я уверен, – взгляд был тот же, твердый, повелительный. Взгляд отважного человека, в душе чуть-чуть авантюриста и флибустьера, привыкшего отдавать команды, управлять людьми, посылать их в бой…
Если долго смотреть на фотографию Александра Владимировича, постепенно из туманного прошлого выплывает образ морского офицера в треуголке и эполетах, родившегося в далекую Екатерининскую эпоху, служившего России во времена Александра I, капитан-командора Егора Федоровича Развозова.
Недолго пришлось наслаждаться капитану I ранга Егору Федоровичу Развозову тихой, уютной семейной жизнью. Грянул 1812 год! Наполеон вторгся в пределы Российской империи. Капитан I ранга Е. Ф. Развозов был отозван из 37-го флотского экипажа и, как офицер, имеющий большой боевой опыт, назначен командующим гребной флотилией под начальством контр-адмирала А. В. Моллера Второго. Скупые строки «Послужного списка…» за 1816 год: «в 1812 году из Ревеля до Риги, Митавы, где находился в сражении». Из «Общего Морского списка» уточняю череду событий. В 1812 году Развозов сражался под Ригой и у Курляндского побережья. Командовал отрядом из восемнадцати канонерских лодок. Отряд Развозова был наиболее активен в сражениях под Шлокой, Митавой. За эти сражения в 1812 году он был награжден орденом Святого Владимира 3-й степени.
«Командуя гребной флотилией под начальством контр-адмирала Антона Васильевича Моллера 2-го, плавал от Ревеля до Риги и Митавы и участвовал в сражении против французских войск на реке Аа, за что был награжден орденом Св. Владимира 3 степени».
«Пожалован кавалером ордена Равноапостольного князя Владимира 3-й степени 1813 год, апреля 8-го числа».
И снова «Послужной список…» за 1816 год: «в 1813 году, май 29 сухим путем в Виндаву, Либаву и Пиллау, принял в оной начальство Рижской гребной флотилией, прибыл к блокаде города Данцига, где находился в сражении и потом в Кенигсберге».
«Общий Морской список» об этом же времени: «1813 г. Командуя резервным отрядом Рижской гребной флотилии, под начальством вице-адмирала Алексея Самуиловича Грейга участвовал в блокаде Данцига. Награжден золотой шпагой с надписью “За храбрость”».
«Послужной список …» за 1816 год уточняет: «в 1813 году за отличную храбрость оказанную в сражении в 4-й день октября Всемилостивше пожалован Золотою шпагою «За храбрость».
(РГА ВМФ Ф. 406. Оп. 2. Д. 59. Л. 145–150)
Слова «за отличную храбрость» показывают, что с годами не изменился характер Егора Федоровича Развозова, что, как и прежде, он настойчив в бою, храбр и смел. По истечении четырех лет следующий «Послужной список…» за 1820 год свидетельствует о дальнейшей службе Развозова: «в 1814 году от Кенигсберга до Свеаборга. Кампания продолжалась до 26 июля. Командуя той же флотилией перешел из Кенигсберга в Свеаборг».
В 1814 году в Свеаборгском порту при береге. В 18015 году в Свеаборге в 37-м корабельном экипаже. В 1816 г. Командовал в том же порту 25-м флотским экипажем».
И далее: «в 1817-й, 1818-й, 1819-й, 1820-й в Свеаборге при береге. В 37-м корабельном экипаже командиром и в 20-м флотском экипаже командующим».
Кроме того, в «Послужном списке…» за 1820-й год в графе «Какое получает довольствие» указано: «Жалование получает полного 1200 рублей и столовых денег 500 рублей в год».
Заканчивается «Общий Морской список», часть IV, фразой: «1821 г. апреля 13. Уволен от службы чином капитан-командора».
Наконец-то, выйдя в отставку, капитан-командор Е. Ф. Развозов после стольких лет плаваний, сражений, войн и морских походов мог достойно встретить старость в кругу семьи. После рождения двух сыновей и дочери Августы у него родились еще две дочери – Наталия и Любовь. Такой семьей стоило гордиться!
Но, к сожалению, здоровье было подорвано, Егор Федорович много болел и в том же 1821 году, после тридцати девяти лет службы на флоте, в возрасте пятидесяти девяти лет капитан-командор Егор Федорович Развозов скончался. Несомненно, быть ему адмиралом, но здоровье не позволило им стать. Вот такая жизнь и такая судьба!
Заключение
Минуло двести пятьдесят лет. Много воды утекло с тех пор, но по-прежнему кружат чайки над белой кипенью прибоя у островов Эгейского и Адриатического морей… Ничего не напоминает на этих островах о временах русской Архипелагской «губернии». Перед временем и непогодой не устояли сооружения, построенные русскими моряками на острове Парос, Корфу и других. Безжалостное время, шторма и бури смыли следы пребывания русской эскадры под Андреевским флагом в Средиземном море в конце XVIII – начале ХIХ веков.
Правление Екатерины II по праву считается «золотым веком Российской империи».
К России были присоединены владения на Западе, включая земли современных Белоруссии и Литвы, одержаны блестящие победы в войнах с Турцией, страна вобрала в себя обширные территории на Юге, в том числе Крым.
Как не вспомнить возвращение Крыма – этой «короны Российской империи» в Российскую Федерацию в XXI веке – деяние, достойное самой императрицы Екатерины Великой.
На протяжении существования Российской империи ее государственные деятели не раз прибегали к помощи получивших патенты корсаров-каперов и других наемных команд, в том числе из греков, албанцев и прочих балканских народов, усилия которых в борьбе за независимость использовались в военное время в интересах России. Несмотря на это бытует мнение, что русских корсаров никогда не существовало – заблуждение, возникшее в связи с тем, что они несли «государеву службу», ходили под российским флагом и подчинялись властям, а не свободно грабили всех подряд.
Морские каперы отличаются от сухопутных разбойников, ибо те, кто решился выйти в море, помимо всего прочего, вынуждены противостоять грозным природным стихиям, сражаясь не только с людьми, но и со штормами, шквалами, водоворотами, рифами, мелями, сталкиваясь с неведомыми опасностями, подстерегающими в море.
Это отличные дисциплинированные воины и моряки, поэтому они легко, без особых трудностей, переходили на службу в военный флот. Они знали корабль, умели читать карту и ориентироваться по компасу, солнцу, звездам; помнили приметы погоды и предвидели ее изменения. Они не теряли самообладания в минуты смертельной опасности и были способны работать на пределе сил, порой обходясь крохами еды и каплями воды; были надежными товарищами.
Наверное, именно этими нетривиальными качествами и привлекает до сих пор образ корсара – романтика моря.
Историки отмечают, что искусству мореплавания пиратство оказало большие услуги, потому что корсары отваживались заплывать в такие моря, куда до них еще никто не решался идти, да и в технике судостроения и особенно в оснастке парусных кораблей они нередко шли впереди своего времени, так как успех каперских действий зависел больше всего от скорости корабля и его хорошей управляемости.
Как в Первой, так и во Второй Архипелагских экспедициях в Средиземное море российских кораблей и адмирал Спиридов, и вице-адмирал Сенявин широко использовали албанских и греческих капитанов-патриотов, которым выдавались патенты и которые становились каперами. Суда каперов придавались капитанам русских фрегатов и такие отряды, неся крейсерскую (каперскую) службу, наносили серьезный урон торговому судоходству, как турок, так и французов.
Блестящая боевая кампания командующего Второй Архипелагской экспедицией русского флота вице-адмирала Д. Н. Сенявина, эффективно использовавшего помощь местного населения против французских войск на побережье Адриатического моря в Далмации и Черногории, удостоилась благодарности Республики Семи Островов, представители которой преподнесли адмиралу шпагу и жезл, осыпанный драгоценными камнями. За победу в Афонском сражении Д. Н. Сенявин был награжден орденом Святого Александра Невского.
По заключению Тильзитского мира эскадра Сенявина направилась из Адриатического моря в Россию. У берегов Португалии ее настиг жестокий шторм, заставивший корабли зайти в Лиссабон, где они были блокированы флотом Великобритании, находившейся в 1807 года в состоянии войны с Россией. Проявив незаурядные дипломатические способности, вице-адмирал Сенявин заключил с английским адмиралом Коттоном выгодный договор, сдав английским представителям на хранение корабли эскадры, экипажи которых доставил в Россию. Однако это самовольно принятое дипломатическое решение вызвало гнев Александра I, и вице-адмирал Сенявин оказался в опале. С 1811 по 1813 год он командовал Ревельским портом. В апреле 1813 года был отправлен в отставку.
При коронации императора Николая I в 1825 году Д. Н. Сенявин был произведен в адмиралы и в декабре 1826 года назначен сенатором. С 1827 года командовал эскадрой Балтийского флота. В 1830 году был уволен по болезни в бессрочный отпуск.
Умер флотоводец 5 апреля 1831 года в возрасте шестидесяти семи лет и похоронен в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.
В этой книге часто цитируется труд «Краткая история русского флота» известного историка военного флота генерала Корпуса флотских штурманов Феодосия Федоровича Веселаго, написанный на основе многочисленных архивных и мемуарных материалов и до сих пор являющийся важным источником по истории нашего военно-морского флота.
Этот труд, отличающийся глубиной и серьезностью анализа основных событий жизни русского флота, обобщает опыт парусного флота, оценивает возможности флота обеспечить интересы страны на морях и океанах, анализирует не только военно-морские операции, но и саму государственную политику России в годы, когда наш военный флот впервые вышел на просторы Мирового океана из замкнутых морских бассейнов. Без этого исторического источника мне сложно было бы писать о действиях нашего флота в Средиземном море в период 1770–1807 годов.
Генерал Ф. Ф. Веселаго ушел из жизни в 1895 году и был похоронен в Санкт-Петербурге на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря. За прошедшие сто с лишним лет надгробие его могилы разрушилось и пришло в запустение. Судьбе было угодно, чтобы и я включился в инициативу по изготовлению нового памятника генералу Ф. Ф. Веселаго. Торжественное мероприятие, посвященное окончанию работ по восстановлению могилы Ф. Ф. Веселаго, прошло в канун 320-летия создания регулярного флота России.
Какие порой причудливые пересечения случаются в судьбах и жизни людей, связавших свою жизнь и судьбу с флотом.
Память народная до сих пор хранит имена адмиралов Г. А. Спиридова. Д. Н. Сенявина, но не должны быть забыты и имена офицеров, командиров кораблей их эскадр, среди которых и имя русского офицера командира фрегата «Венус» Егора Федоровича Развозова.
Вечная им память!
Постскриптум
«Постскриптумом» – называется приписка к письму после подписи. Я и хочу сделать такую приписку к завершенной книге, потому что эта приписка не связана напрямую с ее героями. Она для тех, кто хотел бы знать, как в дальнейшем развивались события в Ближневосточном регионе Средиземного моря и что для влияния на эти события делал Советский Союз и впоследствии Российская Федерация.
Само Средиземное море и два с половиной века спустя после описываемых в книге событий находится в центре политики России, Турции и Европейских стран, продолжая оставаться клубком политических противоречий в Ближневосточном регионе. Поэтому снова, как и двести пятьдесят лет назад, российские военные моряки бороздят воды Средиземного моря на своих кораблях – современных крейсерах, эсминцах и подводных лодках, на гафелях которых так же, как во времена адмиралов Спиридова и Сенявина, развевается Андреевский флаг, обеспечивая мир на его берегах…
И в ХХ веке, на протяжении всего советского периода, Военно-морской флот СССР, в первую очередь Черноморский, в Средиземном море оказывал существенное влияние на европейскую политику. Не будь там нашего флота, политическая карта Средиземноморья была бы другой. Но всегда на этом пути вставали проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющие Черное море со Средиземным. Взгляд на проливы как на ключ к Средиземному морю не раз подчеркивал И. В. Сталин. Как пишет Д. Петров в статье «Серп и молот на святую Софию!»: «Еще в начале 1930-х годов в беседе с адмиралом Исаковым он (Сталин. – А.Л.) говорил: “Что такое Черное море? Бутылка. А пробка не у нас…”»
Сознавая уязвимость русских позиций на Черном море, Сталин начал развивать Северный флот, чтобы через арктические трассы иметь свободный выход в Мировой океан, а оттуда и в Средиземноморье.
Хотя в 1936 году была заключена международная конвенция в Монтре, устанавливающая ограничения для прохода военных судов нечерноморских держав через проливы, в то время как военные корабли Турции, СССР и других стран, имеющих выход к Черному морю, могли передвигаться через проливы без всяких ограничений, Сталина это не устраивало.
Во время Второй мировой войны Турция, формально остававшаяся нейтральной, невзирая ни на какие конвенции, пропускала немецкие корабли в Черное море. Поэтому в марте 1945 года СССР денонсировал советско-турецкий Договор о дружбе от 25 декабря 1925 года. В июне 1945 года Москва предложила установить режим совместного советско-турецкого контроля в черноморских проливах, а гарантией такого контроля должно было стать размещение на Босфоре советской военно-морской базы. Но разлад между вчерашними союзниками, СССР с одной стороны, а Англией и США – с другой, не дал осуществиться этим планам.
Начиная с 60-х годов советское руководство уделяло Средиземноморью особое внимание. Так, 24 ноября 1968 года газета «Правда» опубликовала заявление советского правительства:
«Советский Союз, как черноморская, следовательно, средиземноморская держава, осуществляет свое бесспорное право на присутствие в этом регионе. Советские военные корабли находятся в Средиземном море не для того, чтобы создавать угрозу какому-либо народу или государству. Их задача – содействовать делу стабильности и мира в регионе Средиземного моря».
За год до этого в Москве было принято решение сформировать на Средиземном море 5-ю оперативную эскадру. 14 июля 1967 года Главнокомандующий адмирал Флота Советского Союза Горшков подписал приказ № 0195 о сформировании для несения боевой службы на Средиземноморском театре 5-й Средиземноморской эскадры кораблей ВМФ СССР с местом дислокации – Средиземное море.
Как пишет А. Б. Широкорад в своей работе «Россия в Средиземном море»: «…в состав управления вошли 20 человек, среди них: командир эскадры – контр-адмирал Петров Борис Федорович; заместитель командира эскадры – контр-адмирал Рензаев Николай Федорович; начальник штаба – капитан I ранга Платонов Виталий Васильевич». «…9 июля 1967 года штаб эскадры на борту эсминца “Благородный” под флагом первого заместителя Главкома ВМФ адмирала флота В. А. Касатонова вышел из Севастополя в Средиземное море».
«14 июля, командир эскадры вступил в управление кораблями эскадры, которые находились в Средиземном море: крейсер “Дзержинский”, плавбаза “М. Гаджиев”, атомная подводная лодка “К-21”, девять дизельных подводных лодок, большие противолодочные корабли “Комсомолец Украины”, “Отважный”, эсминцы “Гневный», “Прозорливый”, “Серьезный”, “Благородный”, “Пламенный”, сторожевой корабль “Ворон”, морской тральщик “Казарский”, 4 десантных корабля, 3 спасательных судна и 3 танкера».
Эта эскадра несла боевую службу – как называлось тогда поддержание сил в высшей степени боевой готовности в мирное время, задачей которой было предотвращение внезапного нападения или ослабление до минимума возможных ракетно-ядерных ударов ВМС США и НАТО.
Основными задачами, решаемыми кораблями 5-й эскадры в ходе боевой службы, были:
• препятствование безраздельному господству ВМС НАТО и 6-му флоту США в Средиземном море;
• недопущение вмешательства ВМС НАТО во внутренние дела стран, борющихся за свою национальную независимость;
• поддержка национально-освободительных устремлений народов развивающихся стран;
• демонстрация флага и поддержка внешнеполитических акций правительства СССР в решении межгосударственных кризисов и проблем, возникающих в регионе;
• визиты и деловые заходы в иностранные порты.
Базирование кораблей и судов 5-й эскадры проводилось в портах Александрия (Египет) и Тартус (Сирия). Надводные корабли базировались в точках якорных стоянок вне территориальных вод Греции, Турции, Мальты, Египта, Сирии, Туниса и Алжира. В случае штормовой погоды ложились в дрейф за островами Кипр и Крит, прикрываясь от ветров.
К середине 1973 года 5-я эскадра, к тому времени ею командовал вице-адмирал Е. И. Волобуев, состояла из более пятидесяти судов. Напряженность в Восточной части Средиземного моря была по-прежнему велика. С обострением арабо-израильского конфликта и вхождения его в «горячую фазу» наша группировка в Средиземном море к октябрю 1973 года достигла девяноста единиц. Было создано восемь корабельных ударных групп и оперативные отряды прикрытия.
С октября 1973 года корабли эскадры начали непрерывное слежение за авианосными ударными группами ВМС США в Средиземном море к югу от острова Крит. Постоянное слежение за АУГ лишало американцев внезапности по подъему авиации и усиливало наши боевые возможности при нанесении ударов по авианосцам.
14 октября 1973 года командиры военных корабле в Средиземноморье получили приказ открывать огонь по мере необходимости по израильским самолетам и другим самолетам воюющих сторон, если они угрожают советским конвоям и транспортам. Это охладило пыл участников конфликта.
26 октября было подписано соглашение о перемирии, что не снизило напряжения ситуации. Если на берегу обстановка несколько разрядилась, то кризис в море не только сохранился, но и достиг наиболее опасной стадии. К этому моменту силы 5-й эскадры были максимальны и составляли девяносто шесть единиц. Наши корабли могли в первом залпе запустить восемьдесят восемь крылатых противокорабельных ракет. К этому времени американцы оказались во все более и более неудобной позиции. Вокруг каждого американского авианосца постоянно находилось по три советских корабля. Понимая это, командование 6-го флота США приказало силам флота оставить районы развертывания к югу от острова Крит и отходить на запад. После чего напряженность стала быстро ослабевать.
Решительные действия 5-й эскадры, сковавшей действия 6-го флота США, не допустившей его приближения к берегам Сирии и Египта, и настойчивость советской дипломатии вынудили Израиль прекратить боевые действия.
В середине 80-х годов прошлого века, особенно в 90-е годы, принято было оценивать флот в негативном ключе. Однако стоит вспомнить, что говорил адмирал Селиванов: «…Особое тревожное ощущение середины восьмидесятых, когда казалось, что война может начаться в любой момент… Если бы не было у СССР таких мощных Вооруженных сил и Военно-морского флота, то война бы эта действительно случилась».
Средиземноморцы не проиграли ни одного сражения холодной войны.
Россия, как и в прежние времена, не может не присутствовать в Средиземном море, и сегодняшняя Российская Федерация делает многое для поддержания мира в Средиземноморском регионе. 21 сентября 2013 года было создано Постоянное оперативное соединений Военно-морского флота РФ в Средиземном море для выполнения задач в Средиземноморском регионе с учетом складывающейся военно-политической обстановки.
С началом 30 сентября 2015 года военной операции Военно-космические силы (ВКС) России в Сирии соединение принимало участие в этой операции, осуществляя прикрытие авиационной группы ВКС в Сирии и авиабазы Хмеймим, на которой она дислоцируется. Корабли соединения базируются в сирийском порту Тартус. На конец февраля 2018 года соединение включало пятнадцать боевых кораблей и судов обеспечения.
Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ подчеркивал, что ВМФ и в дальнейшем будет поддерживать эффективный и сбалансированный численный состав нашей группировки в Средиземном море.
Современная Россия, взяв курс на возвращение своего флота в Средиземное море, с этого курса не свернет.

