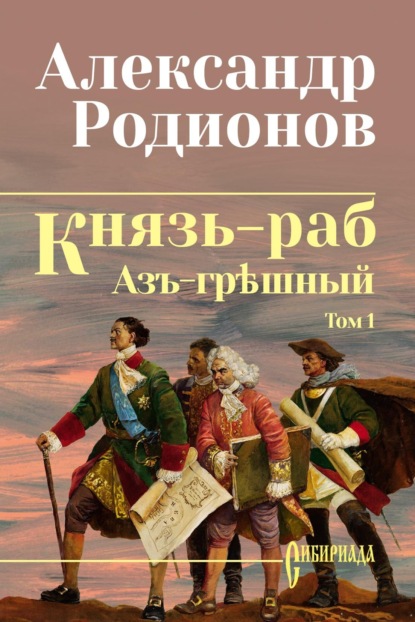
Полная версия:
Князь-раб. Том 1: Азъ грѣшный
– Ради Александра Данилыча государь не взыщет за опоздание. Ему сейчас, поди-ка, не до твоей отписки.
– Ты уж, мой благодетель, не прогневайся. Я и отписки подать не могу, понеже бумаг и книг записных с собой не привез. Все в Тобольском, а на память – как наугад…
В этом и я тебе, Матвей Петрович, не слуга. Твои записки – тебе и отвечать. Правда, помню, был указ послать в Нерчинск грека Семена Григорьева с плавильщиками для рудного промыслу, а обретавшегося там мастера Левандиана к себе, на артиллерийский двор в Москве, испрашивал у государя блаженной памяти царевич Имеретинский. Да ведь и Петр Алексеич об этом не забыл. Немного у нас греков-рудоплавильщиков, все наперечет.
Пока говорил Макаров, сибирский губернатор уцепился за спасительную мысль: не надо вовсе подавать никакой отписки. И сказал об этом вслух:
– Милостивец мой, Алексей Васильевич! А можешь ты доложить его величеству: Гагарин-де, раб грешный, явился, но никаких ведомостей не подал?
Такой поворот для Макарова был неожиданным. Крутые дуги его бровей стали еще круче. Губернатор на гнев царский нарывается.
– Ты, мой благодетель, усмотри случай, – продолжил Гагарин, – как будет Петр Алексеич пребывать в благодушестве, и скажи мне. Сам понимаешь, говорить надо не прилюдно. Чай, не праздновать к нему пойду. Усмотри случай да передай мою просьбишку. И чтоб поспеть до отхода его величества в море.
– Смотри, Матвей Петрович, – испытующе глянул Макаров на Гагарина, ставшего как будто еще меньше ростом. – Смотри, тебе ответ держать. Будет подходящий день – извещу.
– Пожалуй, мой благодетель, пожалуй. Не оставь вниманием… – глубоко вздыхая, произнес Гагарин, чувствуя, что Макаров искренне готов помочь ему. А коли так, то поможет непременно.
Кабинет-секретарь уже было приготовился заняться своим делом, как Гагарин снова заговорил:
– Да ведь все из-за сына, из-за Алешки. Возрос – делу пора обучать. Что он при мне там в Сибири увидит? Наукам бы его каким обучить. Что бы посоветовал? Пошлет его Петр Лексеич навигацкому делу али гамбургскому счету учиться? А может, и по слюзному делу пойдет?
– Выбирай что-нибудь одно. Государь гадать не любит. Да и зачем ты заторопился сына в иные земли посылать? Он женится, а ты его – за море!
– Так ненадолго. Года на два. Подождет молодая жена.
– Да я вижу, свадьба расстраивается?
– Упаси боже! – воскликнул Гагарин, зная, что Макаров дружен с его будущим сватом Шафировым. – К свадьбе дело ладно катится.
Когда дверь за губернатором сибирским закрылась, Макаров подошел к окну и посмотрел Гагарину вслед. Неожиданно тот обернулся, и Макаров удивился перемене в его лице. Только что перед кабинет-секретарем стоял и говорил привычный челобитчик, хоть и высокого званья. И на лице его, опухшем и красном после двух бессонных ночей, проведенных подле чахоточного Меншикова, была написана такая скорбь и забота, что невозможно было Гагарину не посочувствовать. А через несколько минут это уже был кряжистый, прочно ступающий по весенней грязи мужик властного и злого взгляда; ветер взбодрил и расправил его обвислые усы, оголил лоб, взрезанный морщинами. Оглядываясь, Гагарин едко ухмыльнулся чему-то и направился к Неве.
Макаров вернулся к делам и вспомнил: он до прихода Гагарина читал доношение посла из Дании о том, что вскорости морем в Санкт-Петербург прибудет труппа актеров парижской выучки. «Напрасно его величество выписывает из Парижа лицедеев, – подумал Макаров. – Тут и свои имеются. Такой феатр устроить можно… одни сиятельства будут на подмостках».
Матвей Петрович вышел к набережной. На Неве в полуденный час было многолюдно: возчики понукали лошадей, с трудом подворачивая по непролазной грязи к берегу, с телег работный народ сгружал хворост, и тут же артельщики готовили из него фашинник, закрепляя им откос, поднимая берег повыше. Там, где земляная насыпь поднималась над водой выше сажени, на берег мастеровые разгружали прямо с барж каменные глыбы. Доставленные издалека, многопудовые ноздреватые каменья с хрустом утопали в хворостяном ложе, вминаясь в чужеродную, тоже привезенную почву, которой отныне суждено было стать на веки вечные основой столичного берега. Гомона мастеровых и приказчиков не слышно было только у деревянного дома царя – там сход к реке был уже вымощен, и теперь полоса каменной наброски двигалась вниз по береговому урезу, в сторону крепости. Матвею Петровичу захотелось, хотя бы ненадолго, уединиться, но он не пошел к цареву домику, бегло окинул взглядом пустынный противоположный берег, где виднелись приземистые пеньковые амбары, скользнул взглядом в сторону стрелки Васильевского острова – там был едва виден дворец Меншикова, розовым плоским пятном он выделялся над низким серым берегом. «Там и без меня обойдутся», – подумал Гагарин и повернул к Троицкой площади, где вовсю кипела городская сутолока. У недавно отстроенного огромного трактира «Австерия» толпились новоявленные петербургские жители – ярославские, тверские, нижегородские и московские купцы вперемешку с редкими заморскими торговцами. Чуть поодаль обрастал чешуей черепицы новый Гостиный двор. Рядом с новостроем и стояла Троицкая деревянная церковь, невысокая, поставленная без особых затей, откровенно на время – абы как, лишь бы лоб перекрестить. Глядя на людскую сутолоку у «Австерии», Гагарин подумал: «От этого сраму можно только у Христа за пазухой спрятаться…» Но в церковь не вошел, а, перекрестясь, направился к своему дому.
Петербургский дом Гагарина стоял на улице, которую в народе все чаще называли Дворянской, поскольку располагалась она почти на окраине Петербургского острова, вблизи от первого домика царя, и жили на ней люди из царского ближнего окружения. Хоть и звалась улица Дворянской, вид ее по сравнению с родовитыми московскими улицами был вовсе не столичный. Невысокие домишки, похожие друг на друга, которых еще не коснулась печать обжитости, были разбросаны довольно просторно, а попросту как попало, и улица едва угадывалась. И хотя меж домов был простор скоту и птице, но уже окружились дома оградами, а усадьбу канцлера Головкина и подканцлера Шафирова разделяли высокие рогатки.
«Бог послал родственничков. Они же видеть друг друга не могут. А как мне с ними ладить? С каждым по отдельности родниться-сватоваться? Ну, ладно. Скуп Головкин, но и его я приданым доченьки моей отогрел. Шафирову самому надо подумать о приданом своей девице – тут мне голову не ломать, а брать в дом, какую выдадут. Приданым за ней будет государево расположение к Шафирову. Таким добром не всякий богат», – подумал Матвей Петрович, подходя к своему дому. Подошел и хохотнул: «И это дом губернатора Сибири! Да разве эту мазанку сравнить с моим тобольским дворцом, а тем паче с московскими хоромами?» Приземистости длинного строения о четырнадцати окнах, глядевших в сторону Невы, не скрашивал даже высокий мезонин, глядевшийся какой-то голубятней.
Московскому дому Гагарина на Тверской завидовал не один петровский вельможа. Красавец-особняк возвышался над построенными еще при Алексее Михайловиче усадьбами князей Троекуровых, Урусовых, Ромодановских, а уж что говорить о домишках каких-то окольничих или стряпчих. Дом строился, когда Матвей Петрович назывался генерал-президентом и губернатором Московским. В этом доме ели и пили с серебра, и благодаря множеству гостей московская молва разносила восхищения: каким пламенеющим шелком китайским и двоеморховым бархатом голландским обиты стены в столовой, как сияют перламутром стены, украшенные сплошь жемчужными раковинами и заморскими зеркалами. Не один московский разиня застывал перед домом, вглядываясь в окна, как будто надеялся разглядеть: а и вправду ли на потолках гагаринских хором в воде, чудным образом пущенной на крышу, плавают живые рыбы?.. А те, кому доводилось заглянуть в спальню губернатора московского, крестились, не столько пораженные видом изображенного на иконах, сколько ослепленные блеском бриллиантов, рассыпанных точной рукой ювелира по золоченым окладам. И над всем разгулом роскоши в парадной зале дворца, почти у потолка, украшенного «бегами небесными», златобуквенно красовался девиз: «Зрением и потребством вещей человек веселится».
Петербургский домишко, как называл его Матвей Петрович, князь вынужден был поставить в 1710 году, когда Петр затребовал Гагарина из Москвы с деньгами, собранными по губерниям на строительство новой столицы. И иные годы из Петербурга для приемки денег приезжал в Москву комиссар канцелярии городовых дел. А тут понадобился зачем-то государю сам Гагарин. Нудно и долго собирался тот медный караван. Каждый двор в Российском государстве облагался податью на строительство Санкт-Петербурга, каждый россиянин откладывал для новой столицы свою медную денежку. Целая рать счетчиков денег в Москве неделями просиживала в приказах, чтобы пересчитать медяки, ссыпать их в рогожу, опечатать, а затем еще и закупорить в бочки и еще раз опечатать. Каждая бочка вмещала по две с половиной тысячи рублей. И когда оттискивался на толстых днищах российский двуглавый орел, когда укрывался и увязывался на санях медный груз, тогда и трогались в путь, чтобы к сроку доставить на край страны эту тяжкую всероссийскую подать, способную хоть чуть-чуть утолить ненасытность прожорливого города-младенца.
Гагарин тогда пришел в столицу Петра с обозом в сорок подвод. Царь, не спрашивая согласия, отослал Гагарина к архитектору Трезини, и тот, глянув на чертеж, недолго размышляя – сам государь прислал князя! – ткнул острием циркуля в правый берег Невы: мол, здесь, князь, поближе к его величеству, будет твой дом. Гагарин даже и не отнекивался, указ Петра был всем известен. И не изменило никак этой необходимости обзаводиться Гагарину петербургским домом новое решение Петра. Раздумывая, кого послать в Сибирь наместником, он остановил свой выбор на Гагарине. Краток был тот разговор:
– Твой корень в Сибири. Сам ты, князь, терт, бит и теперь являешься господином генерал-президентом и генеральным судьей Сибирского приказа. Клят, мят, но оправдан! И коль ты в самую нелегкую пору на Москве готовил оружное и амуничное для Полтавы, для Риги и с делом хорошо управился, то тебе и сам Бог велел, и я велю в Сибири управиться!
Спустя два года после той беседы на всем пути следования Гагарина от Кунгура до Тобольска встречал народ небывалое для Сибири начальство. Не один фунт крупитчатого мелкого пороха заряжался в крепостные пушки, чтобы приветствовать первого губернатора Сибири. А когда от Верхотурья вся гагаринская свита перешла на судно и двинулась вниз по Туре, то какой сибирский дворянин в Туринске или Тюмени не мечтал ступить на палубу, обитую красным сукном. Всяк за честь почитал принять чарку за здравие князя Матвея Петровича и поздравить его с прибытием.
С той осенней поры 1711 года и жил Матвей Петрович на три дома, в трех столицах. Был, правда, еще один гагаринский дом, вотчинный, в Шацком уезде под Рязанью, но туда князю было недосуг. Пучина Сибири поглотила его, и выезжать из сибирской столицы, Тобольска, он мог только по царскому указу.
* * *А теперь самое время взглянуть на пространство, поименованное петровским указом Сибирской губернией и простиравшееся от Кунгура до Анадыря. Чуть более ста лет миновало с тех пор, как окончательно рухнуло шаткое Сибирское царство, скроенное из лоскутов сине-желто-пегой Орды, когда Гагарин получил в свои руки губернию. Падение кучумлян и последних татарских князей почти совпало по времени с трагедийными событиями на западных границах Московии, потерявшей Балтику. Теряя на западе, московиты приобретали на востоке, как будто по каким-то неотвержимым законам взросления народа необходимо было ему пространство неутесненное. И вряд ли справедливы упования на стихию казачьей вольницы. Куда важнее помнить, что и до казачьего следа в Сибири оставили свои следы и новгородцы, и устюжане. Что казачий след! Он хоть и честен и утверждение его оплачено по́том и кровью, но, выходит, даже этого мало, чтобы отпечататься в памяти меняющихся царей. А иначе чего бы гадать Петру Великому: сошлась или не сошлась, срослась или не срослась Азия с Америкой? Знать, слаба была память о походе Семена Дежнева среди московской приказной братии, слаба была переданная царская память, коли склонял ухо царь Петр к рассуждениям философа Лейбница. Стало быть, плохо ведал самодержец, какое наследство он принял вместе со скипетром и монаршей шапкой. О великом казачьем шествии к океану, о выходе в его воды, занятые собой, московские правители забыли. Да как не забыть? Какой же след останется в студеной воде пролива? Даже и уголь от первопроходческих костров развеял без следа гуляющий по побережью ветер…
След едва ли будет заметен, если даже прошел атаман с ватагой по землям с битвами и были они удачны. Человеческий след обретает иное богатство, коли отложены в сторону пика и сабля, а воин ставит дом для житья, не утесняя того, кто пришел на эту землю раньше. Да только кому же захочется тесниться, хоть и просторна Сибирь?
Сказкой про белого бычка звучат заверения и утверждения о мирной планиде русских первопроходцев. Случалось, что и полвека и век уже стоял русский острог, а то и город в Сибирской земле, но вдруг приходили те, кто пришел сюда раньше, и воевали его. Штурмующие русские остроги несли на острие копий воодушевляющее воинов воспоминание: когда-то русских здесь не было! Да как им, воителям, скажешь: когда-то и вас тут не было. Некогда говорить, надо встречать гостя и ратоборствовать.
Но и не без азарта, не без похотливого дыхания ступали на новые земли казаки. Сунулась было ватага из Анадырского острога на Шантары, и всех до единого побили казаков гиляки – уж больно охальничать начали гости, меха щупать да в русские мешки упрятывать. А бывали и вовсе иные встречи на порубежье.
Не безродного предводителя войска послал китайский богдыхан император Канси, чтобы отнять у русских Аргунский острог. Послан был именитый маньчжур, четвертый сановник в государстве! Но «пришед к месту» и, как гласит летопись, «увидя русских людей житье доброе и поревновав тому житию», вернулся воин в Китай, велел женам и детям и всему роду своему сбираться в путь. Полтысячи человек привел он с собой в русские пределы. Чего только ни предпринимал богдыхан, чтобы вернуть утеклеца: сулил место третьего сановника, слал подарки, войско, наконец, за ним посылал. И даже был такой козырь у маньчжурской стороны на нерчинских переговорах, когда было сказано Федору Головину посланниками цинского правителя Сонготоу, Дунгувеганом и Лантенем: «Верните перебежчика. Наш он». На такое требование русский посол Головин ответил, ерничая: «Это того, который четыре года назад принял православный Христов закон и теперь зовется Петром? Дак его уж нет, помер в Нарыме. А вот сын его, тот и до Москвы дошел, и в дворянское звание пожалован, занесен в книгу по Московскому списку. Теперь он князем Павлом Гантимуровым, сыном Петровым зовется. Царь его подарками жаловал да, с Москвы отпуская, наказал: вернешься в те земли под Нерчинском, что твоими теперь записаны, сразу же из своих семи жен избери одну, сведи к попу, соблюди закон христианский, а остальных отпусти. Так что ныне не желает ворочаться князь Гантимуров к богдыхану. Вот разве что женки его, каких отбраковал, вернутся…»
Нелегко дались нерчинские переговоры стольнику и воеводе Федору Алексеевичу Головину. Иначе быть и не могло. Он пришел к даурским острогам, имея пять сотен московских стрельцов, да еще столько же было приверстано к Головину в Тобольске. Прочие сибирские города и остроги – Верхотурье, Тюмень, Пелым, Епанчин, Березов, Томск, Енисейск и Якутск – наскребли всего-то тысячу степных стрельцов, казаков и казачьих детей. Так что всего с Головиным было не более полутора тысяч воинов. С маньчжурской стороны к месту переговоров подошло десятитысячное воинство с артиллерией. Были с маньчжурами еще два воина из войска Христова: иезуиты француз Жербийон и португалец Перейра, имевшие миссионерские цели в Пекине. И хотя не дошло тогда под Нерчинском до прямого воинского дола, но два европейца в черных балахонах навредили русскому послу изрядно. Едва заходила речь о том, что на Амуре поставили русские поселения еще Василий Поярков, а затем и Ерофей Хабаров – уже полвека миновало, как маньчжуры удалялись на совет к иезуитам. Дошло в конце концов до разворачивания карт, и тогда главный маньчжурский мандарин, глядя на русскую карту, провел рукой по Лене и заявил: «Все, что к солнцу от этой реки, – наше!» Тут уж и Головин не сдержался и на какое-то время даже перестал выходить из своей палатки, прервал всякие разговоры, отвергая маньчжурскую наглость. Наглость нависала нешуточная, поскольку мандарин заявил: «Перебьем всю твою охрану, а там и Нерчинск возьмем». Отбросив речи о границе по Лене, вынужден был посланник московский на сдачу маньчжурам Албазинской крепости согласиться, но остального Даурского края не уступил. В той неравносильной пограничной тяжбе маньчжуры получили весь верхний и средний Амур. Несколько лет ни они, ни монголы русских острогов, в том числе и Нерчинска, не тревожили. К осторожности их вынуждали вовсе не гарнизоны русских крепостей. Мирными по отношению к северным соседям их делали соседи западные – джунгары. Вот с кем предстояло смертельно схватиться властителям Великой Поднебесной империи.
Головин осенью 1689 года отправился в Москву, оставив на воеводстве в Нерчинске Федора Скрипицына, а в «Ыркуцком», как гласит Сибирский летописный свод, сели «стольник князь Иван да князь Матфей княжеские Петровы дети Гагарины». Матвей ходил в товарищах у старшего брата. Кто знает, сколь бы длилось такое товарищество, если бы не воинский случай. Прилетел в Иркутск гонец от Федора Скрипицына с тревожной вестью: на противоположном берегу Шилки «мугальское[10] войско стоит скопом, готовится воевать острог». Иркутский воевода срочно снарядил на Шилку под Нерчинск две сотни казаков во главе со своим товарищем – Матвеем Гагариным. В Нерчинске он просидел с конца марта до середины апреля, пока не ушли «мугалы», распоряжаясь острожными делами наравне со Скрипицыным. Но двух воевод в одном остроге долго быть не могло. Как Гагарин сковырнул Скрипицына – бог весть. Но в 1693 году летописный свод Сибири пополнился такой записью: «В Даурах на границе китайской, в Нерчинску, на Федорове место Скрипицына столник князь Матвей Гагарин, переведен из товарыщев из Ыркуцка…»
В те годы, распоряжаясь Нерчинским воеводством, Матвей Гагарин не думал, не гадал, что судьба полтора десятка лет спустя заставит его перебирать в памяти все подробности не только малого угла Сибири, «зовомого Даурами», но и всей трудновместимой в сознание земли, Сибирского царства, границы которого на юге были весьма и весьма призрачны, если они пролегали не по берегам рек. Да и как проводить границу, коли всего три крепости – Нерчинск, Красный Яр да Кузнецк – обозначили: далее земли к полуденной стороне Белому царю не подвластны. И не только держать все внутренние события в памяти пришлось Гагарину, но и чутко следить за южными соседями, так же чутко и пристально, как это делал со своей стороны император цинский Канси, монгольские подданные которого переводили его имя весьма велеречиво, но неточно – «мирное спокойствие». Неточность заключалась в том, что на протяжении шестидесятилетнего царствования Канси вел почти непрерывную войну с Джунгарским ханством.
Воины этих двух государств в конце XVII века весьма часто находились друг от друга на расстоянии полета стрелы, случалось, джунгары подступали к Пекину; случалось, маньчжурские войска теснили джунгар почти до берегов Или. Для Цинской империи джунгары были бичом, особенно на северных и западных ее окраинах, населенных монголами и тибетцами. Канси писал о джунгарском хане Галдане: «Он так далеко распространил свои победы, что в западной и северной стороне живущих многих владельцев, а именно: Самархань, Бухар, Хасак, Бурут, Еркень, Сайрам, Турфань и Хами – под свое владение подбил и покорил». Завидуя такому усилению Галдана, маньчжурский император тем не менее не терял надежды, что оно шатко. И он не ошибся. Когда Галдан, ввязавшись в очередное сражение с маньчжурскими отрядами, оторвался от своих основных сил и вознамерился завоевать и обложить данью Халху[11], маньчжуры напрочь разбили пятидесятитысячное войско джунгар, и хану Галдану пришлось с остатками своих воинов укрываться в урочище Ага-Амтатай. Китайские известия – это не единственная версия событий, предваривших гибель Галдана. Монгольская летопись «Эрдэнийн эрихе» излагает подробности тех лет несколько иначе. Ожидая сына из Хами, куда он отправил Сетеньбалчжура за провиантом, Галдан рассорился со своим соратником Данцзилой. Сына по пути в Хами скараулили маньчжуры и схватили, Данцзила сбежал в Ширхагоби, и в дополнение ко всем бедам племянник Галдана Цеван-Рабтан, сколотив войско, засел у Алтайских гор, чтобы подкараулить мечущегося дядюшку, схватить его и передать императору Канси. Загнанный в урочище Ваий Ундур Галдан принял яд. Данцзила спешил доставить ко двору императора труп Галдана, просясь в маньчжурское подданство. Но, пока гонец Данцзилы ходил ко двору с такой вестью, Цеван-Рабтан напал на Данцзилу у гор Алтайских и, отняв у него подарки, предназначенные Канси, передал их как собственный вступительный пай, чтобы считаться подданным Поднебесной империи.
В каком урочище погиб Галдан, неизвестно, но известно содержание письма, полученного им накануне от Канси. Письмо было кратким: «Сдавайся». Галдан знал обычай Цинской империи выставлять голову врага на позор всему столичному люду. Принимая яд, обреченный приказал: «Труп мой сжечь». Увы, без Галданова трупа Цеван-Рабтану не с чем было явиться под руку Канси. И тайша Цеван-Рабтан стал контайшой, получив от императора право владеть землями от Алтая до реки Или всего лишь за то, что прислал Канси ступу с пеплом Галданова тела. Глашатаи маньчжурской столицы под вопли толпы рассеивали пепел некогда грозного врага, а Цеван-Рабтан получил краткое замирение в войне с Цинами. Он надеялся – спокойствия на востоке ему хватит, чтобы расправиться со своими врагами на западе. Тем более что казахи сами подали повод к расправе. Прикинувшись покорным Рабтану, прикрываясь отцовскими чувствами, казахский хан Тауке умолял нового контайшу вернуть ему сына, захваченного в плен в результате неудачного набега казахов на джунгарские улусы. Подчеркивая свою высокую приверженность ламаизму, Рабтан только что принял титул хана, и Лхаса признала его, он отправил столь именитого пленника в подарок далай-ламе. Просьба хана Тауке подоспела, когда Рабтану было еще жарко на востоке. А тут представилась возможность заручиться миром с казахами. И Рабтан решил вернуть сына хану Тауке. Из Лхасы неудачливого барантача сопровождало пятьсот джунгарских конников.
Тауке «отблагодарил» джунгарский конвой – все пятьсот были перебиты. Вдобавок хан Тауке увел в свои кочевья более сотни кибиток урянхаев, плативших дань Цеван-Рабтану. И этого было мало. Люди Тауке напали на караван, идущий в Джунгарию с Волги от калмыцкого хана Аюки. Ладно бы обычный джунгарский купеческий караван, хотя и такой караван казахи перехватили тоже. Нет, в том караване с Волги была одна кибитка, которую Цеван-Рабтан ожидал с вожделением. В ней везли очередную невесту джунгарскому контайше. Невеста была дочерью самого хана Аюки. Этот повод и положил начало затяжной полосе сражений между джунгарами и казахами, которая сошла на нет только к 1725 году.
Конечно же, междуханская распря шла не из-за невесты в кибитке. И джунгарский, и казахский ханы пытались срочно оседлать желанного коня – великий шелковый путь, торговый путь из Китая в Среднюю Азию. Оказавшись на одном крупе лицом к лицу, джунгары и казахи пытались свалить друг друга на землю всеми возможными и доступными способами.
Широка Великая степь, а не разминуться, не разъехаться!
Джунгария в это время оказалась зажатой в роковом для нее треугольнике: на востоке – Цинская империя, на западе – три мощных казахских жуза и каракалпаки, на севере – готовая к беседе, равно как и к отпору, Российская империя. И если в XVII веке Джунгария находилась в состоянии непрерывной войны и с маньчжурами, и с казахами, а успех в соперничестве был переменчив, то весь этот период для Москвы и Джунгарии был отмечен лишь мелкими пограничными неурядицами и обменом послов.
В самом начале XVIII века прошел через Тобольск на Москву посол Цеван-Рабтана зайсан Абдул-Еркей. Встречали и провожали его с подобающими почестями: дипломатический порох никого не опалил. Цеван-Рабтан к тому времени сидел в седле довольно прочно, что и побудило Канси отозваться о нем: «После того как был уничтожен Галдан да одержал он победу над „хасаками“ и получил некоторое число военнопленных, он начал мало-помалу переменяться…» И вскорости уже более резко выразился Канси: «Он час от часу становится надменнее». Пожалуй, это замечание вырвалось у императора Поднебесной после того, как Цеван-Рабтан из-под носа у маньчжур увел с верховий Енисея более десяти тысяч кибиток и переселил их в свои владения на Иссык-Куле. Для невеликого, но дальнего переселения контайше потребовалось всего-то две с половиной тысячи конвойных всадников. Верхушка Цинской империи снова заволновалась – не только увел киргизов Цеван-Рабтан, но еще и восстанавливает нарушенное Галданом, послал на Волгу хану Аюке в жены свою дочь Дармабалу. Если сомкнутся две родственные силы, джунгары станут непобедимы. Мандарины зачесали темя, а нет ли способа воспротивиться намечающемуся объединению? Император Канси выжидал несколько лет, пока обменявшиеся дочерями ханы, оба наследники великих ойратов, начали мелко враждовать даже на расстоянии.



