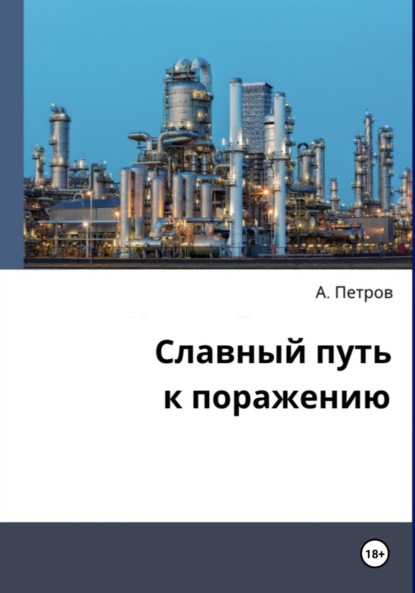
Полная версия:
Славный путь к поражению
Пуск по-советски
На новом месте работы я постарался определить прежде всего спектр моих обязанностей. Подсказывать мне было некому. Зернов продолжал болеть, и мне сразу же пришлось одновременно исполнять обязанности главного инженера. Белявский поставил задачу лаконично: к столетию рождения В. И. Ленина – 22 апреля 1970 года, то есть через четыре месяца, первый пусковой комплекс – производство ДМТ, производство ПЭТ и производство штапельного волокна должны работать. Уровень готовности первых двух производств позволял считать, что эта задача при максимальной мобилизации может быть выполнена. Но с учетом того, что эти четыре месяца приходились на зимний период, в который из-за низких температур невозможно проводить испытания на нейтральных средах – воде, она казалась нереальной. Но подобные команды не обсуждаются. «Глаза боятся, а руки делают» – эта поговорка наиболее объективно отражает работу на пуско-наладке сложнейших комплексов.
Изучили ситуацию по всему пусковому комплексу. Выяснилось, что отсутствие в течение года главного инженера и зам. главного инженера по производству более всего негативно сказалось на ходе строительства вспомогательных объектов комбината: очистных сооружений, промскладов этиленгликоля, метанола. В наиболее критическом положении находилась эстакада трубопроводов – это кровеносные сосуды производственного организма. Я пришел к выводу о том, что для производства ДМТ я не помощник, так как не знаю технологии. Технология производства ПЭТ мне хорошо знакома, но его начальник Е. Киселев имеет больший, чем я опыт по эксплуатации установок. Нечего мне «путаться» под ногами у двух асов производства: И. В. Кудрявцева и Е. С. Киселева, надо браться за эстакаду, вспомогательные объекты. Тактика оказалась правильной. В. С. Белявский ее одобрил. Более глубокое изучение ситуации показало, что эстакада трубопроводов находится в критическом положении. Она оказалась ничьей. На стальных этажерках лежали вплотную друг к другу десятки километров трубопроводов: параксилола, этиленгликоля, метанола, реакционных побочных продуктов, расплавопроводов ДМТ. Вместе с ними проходили паропроводы всех категорий, трубы оборотного водоснабжения, киповские линии управления. Все это было обвито кружевами труб малого диаметра, обеспечивающих обогрев расплавопроводов. Единого хозяина в период монтажа не было. Не было и единой монтажной организации. Действовал принцип, согласно которому производство, подающее продукт, должно отвечать за монтаж соответствующего трубопровода до смежного производства. В итоге было много хозяев отдельных труб по всей длине эстакады, но не было одного специалиста, который бы отвечал за ее состояние и готовность к пуску. Ситуация осложнялась тем, что англичане не участвовали в проектировании эстакады и не вели шеф-монтаж.
Выявилась еще одна масштабная проблема. Проект эстакады и коммуникаций был разработан под вариант стопроцентной работы всех мощностей объединения. Нашей же задачей был пуск отдельных секций производства ПЭТ. При сохранении проектного варианта создавалась опасность поступления огнеопасных продуктов в корпуса, в которых должны были продолжаться сварочные работы. Потребовалась срочная разработка первого пускового комплекса эстакады с доустановкой большого числа дополнительных задвижек и «закольцовок».
При ревизии эстакады выявилось большое число недоделок, связанных с недоукомплектованностью узлами, несоответствием технических решений при стыковке трубопроводов эстакады с трубопроводами в корпусах, нарушениями СНиПов. Результаты инспекции были оперативно оформлены в виде заданий всем производствам и службам. На их устранение было затрачено много времени, так как работать приходилось на высоте, в тесном лабиринте труб. При этом сварка трубопроводов требовала из-за низких температур их предварительного подогрева. Проводить гидроиспытание по секциям из-за морозов было невозможно, поэтому был организован строгий рентгеновский контроль всех свариваемых швов.
После завершения сварочных работ встал вопрос о проверке каждого технологического трубопровода на герметичность от подающего цеха до цеха принимающего. В соответствии с требованиями это должно было проводиться путем подачи воды с доведением давления до нормативного. Такой вариант из-за зимних условий исключался. Приняли решение проверять герметичность сжатым воздухом. Создали необходимые условия безопасности, провели испытания. Их результаты никакой юридической силы не имели, но это позволило на свой страх и риск отдать распоряжение на проведение изоляции трубопроводов. В этот сложный период выявились высокие организаторские способности и новаторский дух замначальника теплоцеха Л. В. Бойко, начальника водоцеха В. Цалко, начальника бюро котлонадзора С. Ваньковича.
Монтажные и пусконаладочные работы велись в этот период в две, а во многих случаях и в три смены без выходных дней. К марту предпусковое настроение охватило все организации. Никого не приходилось уговаривать проводить большое число дополнительных работ. Строители, которые в течение года не поддавались на требования по исправлению ошибок, допущенных проектантами, сами бегали за эксплуатационниками с вопросами: «Что еще сделать?». Большая нагрузка легла на специалистов авторского надзора Государственного института по проектированию предприятий химических волокон (ГИПРОИВ) под руководством А. С. Власова. Эти люди прошли высшую школу строительства на предприятиях Минсредмаша СССР в Сибири, но наши темпы их удивляли.
С окончанием марта ушли морозы, и это позволило в течение нескольких дней провести гидроиспытания ранее опрессованных воздухом технических трубопроводов. В процессе этих испытаний было обнаружено и устранено очень незначительное число недостатков, сварщики, несмотря на зимние условия, работали на высоком уровне. По результатам гидроиспытаний были оформлены все требуемые Госгортехнадзором документы.
Аналогичные подходы использовались на всех других вспомогательных объектах и к концу первой декады апреля мы приняли большинство цехов рабочей комиссией. В отличие от ситуаций на производствах ПЭТ и волокна, где пуск предполагал поэтапный запуск первых линий из общего большого числа, в цехе ДМТ требовался одновременный пуск всего громадного комплекса. Несмотря на некоторые технологические трудности и значительные масштабы пусковых работ, пуск ДМТ шел успешно, приближался выпуск готовой продукции. Начальник химического производства Е. С. Киселев к концу первой декады апреля доложил о готовности приема ДМТ, отделения смешения полимера и его передачи на производство волокна. Таким образом, после четырехмесячной напряженной работы мы вошли в график, предусматривающий завершение пуска первых трех производств к 22 апреля 1970 года. Однако жизнь готовила нам сюрприз. Английские специалисты, которые полностью поддерживали нас в период проведения подготовительных мероприятий к пуску, отказались подписывать документы о готовности производства ПЭТ к приему огнеопасных химических продуктов: этиленгликоля, ДМТ, метанола. Никакие уговоры, в том числе на уровне В. Белявского, не помогли. Кроме того, они заявили о невозможности транспортировки ДМТ по обогреваемому расплавопроводу на наружной эстакаде в связи с наличием существенных недостатков в изоляции. Круглосуточные переговоры закончились ультиматумом англичан. Их руководитель Лиделл передал письмо и осуществил запись в монтажном журнале: «Полиспиннерс и ICI считают уровень готовности установок недостаточными для пуска, отказываются от подписания нормативных документов и предупреждают о том, что в случае пуска установок российской стороной без их участия все гарантии с оборудования, предусмотренные контрактом, будут сняты».
В отношении проблем на расплавопроводе ДМТ мы считали, что у англичан были основания. В части неготовности химического цеха к приему пожароопасных продуктов мы полагали, что они просто страхуются от традиционных для любого пуска рисков. Эту позицию мне пришлось довести до В. Белявского.
Сутки прошли в обсуждении ситуации, консультациях Белявского по всем инстанциям с Минском и Москвой. Утром была дана команда на приемку ДМТ и запуск производства полимера. Начался пуск. Англичане демонстративно собрались у себя в офисах и не «выглядывали» из них. Началась перекачка ДМТ, и сразу же подтвердились опасения англичан. Насосы работали исправно, но расплав не поступал на производство ПЭТ. Собрали изолировщиков, устранили большое количество недоделок. К ночи ситуация не изменилась, температура расплавопровода находилась всего лишь на уровне температуры плавления ДМТ, что было явно недостаточно. Начальник теплоцеха Л. В. Бойко со слесарями из теплоцеха «крутились» по эстакаде, пытаясь решить проблему. К ночи, когда уже были потеряны надежды, ДМТ неожиданно пошел. Несколько часов мучились с уровнемерами баков хранения ДМТ, устранили недостатки, начался пуск переэтерификации и поликонденсации. Собрались все в зале управления химического цеха. Проблем было много, чтобы определить характер, причины каждой, принять решение о путях устранения приходилось подключать к дискуссии всех присутствующих специалистов. Много было сложностей с дозировкой продуктов. Обычный цикл от приема ДМТ до выпуска гранулята полимера длится десять часов. У нас потребовалось на это семьдесят два часа. Трое суток мы стояли с аппаратчиками у пультов управления и «сторожили» процесс. Никого невозможно было «прогнать» домой. Спали по часу в сутки на столах, в комнате учебы, под голову подкладывали толстый том английской документации. По утрам приезжали англичане, напряженно обходили установки и, молча, «прятались» в своих офисах.
К концу третьих суток удалось наладить всю цепочку от транспортировки ДМТ до выпуска ПЭТ. Первые три партии вышли с отклонениями от норм, последующие стали отвечать требованиям документации. Утром приехали англичане, несмотря на официальный отказ от участия в пуске, дали рекомендации, как лучше смешать партии полимера. ПЭТ пошел на производство штапеля-1, на котором без проблем был переработан в волокно.
Конфликт с англичанами был улажен через Москву, гарантии были восстановлены. Уже после пуска я стал выяснять, почему возникли трудности с транспортировкой ДМТ и что явилось причиной их снятия. Л. В. Бойко признался, что в период пуско-наладки он пришел к выводу о том, что расплавопровод прогревается недостаточно не только из-за плохой изоляции, а по причине конструктивных недостатков системы подачи пара к рубашкам расплавопровода. Англичане впервые в своей практике давали рекомендации по технической конструкции системы обогрева расплавопровода под температуры минус тридцать пять градусов и поэтому допустили ошибки. В условиях наших морозов наблюдался сбой в работе конденсационных горшков, число которых на эстакаде составляло более ста. Не получив результата от работы изолировщиков, Л. Бойко ночью без согласования с нами поднял давление пара в системе обогрева с проектного до уровня, разрешенного при гидравлических испытаниях, то есть на сорок процентов более высокого. При этом конденсационные горшки были отключены. Отечественные трубы все выдержали. Расплавопровод и дальше нам создавал проблемы, пока система обогрева его рубашек не была переведена с пара на горячую воду.
Итак, пуск состоялся, все производства первого пускового комплекса и связанные с ним объекты энергетики стали единым заводом. Важно, что это сделано к юбилею – столетию со дня рождения В. И. Ленина. Далее последовал поэтапный процесс включения в работу дополнительных линий поликонденсации, машин формования, штапельных агрегатов, вывод всех установок на контрактные показатели качества, расхода сырья. Изучение мной в процессе пуска вспомогательных объектов комбината при наличии знания технологии ПЭТ, волокна, нитей, регенерации этиленгликоля значительно расширили мой кругозор и сформировали у моих коллег мнение об обоснованности роли производственно-диспетчерского отдела как главного координатора других служб комбината. Этому также способствовал тот факт, что я получил в Великобритании наибольший объем знаний по системе контроля качества. Мои знания позволяли успешно выполнять и роль арбитра между производственниками и службой контроля качества.
Постепенно происходило мое сближение с руководством производства ДМТ. В первый период работы в должности зам. главного инженера я пришел в цех после предварительного звонка диспетчеру ДМТ для ознакомления с технологическим процессом. На входе встретился с В. Бабкиным – заместителем начальника производства. Он знал меня в лицо, хорошо был осведомлен о результатах успешного пуска производства волокна. Среди специалистов ДМТ было распространено мнение, что волоконщики – не химики, некоторые называли нас «тряпошниками». Встреча позволяла еще раз это подчеркнуть. «Здравствуйте Александр Александрович, Вы к нам, это очень хорошо». Далее второй вопрос: «А Ваши ботинки не имеют стальных гвоздей?» Я растерялся. Он продолжал: «На наших производствах, в отличие от тех, которые Вы пускали, особые требования к безопасности, и гвозди на ботинках должны быть медными». Этих требований я потом при проверке проектной документации не обнаружил, но в тот момент мне повезло – после некоторой растерянности я увидел, что мои ботинки оказались на литой резиновой подошве без гвоздей. Мы вместе осмотрели сначала мои ботинки затем производство, остался под большим впечатлением от его сложности, высокого качества монтажных работ. В. Бабкин уже тогда на комбинате просматривался как человек особых способностей. Вскоре после успешного пуска он перешел работать инструктором ЦК КПБ, защитил кандидатскую диссертацию по технологии ДМТ, а впоследствии стал одним из самых успешных директоров отрасли Минудобрений. Моя дружба с этим контролером «стальных гвоздей» длится уже сорок восемь лет, и я многому продолжаю учиться у него. После ознакомления с производством ДМТ понял, что для его глубокого освоения требуются годы. У меня нет в реальности времени, чтобы в условиях стремительного наращивания мощностей объединения позволить себе эту роскошь. Цех ДМТ для руководителя диспетчерской службы объединения находился вне критики, на нее имел право только генеральный директор. Иван Васильевич Кудрявцев – начальник производства приучил всех вышестоящих руководителей к признанию того, что на ДМТ все и всегда хорошо. Если же какие-либо ЧП иногда и случались, то они сопровождались комментариями: «Слава Богу, что только такие незначительные последствия. Если бы не наши ребята из Новомосковска, могло быть значительно хуже, разнесло бы комбинат в щепки». С этим соглашались, так как действительно при пуске первого ДМТ и последующих трех сложнейших цехов ДМТ произошли лишь три аварии с разрушением оборудования, первая – на емкостях цеха регенерации растворителей, вторая – на динильной печи со сбросом с трубы ее чугунных венцов. Третья – взрыв в отделении чешуирования ДМТ-3. Ущерб от них был незначителен, жертв не было. Но все же в 1971 году мне представился случай показать, что и мы – «тряпочники» не «лыком шиты».
Цех ДМТ-1 задерживал свой выход из ремонта. Запасы кристаллического ДМТ заканчивались, возникла угроза останова производства полимера, волокна, нитей. Пуск указанных производств после незапланированных остановов сопряжен с очень большими потерями. Было восемь часов вечера, на производстве ДМТ все руководство во главе с И. В. Кудрявцевым занималось пуском цеха ДМТ. Я ждал информации о начале поступления ДМТ у себя в кабинете. Звонит В. Белявский, спрашивает, пошел ли ДМТ. Узнав, что поставка расплава ДМТ не началась, сделал жесткое замечание: «ДМТ нет, почему Вы сидите в кабинете, немедленно идите на производство и обеспечьте запуск». Это было новое явление в моей практике, раньше мне рекомендовалось не совать нос в дела данного цеха. Прихожу к Кудрявцеву, в кабинете все руководство цеха и производства. Из беседы узнаю, что не работает одна из колонн дистилляции. Установка диаметром около трех метров, высотой до сорока метров. На столе чертежи, схемы. Причины понять не могут. Кудрявцев неожиданно восклицает: «А помните, у нас в Новомосковске был подобный случай. Один ремонтник работал внутри колонны на сборке тарелок и оставил там свою фуфайку. Никак не могли запустить, пока не вскрыли колонну и не вытащили ее оттуда, думаю, что ситуация аналогичная». Авторитет этого человека был непререкаем. Ребята пообсуждали, никто других версий не предложил. Надо искать списки ремонтников, работающих внутри на чистке колонны и обзванивать их. Послали за списками. Еще раз взглянув на чертежи, молча пошел в цех к колонне. У нас в Курске в цехе, в котором я был начальником смены, работала своя маленькая высотой всего шесть метров установка разделения этиленгликоля / метанола и потому я имел некоторый опыт в дистилляции. На память сразу же пришел курьезный пример. Мой начальник цеха В. Д. Нужденов имел обыкновение иногда ночью в предутренние часы, когда работникам особенно хочется спать, приходить в цех и проверять трудовую дисциплину. В один из таких заходов, он не застал на рабочем месте установки дистилляции аппаратчика, а поискав, обнаружил его в бытовке под душем. Парень хотел сэкономить пятнадцать минут – и после сдачи смены, не заходя в раздевалку, уйти домой. Случай вопиющий, парня решили на собрании коллектива цеха осудить. Украинский парень Александр своим ростом сто девяносто сантиметров и весом под сто двадцать килограммов всегда вызывал добродушные улыбки товарищей. На собрании же он развеселил всех заявлением: «Да, я был в рабочее время в душевой, но контроля над установкой ни на секунду не прерывал. Ее безопасная работа зависит от поступления электричества, холодной воды, пара. Пропадет электричество на установке – погаснет лампочка в душевой, исчезнет холодная вода – меня ошпарит кипятком, прекратится подача пара – на меня польется холодная вода. Штаны надел и через минуту на установке, можете засечь время». Коллектив одобрительно загудел. Насколько опытен был В. Д. Нужденов, но и тот растерялся. Выручил механик В. Вишневский, сказав: «Александр, ты тут театр не устраивай, веселишь всех, а схему и за пять лет работы не изучил. Пар может по паропроводу поступать, а конденсатный горшок установки дистилляции в процессе работы потеряет настройку и нагрев прекратится. В душевой один горшок, на установке другой». Парня заслуженно наказали за нарушение дисциплины и за техническую неподготовленность. Вспоминая эту байку, я подошел к колонне дистилляции и, к своему удивлению, обнаружил, что куб колонны прогревается недостаточно. Поднялся в темноте по лестницам на отметку тридцать шесть метров, открыл краника на манометре, ожидая увидеть поток газообразного метанола. Вместо этого появилась струя жидкого метанола. Спустился, доложил собравшимся, что это ненормально. Ребята мгновенно сообразили, что переполнили колонну полупродуктом, не обеспечив его достаточный разогрев в кубе колонны на стадии пуска из – за неработоспособности конденсатных горшков. Через полтора часа цех был запущен. И. В. Кудрявцев затем объективно осветил ситуацию В. С. Белявскому, и это, конечно, способствовало росту моего авторитета у обоих. Этот редкий случай моего вмешательства в дела ДМТ повторился лишь через тринадцать лет в 1984 году. Высокий уровень работы его специалистов в течение этих лет сделал для меня ненужным углубленное изучение технологии производства мономеров. Но, как показала практика, я должен принять на себя вместе с И. В. Кудрявцевым часть ответственности за перенасыщение объединения этим продуктом, который ко времени строительства цехов ДМТ-3 и 4 уже морально устарел. Американская фирма Дюпон отказала нам в продаже технологии ТФК, отечественные разработки к тому времени не были освоены.
С пуском первых линий трех основных производств комбината моей главной обязанностью стало поддержание их ритмичной работы и подготовка к генеральным испытаниям. При этом сохранилась ответственность за организацию монтажа незавершенной части производства полимера, волокна, подготовка к монтажу производственных площадей ПСКН. Эти функции выполнялись в тесном взаимодействии с английскими специалистами, потому на меня возложили ответственность за организацию сотрудничества с ними.
Дезертирство по указанию
Лето 1970 года прошло в напряженной работе. На производстве ПЭТ каждую неделю вводилась новая линия поликонденсации, на производстве волокна – каждые две недели дополнительная линия формования и штапельный агрегат. П. Н. Зернов начал выходить на работу, но полной нагрузки избегал. В отношении меня и моего влияния на производство я не чувствовал с его стороны какой-либо ревности. Мне в основном по организации эксплуатации действующих и пуску очередных линий приходилось работать самостоятельно. С Белявским складывались нормальные рабочие взаимоотношения, но близости, свойственной его сотрудничеству со специалистами его «сибирской группы» не было. Я не переживал и не стремился изменить ситуацию. Но случай еще раз заставил меня соизмерить роли в моей судьбе Зернова и Белявского.
Показателен в этом отношении пример с моим направлением в армию. Летом 1970 года в разгар освоения первого пускового комплекса и подготовки к пуску первых объектов второго пускового комплекса пришла воинская повестка. В ней указывалось, что мне, согласно приказу замминистра ВС СССР Якубовского, присвоено очередное воинское звание старшего лейтенанта (лейтенанта получил в институте), и я должен явиться для продолжения службы в воинскую часть, расположенную в городе Бобруйске. Указывался срок службы – один год. Для меня служить в армии не было проблемой. Мой отец был офицером в пятом поколении. Я вырос в воинской части, расположенной в окрестностях г. Рыбинска. На военных сборах по окончанию института в Кинешемской бригаде химзащиты один из немногих получил благодарность командира бригады. Но в новой ситуации это была потеря темпа в учебе по управлению сложным производством. Я доложил о приказе В. С. Белявскому и копию повестки сдал кадровикам. Во время очередной строительной планерки, на которой всегда присутствовал В. С. Белявский и секретарь обкома по промышленности А. В. Маслаков, Белявский сообщил ему о том, что главного «пускача» А. А. Петрова забирают в армию. А. В. Маслаков его успокоил, сказал, не беспокойтесь, я приглашу областного военкома, и вопрос будет снят. Прошла неделя, приблизился срок явки в воинскую часть, но никаких сигналов об отмене повестки я не получал. Белявский вновь обратился к Маслакову, но тот развел руками, сообщив, что он «замотался» и забыл о нашей просьбе. Белявский извинился передо мной и сказал, что теперь делать что-либо уже поздно и надо выполнять приказ. Разговор был в присутствии П. Н. Зернова. После этого, как оказалось, Зернов поехал к Г. А. Криулину – первому секретарю обкома партии и доложил о ситуации со мной и пуском нового производства – ПСКН. Г. А. Криулин взялся решить эту проблему. Встретился в Минске в президиуме какого-то торжественного мероприятия с командующим Белорусского Военного округа Третьяком и изложил ему просьбу относительно отмены этого приказа. Третьяк ему в резкой форме ответил: «Я сам никогда не нарушал воинской дисциплины и Вам не советую».
После этого разговора мне было предложено по указанию облвоенкома срочно лечь на обследование в областной военный госпиталь по поводу проверки состояния здоровья. Никаких усилий по представлению себя больным я не принимал, главврач хорошо осведомленный о причине моего направления в госпиталь сам обнаружил отклонение в моем сердце от нормы. Врачи, которые наблюдали меня в институте в период интенсивных тренировок по лыжам, говорили мне, что мое сердце имеет размеры больше обычного, для пульса характерна очень низкая величина на уровне пятидесяти, но это связано с его высокой тренированностью. Действительно в период учебы в институте на сборах мне приходилось бегать на лыжах по тридцать километров в день – шесть дней в неделю. Тогда же меня предупредили, что врачи, которые будут обследовать сердце впервые, могут выдвинуть версию болезни, называемой в медицине «бычьим сердцем». Военные врачи быстро вышли на эту версию и начали проводить более глубокие исследования. Меня продержали в госпитале недели три, после чего было сделано заключение: «К воинской службе годен без ограничений». Но этот момент совпал с другим документом. Вышел приказ Министерства обороны, согласно которому были внесены изменения в предыдущий приказ. Он гласил – воинское звание ст. лейтенанта за А. А. Петровым сохранить, пункт о прохождении годовой воинской службы отменить. Оказывается, Г. А. Криулин, встретившись с Якубовским на ежегодном торжественном мероприятии по поводу первого боевого крещения польской дивизии имени Костюшко в городе Горки Могилевской области, попросил Якубовского отменить приказ. Замминистра с помощью своего помощника сделал это тут же в Горках в течение тридцати минут. Я понимал, что в тех конкретных условиях решающим фактором являлась не столько моя роль в пуске ПСКН, сколько желание Г. А. Криулина доказать командующему БВО Третьяку, что просьбу первого секретаря обкома партии надо уважать.



