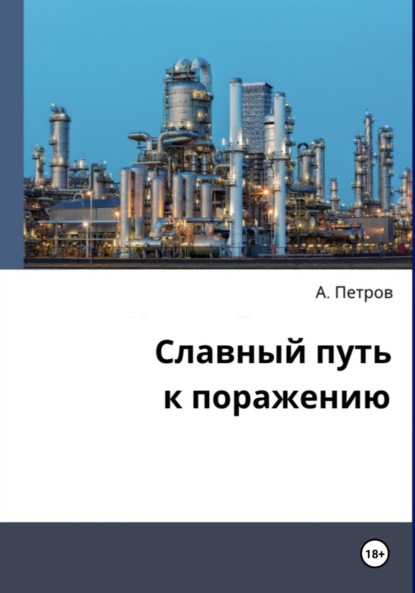
Полная версия:
Славный путь к поражению
Белявский по натуре был волк, волк очень сильный. Но его слабым местом было отношение к женщинам. Влюбляясь неоднократно, он переставал адекватно оценивать и свою избранницу и линию своего поведения. Его всегда напряженная, всегда готовая к бою и наступлению натура требовала и находила в них расслабление, но вслед за этим возникала проблема зависимости, неизмеримо более высокого уровня. Его приезд в Могилев из Сибири сопровождала информация о том, что перед переездом он развелся с женой, оставив ей квартиру предприятия. Через четыре года проживания в Могилеве он женился на молодой девушке-кабардинке. Женитьба оказалась неудачной, по словам близких к Белявскому людей, у девушки после родов случилось расстройство нервной системы. Мальчик был взят на воспитание отцом. С супругой Белявский расстался, предоставив ей квартиру за счет предприятия. После некоторого пребывания в холостяках, он увлекся замужней женщиной, работающей в аптеке. Муж ее работал на нашем предприятии. Новая связь была известна многим ИТР и, конечно, обкому. У одних она вызывала сочувствие, у других – усмешку. Белявский не решался завершить эту связь женитьбой, обком – прервать ее. Через несколько дней после отъезда А. Н. Косыгина В. Белявский расписался со своей новой избранницей, еще через несколько дней он был освобожден от работы. Можно предположить, что каждая сторона лукавила.
Секретарь по промышленности А. В. Маслаков на встрече со мной через месяц после снятия Белявского с сожалением объяснял, что он приглашал В. С. Б к себе и говорил: «Сейчас третий раз нельзя жениться, народ до сих пор взбудоражен твоим уходом от второй жены, люди обсуждают твой ежедневный заезд за двухгодовалым сыном в детские ясли утром и вечером, одни сочувствуют, другие злорадствуют, пишут о дарении тобой квартиры комбината второй супруге. Короче, нельзя жениться, надо подождать. Я передаю тебе прямое указание Глеба Александровича (имеется в виду первый секретарь обкома Г. А. Криулин)». Он в ответ мне сказал кратко: «Не могу, я дал слово жениться и уже назвал сроки». Разговор на этом закончился. Далее А. В. Маслаков рассказывал: «Он расписался в Могилевском ЗАГСе, мне Криулин сделал выволочку за то, что я не сообразил предупредить администрацию Загса о необходимости действовать строго по принятым нормам – месяц ожидания до регистрации». Эта фраза «не могу, я дал слово» звучала у всех на устах, повторялась она и мне Белявским при встрече после его освобождения от должности. Она была удобна для оправдания позиции, так как создавала вокруг него ореол рыцаря, пожертвовавшего славой и креслом директора крупнейшего предприятия, работа на котором должна была принести ему в будущем еще больший успех. Аналогичный случай был в истории Англии в конце 1930-х годов. Старший сын королевы отказался от прав на престол, женившись на разведенной американке, не соответствующей регламенту королевского двора. Но моя личная оценка событий того времени не принимает в полной мере версию верного рыцаря. Действительно, В. С. Белявский с высокой настойчивостью искал возможность узаконить отношения со своей избранницей. Полагаю, что он действительно дал согласие своей избраннице на оформление брака, сразу же после партхозактива в Минске. Его рассуждения могли иметь следующую последовательность: «Я получил высшую оценку от второго лица государства; обком со своим разрешением на женитьбу может тянуть бесконечно долго, не исключен вариант отказа; необходимо идти на риск, объявить, что женюсь, и осуществить это. Обком после триумфальной оценки А. Н. Косыгина не посмеет меня тронуть, он “проглотит” мое непослушание, свою победу в будущем можно будет рассматривать как констатацию нового реального соотношения сил: обком/дирекция МКСВ и руководство партии должно будет признать его».
Обком, должно быть, рассуждал по-своему: «Мы его предупредили, он не послушался нас, значит, он выходит из-под нашего контроля. Получая от нас большую помощь по вопросам производственного строительства, он не вступал с нами в дружеские отношения, не уделял, с нашей точки зрения, должного внимания вопросам развития города Могилева. Теперь, после высокой оценки Москвы он будет просто игнорировать нас. Предстоят громадные капвложения в новые производства. С таким директором мы потратим все силы области на стройку, а инфраструктура области, соцкультбыт не получит должного развития. Нельзя мириться, надо убирать непокорного руководителя, негатива его с семейными делами достаточно для обоснования отстранения от должности». Надо сказать, что такой ход рассуждений был необъективен, Могилев уже с первой очередью получил большое число объектов соцкультбыта, и роль Белявского в этом была очевидна. Но аппетиты возросли.
На ситуацию можно было взглянуть и с другой стороны: какое дело обкому на ком и когда жениться. В. Белявский – разведенный холостой мужчина в зрелом возрасте. Правда, при разводе с предыдущей женой он нарушил нормативные акты и выделил ей квартиру за счет предприятия. Ну, раз так, то и восстановите справедливость, обяжите его заплатить полную стоимость квартиры. Примите эти меры в момент, когда произошло нарушение. Особенности того периода состояли в том, что партия закрывала глаза на подобные нарушения морали и закона, при условии полной подчиненности хозяйственного руководителя ее местным лидерам. Юридической основы для подобных действий не существовало, но было такое понятие, как моральный кодекс строителя коммунизма. В нем были изложены требования к каждому члену партии, близкие по сущности к десяти христианским заповедям, но отсутствовала шкала наказаний за отступления от них. И это позволяло местным партийным лидерам выбирать личность, определять тяжесть проступка, меру и время наказания в зависимости от ситуации.
В. С. Белявский не получил должной поддержки в Главке и соответственно в Минхимпроме. За восемь лет, вследствие своего характера, он не проявил достаточной инициативы к личному сближению с высшими руководителями Министерства и партии. Необходимо также учитывать его заблуждение относительно своей роли, как директора предприятия, которое было свойственно многим из нас – руководителям МКСВ. При нашем участии с блеском был построен, пущен и освоен сложнейший технологический комплекс. Мы особо талантливы, а значит, незаменимы. Никто не будет рисковать делом, судьбой новой стройки. Но это было далеко не так. За громадные деньги впервые в СССР были закуплены не только оборудование, основы технологии, но и подробные технологические инструкции для каждого рабочего места, вся оснастка, вспомогательные материалы. Около двухсот специалистов МКСВ прошли стажировку на аналогичных предприятиях в Англии. Десятки специалистов осваивали в Англии опыт изготовления оборудования в течение 4-х лет. На монтаже и пуске постоянно присутствовали около ста лучших специалистов ICI, тогда как мы работали сначала стажерами, затем исполнителями их указаний. Лишь после их отъезда в 1973 году мы приняли процесс в свои руки и достаточно быстро обнаружили недостаток своей технической подготовки. В. С. Белявский был первым руководителем и одновременно одним из самых главных стажеров. Практики самостоятельного руководства сложнейшим производственным процессом он еще не прошел. Его мнение о себе, сформировавшееся на основе яркого успеха, было завышенным, оно не учитывало долю его личного вклада. Это понимали обком и главк при определении его вклада в итоги стройки. Стройка закончилась, первая очередь комбината освоена, строительные мощности для второй очереди созданы, решение по строительству второй очереди Правительством принято, поддержка Премьера получена, хорошая перспектива развития на ближайшие пять лет гарантирована. Что еще области надо, зачем ей Белявский? Мавр сделал свое дело, мавр может уходить.
Подобная вышеописанная схема мышления требовала наличия сильной в человеческом плане и опытной в техническом отношении кандидатуры нового директора. При этом он должен быть местным и уметь хорошо работать. Обком должен был сказать партийным органам и министерству: «Кандидатура есть – П. Н. Зернов, ему сорок три года. Он почти двадцать лет работает в Могилеве, поднял ЗИВ, обеспечил завершение строительства МКСВ и пуск первой очереди. Были некоторые проблемы со здоровьем, но сейчас это все в прошлом. Подобные рассуждения были недостаточно объективны. Его работа в качестве директора ЗИВа закончилась для него и группы рабочих большой трагедией. Многие близкие к нему люди считали, что он по своему характеру не подходит для работы в должности директора. Из-за болезни в период 1968–1971 годов он не смог хорошо изучить особенности технологического процесса «Лавсан» и новые сверхмощные установки порождали в нем чувство чрезвычайной опасности. После болезни он восстановил свое здоровье до уровня, позволяющего ему исполнять обязанности главного инженера, но оно не прошло проверку временем. При этом было ясно, что нагрузка на генерального директора предприятия задачей, которого является утроение мощностей производства, будет неизмеримо более высокой.
Были ли в этот период другие кандидатуры, назначение которых создавало значительно меньшие риски. Да, с моей точки зрения, возглавить комбинат могли К. Х. Кадоглы – директор Курского комбината химволокон или Д. М. Портнов – директор строящегося Гродненского завода химволокон. Первый был председателем Государственной комиссии на приемке первой очереди «Лавсана», второй в качестве руководителя «Белхима» в течение четырех лет принимал прямое участие в управлении строительством комбината. Но решающее слово было за Могилевским обкомом и поэтому кандидатуры «чужаков» не рассматривались.
Я встретил В. С. Белявского через некоторое время после его увольнения, находясь в командировке в Москве в главке Союзхимволокно. Разговор был утром. Он сообщил мне, что в Минске в ЦК КПБ его никто не захотел принимать и он будет стараться попасть в ЦК КПСС. А. П. Крайнов – инструктор отдела химии ЦК все эти годы тесно сотрудничал со мной и думаю, что он выведет меня на разговор с зав. отделом химии ЦК КПСС. Вечером он снова появился в главке, отвел меня к окну в коридоре и сказал: «Я дозвонился до Крайнова и попросил принять меня. До высказывания пожелания об организации встречи с руководителем отдела химии ЦК КПСС дело не дошло. Получил уже после первой фразы очень холодный ответ о том, что к ним в ЦК по данному вопросу от Могилевского обкома просьб не поступало». Отказался от встречи с ним и референт Совмина Г. Буков, который каждую неделю в течение пяти последних лет интересовался по телефону о делах на комбинате. Все произошедшее В. С. Белявский перенес, внешне не изменившись, и я связывал это не только с его душевной стойкостью. Очевидно, он не осознавал всей глубины трагедии, полагая, что это всего лишь недоразумение, которое будет исправлено в короткие сроки. В кругу близких людей своих ошибок он не признавал, лишь выразил обиду, что его снятию способствовало распространение слухов отдельными работниками МКСВ о взаимоотношениях со второй женой. В итоге он был устроен МХП на работу в качестве замдиректора по экономике на Щекинский комбинат ХВ, в дальнейшем перешел на работу замдиректора института по строительству (ВНИИСВа) в городе Твери. Впоследствии стал директором небольшого предприятия по выпуску стиральных порошков в городе Охте вблизи Ленинграда. На всех новых участках он старался работать добросовестно и плодотворно. Но это уже был не тот Белявский. Человек, успешно выполняющий миссию полководца, не может успешно вписаться в роль командира среднего звена. Умер в возрасте близком к шестидесяти лет, комбинат позаботился о том, чтобы поставить ему в Охте надгробие.
Для меня – молодого человека – его судьба явилась наглядным уроком на всю жизнь. При этом я задавал себе много вопросов: были ли какие-либо возможности и попытки урегулирования конфликта поиском компромисса; обоснованно ли было наказание с позиций потери управленческого потенциала для развивающегося объекта. По-простому вопрос звучал так: оправдано ли было решение о снятии, не является ли оно крайне жестким по отношению к крупному техническому специалисту. Остались и другие вопросы. Почему Г. А. Криулин не вызвал В. С. Белявского лично и не сказал ему: «Не женись. Я тебя лично предупреждаю о том, что ты лишишься должности директора». Пытаюсь сам себе ответить и прихожу к выводу о том, что такого разговора не могло быть. Криулин не мог быть уверен, что добьется снятия Белявского, который мог и после подобного разговора жениться. А если бы угроза о снятии не реализовалась, авторитет первого секретаря был бы в глазах Белявского крайне низким.
Для министерства подобная жесткость не была чем-то необычным. В отрасли в прошлые и последующие годы были случаи, когда по малозначительным поводам директора с очень высоким имиджем, имеющего Звезду Героя Социалистического Труда увольняли с работы и лишали партбилета. Так было с генеральным директором Балаковского ПО «Химволокно» Героем Социалистического Труда Л. Бутовским.
Вопрос об увольнении В. С. Белявского и назначении на его место П. Н. Зернова рассматривался одновременно. Этот вывод я сделал на основе моего разговора с Зерновым. Ориентировочно 13 ноября (через четыре дня после партхозактива в Минске), в Могилеве появились слухи о снятии Белявского. В один из последующих дней я получил информацию от В. П. Кима о том, что Белявского снимают с работы. В тот же день ближе к обеду мне позвонил П. Н. Зернов и попросил приехать на встречу на МКСВ. Место встречи было выбрано необычным – центральная лаборатория комбината (ЦЛК). Зернов работал над своей кандидатской диссертацией, и в здании ЦЛК у него было небольшое помещение для проведения исследований. Он встретил меня, очень внимательно всматриваясь в мои глаза. Далее его слова были примерно следующими: «В. С. Белявского снимают с работы, мне сообщили, что на его место назначают тебя и что ты дал согласие. Я лично считаю, что ты еще не подготовлен для этого». Я ответил о том, что слух о снятии Белявского дошел до меня сегодня утром. Со мной о назначении на должность гендиректора МКСВ никто не говорил, и подобного разговора быть не может. Я действительно не подготовлен для такой работы, надо приобрести опыт работы директором на предприятии меньшего масштаба. ЗИВ для этого то, что надо. О том, что у меня есть некоторые предпосылки для работы директором крупного коллектива, показал семимесячный период моей работы на ЗИВе. В тот период на заводе работали шесть с половиной тысяч человек, и они приняли мои методы доброжелательно. На «Лавсане» тогда работало ориентировочно восемь тысяч человек. Мое знание производства, опыт работы со строителями, очевидно, могли породить версию, которая беспокоила Зернова. Но в целом, по моему, для назначения меня на должность гендиректора оснований не было. Я был искренен с ним по одной простой причине, что он казался мне гораздо более опытным руководителем, чем я, с хорошими моральными устоями. Сумел подняться в очень тяжелой жизненной ситуации, отстоял свои позиции в сложном противостоянии с Белявским, и потому мне и в голову не приходило соперничать с ним за освободившееся место. Мой ответ, очевидно, его успокоил. Он предупредил, что о разговоре никто не должен знать, и мы расстались. Возвращаясь к себе на завод, я старался понять, для чего он меня пригласил. Пришел к выводу о том, что он дал мне понять – он будет бороться за должность генерального директора МКСВ. Я не должен путаться у него под ногами.
В короткие сроки Зернов стал генеральным директором. Для себя я отметил, что задолго до этого момента правильно оценил его потенциал по восстановлению жизненных позиций и соглашался пять лет вплоть до последнего разговора с его ролью ведущего.
Интересные события дальше произошли с Г. А. Криулиным. На следующий год после снятия В. С. Белявского, то есть в 1974 году, его направили в Северную Корею полномочным послом СССР. Для человека, посвятившего себя с молодости партийной работе, уход в принципиально другую сферу деятельности в пятидесятилетнем возрасте равносилен завершению роста карьеры. Мне пришлось присутствовать на пленуме обкома партии, на котором его провожали. Вел пленум второй секретарь Могилевского обкома М. К. Кулагин, проработавший к тому времени в Могилевской области около года. При его назначении ходили слухи, что ЦК КПБ обеспокоен чрезмерно авторитарным стилем работы Г. А. Криулина. М. К. Кулагин назначен, чтобы повысить уровень демократичности в областной парторганизации. Если эти слухи имели основания, можно было предположить, что за год работы М. К. Кулагин убедился в невозможности выполнения порученной ему миссии.
На пленуме обкома М. К. Кулагин с большим пафосом провозглашал, что Г. А. Криулин назначается «чрезвычайным и полномочным послом Союза Советских Социалистических Республик». Все присутствующие понимали насколько это назначение некстати для руководителя со столь сильным характером. Он сформировался в партизанах, был полезен в труднейших условиях первых послевоенных пятилеток, сыграл громадную созидательную роль в организации строительства первой очереди «Лавсана». Но, очевидно, ЦК КПБ посчитал, что пришло другое время и нужны новые подходы. В качестве основного недостатка в работе обкома на Пленумах ЦК КПБ указывались низкие показатели работы сельского хозяйства. Природные условия области были менее благоприятны, чем у соседей. Быстрое промышленное развитие вытягивало из села кадры, отвлекало внимание руководства обкома от проблем села. Но это не было принято во внимание. Говорили о конфликте Криулина со вторым секретарем ЦК А. В. Аксеновым, который до своего назначения в ЦК работал первым секретарем в соседней Витебской области. Уже позже мне рассказывали о том, что супруга Криулина, находясь вместе с ним в Москве в период прохождения съезда партии, высказала в холле гостиницы «Москва» Аксенову упреки в отношении нового назначения своего мужа. Лично для меня Криулин сделал многое, и я ему благодарен за поддержку и высокие оценки. Позже, когда я перешел на работу в Совмин Белоруссии, Криулин вернулся из Северной Кореи и был назначен министром социального обеспечения. Мне и моей жене было приятно и полезно продолжить общение с Криулиным и его супругой. Но тогда после его ухода из области я себе задавал вопрос, не есть ли перевод в послы – «божья кара», справедливая оценка за снятие относительно молодого, но очень перспективного руководителя В. С. Белявского, Не является ли это следствием того, что первый секретарь обкома не пожелал наладить контакт с руководителем крупнейшего промышленного предприятия. С годами, ознакомившись более глубоко с особенностями взаимоотношений партийного руководства по линии обком – ЦК Республики – ЦК КПСС и ведомственного управления по линии Предприятие – Министерство – Совмин СССР я укрепился во мнении, что инициаторами и исполнителями «божьей кары» могли быть тандем Косыгин – Костандов. Снятие В. С. Белявского с работы через несколько дней после того, как высокая оценка его деятельности была озвучена Н. А. Косыгиным на Партийно – хозяйственном активе Республики являлось публичным оскорблением Председателя Совмина СССР. Партийное руководство Республики, пойдя на поводу у первого секретаря Могилевского обкома партии, тем самым продемонстрировало свое верховенство над хозяйственными структурами, в том числе союзного уровня. Аппарат ЦК КПСС для поддержания высокого авторитета партии поддержал инициативу ЦК КПБ. Тандем Косыгин – Костандов, понимая, что развязывание дискуссии по судьбе В. Белявского, может остановить реализацию всей огромной программы инвестиционной программы, «без боя» его сдал. Но не в традициях Совмина того периода было играть роль мальчика для бития. А. Н. Косыгину удавалось достаточно успешно проводить свою линию в жизни. Есть основания полагать, что после того, как инвестиционная программа получила официальное одобрение ЦК КПСС Совмин и Минхимпром должны были поставить вопрос о невозможности сотрудничества с действующими руководителями Могилевского обкома.
Первым секретарем Могилевского обкома партии был назначен В. В. Прищепчик, имеющий громадный опыт работы в сельском хозяйстве, председателем Могилевского облисполкома был назначен мой непосредственный воспитатель А. В. Маслаков.
Заводские будни
Зернов приступил к работе в качестве директора Могилевского комбината, я продолжил спокойно свою работу на ЗИВе. Снятие В. С. Белявского довольно долго будоражило работников объединения, но для ЗИВа эта тема не была актуальна. В отношении завода инспектирующими органами было выпущено несколько предписаний, каждое из которых требовало останова одного из технологических производств. Контрольные органы считали, что период моей акклиматизации закончился, и потому настаивали на их безусловном исполнении. Сроки, установленные по всем предписаниям, были нереальны для исполнения, избежать останова производств можно было только демонстрацией высоких темпов работ. Наибольшую сложность представлял ремонт вентиляционной трубы. Это было сооружение диаметром шесть и высотой сто двадцать метров. Понятие труба в данном случае можно было применять очень условно, так как от объекта остался только стальной каркас, сильно подвергшийся коррозии. Он был своеобразной пародией на Эйфелеву башню. Выброс вредных газов с производства сероуглерода и сероводорода из-за неработоспособности проектной трубы осуществлялся через временное сооружение высотой всего тридцать метров. В туманную или дождливую погоду вредные газы стелились по территории завода и прилегающих жилых районов, при этом вентиляция производственных помещений работала крайне неудовлетворительно. До моего прихода на завод была осуществлена одна попытка установки обшивки трубы, но она закончилась неудачно. На заключительной стадии работ из-за наличия отклонений от требований по креплению элементов обшивки ее верхние секции оторвались и, падая, обрушили все ее секции до самого основания. Труба казалась каким-то идолом, она внушала реальный физический страх тем службам, которые отвечали за ее ремонт. Выдвигались версии о том, что лучше не связываться с ней, заказать монтажникам и смонтировать новую. Однако для реализации этой программы требовалось не менее двух с половиной лет. Пришлось провести обширные дополнительные исследования состояния металлоконструкций, проработать вопросы надежности крепления секций обшивки, определить наиболее рациональные методы устранения коррозии и антикоррозионной защиты. По результатам проработок было принято решение форсировать ремонт. Ведущая роль во всей программе подготовки решения и организации ремонта принадлежала главному архитектору завода А. Громченко, но ответственность за принятие решения лежала на главном инженере и директоре. Мы рисковали жизнью сотен людей, работающих в зоне возможного падения трубы. Ремонт ее был завершен в короткие сроки, приятно было каждый день, подъезжая к заводу, наблюдать, на сколько секций вверх продвинулись монтажники ремонтного треста по установке обшивки.
С окончанием работ волнений по поводу надежности конструкции трубы не уменьшилось, так как вновь установленная обшивка значительно увеличивала парусность и соответственно нагрузку на каркас трубы. В случае падения трубы на стоящие рядом здания количество погибших людей могло составить громадное количество. Но надо признать, что последующие годы показали правильность наших решений. Насколько велик для руководителя риск при принятии подобных решений впоследствии показала ситуация на родственном предприятии в Светлогорске. Коллективу этого завода повезло. В майские праздники 1975 года, когда на предприятии был только дежурный персонал, произошло обрушение аналогичной трубы. Но она упала точно вдоль внутризаводского проезда, повредив минимум коммуникаций. Единственный несчастный случай произошел с начальником смены одного из цехов. Увидев в окно падающую на нее трубу, она инстинктивно, согласно женской логике, бросилась под стол и при этом набила себе большую шишку. Труба «легла» в пяти метрах от здания. Директор завода из Светлогорска И. Ефанов мне потом рассказывал, что он несколько раз спрашивал работников ремонтного треста, насколько надежна его труба и получал ответ: «Не волнуйтесь, Ваша труба еще сто лет будет стоять, это не то, что труба у Петрова, та долго не протянет». Слава богу, «труба Петрова» простояла после ремонта еще несколько десятков лет.
Предписание об останове штапельного производства было выдано надзорными органами, в связи с тем что на этом производстве был сорван срок ввода в действие цеха по очистке вентиляционных выбросов от сероуглерода и сероводорода. Это была первая в стране отечественная установка подобного рода – аналог немецкой установки фирмы «Лурги». Многие виды оборудования изготавливались в СССР впервые, поэтому их поставки срывались. С помощью главка удалось решить проблемы, обком помог отмобилизовать строителей. Газоочистка была закончена строительством и в короткие сроки выведена на устойчивую работу.
Решение этих трех вопросов отвели от завода угрозу останова и позволили переключить значительную часть внимания на вопросы развития завода. Я старался по-прежнему большую часть концентрировать силы на тех программах, которые мне были более понятны: строительство и благоустройство. На заводе сформировалась квалифицированная группа капитальщиков. Возглавлял ее В. Бадиков – замдиректора по капитальному строительству, очень опытными строителями были В. Исаков, В. Перель. Хорошие отношения у меня сложились с управляющим трестом № 12. А. Корниевичем. К моменту моего прихода на завод специалисты службы главного инженера практически закончили работы по созданию первой в стране установки по производству вискозной сосисочной оболочки. Это было большим научно-техническим достижением, так как позволяло ликвидировать очень трудоемкие ручные операции в производстве сосисок. В течение многих лет работы велись под руководством А. Розенберга. Их логическим завершением стало строительство производства мощностью триста миллионов погонных метров в год. Я не участвовал в разработке технологии, но довольно много внимания уделял завершению строительства производства. При этом мог убедиться, что наши специалисты были в состоянии организовать проектно-строительный конвейер, при котором параллельно проводились финишные научно-исследовательские работы, создавалось оборудование, велась разработка проекта и строилось здание. Вследствие того, что производить оболочку можно было только из особого сырья – хлопковой целлюлозы, обладающей высоким молекулярным весом, потребовалось изготовление химического оборудования существенно отличающегося от серийного. Машиностроители отказывались его делать вследствие малого размера серии. Инженеры завода нашли выход, установив трофейное немецкое оборудование, которое было демонтировано десяток лет назад при проведении реконструкции химического цеха завода. В итоге было создано производство, которое в кратчайшие сроки было выведено на проектные показатели, а впоследствии реконструировано с приростом мощности на пятьдесят процентов. Для меня участие в этой программе стало прекрасной школой, которая оказалась полезной при проведении строительства новых установок на штапеле-2 на «Лавсане».



