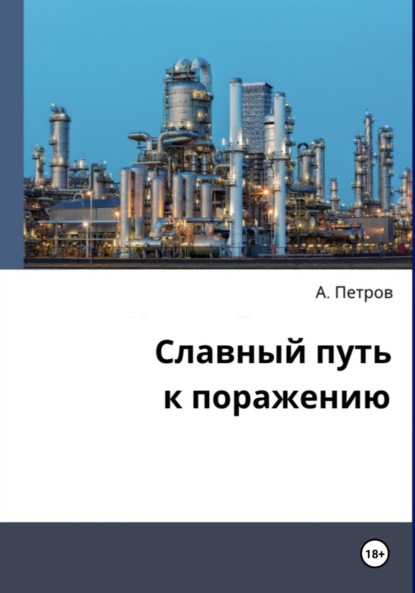
Полная версия:
Славный путь к поражению
Согласование моего назначения в Минхимпроме, обкоме КПБ и республиканском главке было очень быстрым, и мой приход на завод в качестве директора стал для всех большой неожиданностью. О моей высокой требовательности, способности, если необходимо для дела, доводить ситуацию до конфликтов, заводчане были наслышаны от моих товарищей, перешедших на «Лавсан». Поэтому приход был встречен настороженно. Появились версии о неизбежности снятия тех или иных руководителей, добровольные консультанты по поводу того, с кем надо «разобраться в первую очередь».
Мне шел тридцать второй год. За плечами работа по налаживанию сотрудничества с многотысячными коллективами строителей и производственников и при этом отсутствие опыта в кадровой политике. Каким-то чутьем понял, что хотя и назначен директором, больной А. М. Никонов де-факто остается в должности и имеет большую возможность влияния на коллектив, чем я. Вывод был прост: надо это сложившееся двоевластие привести к одному знаменателю. Единственным способом разрешения ситуации было сближение с А. М. Никоновым. Я приезжал к нему в Межисетки, советовался по делам, по кадрам. В условиях одиночества, которое сформировалось вокруг него, эти встречи для него были приятны. Вновь, как и в случае с английской госпитализацией П. Н. Зернова, был внимательным слушателем. В одну из таких встреч А. М. рассказал мне со всеми подробностями историю, которой в Могилеве дали название «Райкомовские шашлыки». Частично я знал ее по рассказам других участников этого мероприятия, поэтому приведу его описание на основе сводной оценки.
В 1970-е годы ЗИВ был самым крупным предприятием города, получал знамена ЦК КПСС, и Алексей Михайлович в период своего творческого расцвета пользовался большим уважением.

Он с пристальным вниманием относился к поручениям местных органов власти, реакция была адекватной. Его постоянно избирали в партийные органы. Для многих руководителей предприятий он был образцом для подражания. Весь этот комплекс взаимоотношений характеризует одна из притч, ходившая в тот период по городу. Сельское хозяйство к началу 1970-х годов в стране не могло обеспечить население мясом. ЦК КПСС было принято решение о необходимости создать на промышленных предприятиях подсобные хозяйства по выращиванию скота. Директиву требовалось выполнить «вчера», то есть в короткие сроки. А. М. Никонов как член райкома должен был стать примером для других руководителей.
После обсуждения всех возможных вариантов со своим замами он принял решение организовать свиноферму на сто голов в заводском профилактории. Доводы были достаточно убедительны. Есть свободный сарай, все энергоносители, канализация и значительное количество пищевых отходов. Службы завода были отмобилизованы, и предприятие первым в городе отрапортовало о выполнении решения партии. Все шло хорошо, и сводки о привесе молодняка указывали на эффективность фермы. Но далее случился курьез.
Через полгода после запуска фермы Алексей Михайлович позвонил директорам ведущих предприятий города и попросил их приехать «сегодня вечером» в заводской профилакторий. Все полагали, что он по указанию райкома партии будет проводить мастер-класс по выращиванию свиней. Было известно, что днем ранее проводилось закрытое заседание райкома партии. Поворчали со ссылкой на высокую занятость, но в назначенное время все приехали. К удивлению присутствующих, хозяин не стал показывать ферму, а сразу же собрал всех на ужин вокруг открытой жаровни. Предложил выпить и закусить первым продуктом фермы. Выпили, разговорились. Все пришли к выводу, что мясо прекрасно. Неизбежно затронули тему технологии откорма. Один из директоров заметил, что обычно свиней выращивают не меньше года, как хозяину удалось сократить столь сильно сроки откорма. Пришлось Никонову «расколоться» и рассказать об истинных причинах экстренного сбора.
Некоторое время назад в райком поступила анонимная жалоба о том, что под видом выполнения решения партии дирекция организовала в заводском профилактории ферму для выращивания свиней для своих личных нужд. В профилакторий была направлена комиссия партийного контроля, которая установила, что «факты частично подтвердились». Главный врач профилактория из особого уважения к директору завода и его замам определил, что пяток поросят будет откармливаться для них. Свинок пометили краской и каждой дали кличку. Персонал особенно внимательно следил за их безопасностью и аппетитом. Поросенка директора звали любовно – Леша, свинку главного экономиста по его фамилии – Цедик. Ферма находилась в непосредственной близости от зоны прогулки отдыхающих, и по вечерам они могли слушать как персонал фермы зазывал VIP-персон на дополнительную кормежку. Никонов, ранее ничего не знавший об этих фактах искреннего уважения к себе и своим замам, получил на закрытом заседании райкома серьезное внушение. Естественно принял обязательство «завтра же немедленно прекратить безобразие».
На ужине всем он дал разъяснение о том, что никаких новых сроков откорма он не внедрял, мы все присутствуем на мероприятии по выполнению решений родного райкома. За Лешу мной внесены деньги в кассу, вот квитанция, ну а то, что его больше в стаде нет, вы все подтвердите. Подобное откровение не испортило ужина. Алексея Михайловича все директора уважали, и провести вечер в его компании было интересно каждому. При этом директора, которых до этого в течение нескольких месяцев упрекали в недостаточном внимании к решениям партии, получили моральное удовлетворение от того, что передовик, как и положено «выскочке», получил по заслугам.
Алексей Михайлович ничего мне не навязывал, был просто рад встречам. Но сама система получения советов налагала на меня обязанности сохранения близких к нему кадров. Если твои действия искренние, а не показные, ты не можешь снимать с должности близких к нему людей. Так было с секретарем приемной. Иметь при новом молодом директоре секретаршу и при этом фаворитку экс-директора, женщину в зрелом возрасте – это значит, находиться под контролем прошлого директора. И общественное мнение ждало первой жертвы. Но мой опыт уже подсказывал мне, что слепо идти на его поводу, значит, создавать предпосылки для усиления его агрессивности. И я предпочел согласиться с мнением зависимого от Алексея Михайловича руководителя. Он воспринял это с пониманием и, очевидно, свой настрой передал формальным и неформальным лидерам подразделений завода. Вскоре он ушел из жизни. Произошло это через несколько месяцев после моего прихода, но этот срок нашего сотрудничества оказался достаточным для того, чтобы я «не наломал дров» и не противопоставил себя ни коллективу, ни руководителям его ведущих подразделений. Все кадры, ранее приближенные к А. М. Никонову, обладали хорошими деловыми качествами, и поэтому сохранили свои позиции и после его смерти. Наиболее сильная моя сторона как руководителя на «Лавсане» – это высокое преимущество перед другими в знании технологии. На ЗИВе она была принципиально иной, для меня незнакомой. При этом было трудно удерживать себя от поучений традиционно присущих первому лицу. Понимал, что слишком велик был риск ошибок, падения авторитета. Пришлось искать сферы управления, в которых я мог бы действовать наверняка. Ими стали социальные проблемы работников завода, программы ремонта и капитального строительства, меры по повышению культуры производства, благоустройству территории завода.
Абсолютное большинство специалистов на заводе, включая его руководителей, имело высокую квалификацию и не менее высокие деловые качества. Мне не пришлось разрабатывать никаких антикризисных программ. Были поставлены конкретные задачи по завершению строительства цеха газоочистки штапеля, мононитей, трубы производства шелка № 1, заводской столовой. Сами руководители (В. Бадиков, В. Перель) добились в Минхимпроме получения лимитов, организовали строительно-монтажные работы. Аналогичное положение наблюдалось и в области благоустройства завода, эстетического оформления предзаводской территории, заводоуправления, новой столовой. Организатором этих программ был А. С. Громченко. Люди словно стосковались по работе, целенаправленным командам. Оказалось, что завод далеко не соответствует прежним заявлениям ряда критиков о том, что надо его останавливать.
При этом удалось добиться прекращения работы с большой пользой для завода и города сероуглеродного производства. Оно было опасным вследствие сверхвысокой вредности для обслуживающих его работников и жителей, проживающих вблизи завода. Как-то мне пришлось привезти на завод зав. отделом ЦК КПБ А. В. Беденко. Этому руководителю я очень благодарен за многолетнюю поддержку. Он посмотрел труд аппаратчика, который ежеминутно загребал совковой лопатой уголь и забрасывал его в топку сероуглеродной печи. Сверху на свежий слой угля падала струя расплавленной серы, и пары сероуглерода, образовавшиеся в результате взаимодействия угля и серы, испаряясь, поступали на сборники сероуглерода. Конечно, часть их, выходя через дверцу топки, попадала в организм аппаратчика. А. В. Беденко вышел подавленный и кратко сказал: «Когда товарищи из Беларусьфильма будут меня спрашивать, где найти для съемок аналог производства прошлого века, я дам точный адрес». Это производство было вскоре остановлено благодаря тому, что в Волжске запустили завод по производству сероуглерода из метана на основе современной немецкой технологии. Он стал обеспечивать все заводы искусственного волокна СССР. Но в связи с моими неоднократными обращениями в главк о необходимости останова нашего сероуглеродного завода, общественное мнение и руководство города отнесло это к моим заслугам. Так бывает, иногда общественное мнение отнимает тобой созданные плоды, иногда – отдает чужое.
Коллектив завода в значительной степени состоял из женщин, причем их лидерство имело место не только на рабочих местах, но и на уровне начальников цехов, начальников производств. Достаточно сказать, что всеми тремя производствами завода – химическим и целлофановым цехами – командовали женщины. Они самоотверженно трудились на своих постах, зачастую посвящая производству и свои выходные. До прихода на должность руководителя они много поработали в цехах. Общение с ними имело свою специфику. Длительное критическое обсуждение дел на производстве, даже без повышения тональности разговора, вызывало у них слезы, что было, по-видимому, связано с многолетним воздействием сероуглерода, отрицательно влияющим на нервную систему. Это приходилось учитывать в работе, требованиям придавать форму вежливых просьб. Подобная тактичность была положительно оценена.
Первые шесть месяцев моей работы пришлись на теплые месяцы года, что способствовало проведению достаточно масштабных работ по благоустройству. К октябрю 1973 года завод существенно преобразился, выполнение производственной программы и без моего прямого воздействия шло успешно. По заводу перестали циркулировать слухи о планах нового директора по кадровой чистке, руководители всех звеньев успокоились. В этих условиях начало формироваться общественное мнение о том, что назначение парня с «Лавсана» не худший вариант, с ним можно работать. Могилев – город небольшой, мнение заводчан было достаточно весомым фактором, ко мне с вниманием стали относиться в структурах города.
Мавр сделал свое дело…
К лету 1973 года значение Могилевского объединения «Химволокно» для области, Республики, отрасли стремительно возросло. Первая очередь мощностью пятьдесят четыре тысячи тонн по ДМТ, пятьдесят тысяч тонн по волокну и нитям была выведена на проектные показатели, что сделало предприятие крупнейшей площадкой по производству химволокон не только в СССР, но и в Европе. К этому моменту стало ясно, что из-за серьезных недостатков технология и оборудование линии непрерывной поликонденсации и формования, разрабатываемые совместно со специалистами ГДР на площадке Могилевского объединения, не готовы к тиражированию. По итогам «исторического» совещания в Кремле у А. Н. Косыгина в 1971 году, на котором по поручению главка с большим успехом выступил В. С. Белявский, было принято постановление Правительства «О развитии отрасли химических волокон». В 1973 году в соответствии с ним был заключен контракт на поставку МКСВ комплектного импортного оборудования для производства ДМТ-2 мощностью шестьдесят тысяч тонн с фирмой «Крупп», волокна «Лавсан» мощностью шестьдесят три тысячи тонн и товарного полимера – двадцать три тысячи тонн с немецким концерном «Хехст». Это означало, что в течение четырех лет мощности объединения должны были увеличиться более чем в два раза. Контракт предусматривал переход на принципиально новые для комбината технологии – непрерывную поликонденсацию ПЭТ и прямое формование волокна из расплава. Предприятие приобретало новую технологию, близкую по уровню к высшему мировому. По основным параметрам «Лавсан» выходил в тройку ведущих предприятий Республики, таких как Белорусский тракторный завод, МАЗ. Создание второй очереди в два раза более короткие сроки, чем первая (четыре года против восьми), требовало серьезной поддержки союзных строительных и монтажных министерств, четкой работы поставщиков отечественного вспомогательного оборудования. Продолжение строительства обеспечивало высокую загрузку созданной для первой очереди строительства промышленной базы, треста № 17, монтажных организаций, Город и область должны были получить громадные средства на развитие соцкультбыта и инфраструктуры. В середине пятилетки, когда все ресурсы были распределены на объекты, уже включенные в пятилетний план, эти задачи можно было решить только с помощью Правительства СССР. Для этого в 1973 году было подготовлено посещение МКСВ Председателем Совета Министров СССР А. Н. Косыгиным.
В плане его подготовки В. С. Белявскому создали имидж лидера отрасли. В апреле 1973 года комбинату было присвоено имя В. И. Ленина. Для того времени это была высшее признание, оно означало, что предприятие становится флагманом отрасли. Более значимым было только награждение Орденом В. И. Ленина. Качество строительно-монтажных работ на МКСВ всегда отличалось высоким уровнем, но к приезду А. Н. Косыгина были проведены дополнительные отделочные и ремонтные работы, устранены недостатки, выявленные за годы эксплуатации. В. С. Белявский был главным организатором программы по подготовке к встрече высокого гостя. Работники МХП, республиканских органов, обкома, строители и монтажники – все были наделены поручениями. Комбинат выглядел прекрасно.

А. Н. Косыгин приехал сразу же после ноябрьских праздников. Его сопровождали Министр Л. А. Костандов и Первый секретарь ЦК КПБ П. М. Машеров. Они прошли по всем основным производствам. А. Н. Косыгин пришел в восторг от увиденного, выразив его в Книге почетных посетителей комбината следующей записью:…

На совещании была одобрена программа развития комбината и согласовано предложение о создании мощного производства по выпуску полиэфирных нитей в Светлогорске, дано задание предусмотреть в планах 1974–1975 годов все необходимые капитальные вложения и ресурсы для ускоренного создания новых производств и развития соцкультбыта.

Я был директором другого завода, в программе встречи А. Н. Косыгина на «Лавсане» не участвовал, но получил подробную информацию от коллег с комбината и от руководителей Могилевского обкома. В числе директоров крупных предприятий Республики был приглашен на партийно-хозяйственный актив в город Минск по итогам визита А. Н. Косыгина. Косыгин в своем выступлении говорил об успехах БССР, указывал, что по многим позициям Республика является лидером в СССР. В качестве наиболее значимого подтверждения этого он подробно рассказал о своем посещении МКСВ. Дал высокую оценку строителям, монтажникам, обкому партии. Несколько фраз было посвящено лично В. С. Белявскому. По памяти это звучало примерно так: «Предприятие заслуживает самой высокой оценки, руководителем его является В. С. Белявский. Я думаю, что он присутствует сегодня среди нас». Очевидно, рядом сидящие за столом Президиума руководители Республики ему что-то подсказали. Он оглянулся и стал искать глазами Белявского в президиуме. Тот сидел с краю во втором ряду, чуть привстал, чтобы его видел А. Косыгин. Премьер закончил фразой: «Это настоящий хозяин. Я рад, что такие руководители работают в Республике». Раздались аплодисменты, они звучали в моей памяти все последующие годы, как знак высшего признания моего бывшего руководителя и коллеги по сложной директорской работе и как напоминание, что они могут означать на практике.
В. С. Белявского сняли с работы по инициативе Могилевского обкома партии через несколько дней после отъезда А. Н. Косыгина. Партия в лице обкома в период 1970-х годов всегда стремилась к абсолютной монополии власти на вверенной ей территории. Когда же на ее пути вставали люди, способные хотя бы частично нарушить ее монополию, жизнь создавала им большие трудности. Это наглядно просматривается на истории с первым генеральным директором Могилевского комбината «Химволокно» В. С. Белявским. Успешная производственная деятельность и блестящие результаты этого руководителя не могли являться гарантией для дальнейшего продолжения карьеры, необходимо было сформировать особые взаимоотношения с обкомом. Белявский – с очень сильным характером и темпераментом на протяжении многих лет трудился в Сибири. Перед переходом в отрасль химических волокон был директором отдаленного от центра рудника по добыче асбеста в Красноярском крае, в Республике Тува. Один рудник, один город, одна власть и над его работниками и над всем населением поселка в лице директора. В тех условиях, очевидно, не было смысла в ее распределении между дирекцией предприятия, советами и партией. Не было необходимости «притираться» к чиновникам обкома, отрабатывать механизмы взаимодействия на производственном и бытовом уровне. Они слишком далеко были от рудника. Эта школа, по-видимому, вошла в сознание еще молодого директора, который к тому времени разменял лишь третий десяток лет. Когда вблизи Красноярска начал строиться новый завод по производству химических волокон его кандидатура оказалась наиболее достойной. Стройплощадку вскоре после отстранения от власти Н. С. Хрущева перенесли в европейскую часть СССР, то есть в Белоруссию. В. С. Белявский возглавил стройку на новой площадке. Прошло восемь трудных лет. За эти годы на голом месте был построен крупнейший для того времени в СССР и Европе завод по производству мономеров, химических волокон и нитей. Все эти годы его руководитель был бескомпромиссным бойцом против снижения уровня требований по качеству строительства, плодотворным организатором пусков и освоения мощностей. С каждым вводом очередного производства рос его авторитет в новом для него министерстве, в коллективе, среди иностранных фирм. Казалось, ему все было по силам. У В. С. Белявского были чрезвычайно высокие властные амбиции. Он должен был видеть, что окружающие поражены его способностями, энергией и потому готовы ему подчиняться. И действительно, эти качества были очень высоки, и люди на производстве с готовностью принимали его право быть лидером, соглашались с руководителем. Подобные требования он распространял и на женщин. Но те преимущества, которые ему помогали на производстве, во взаимоотношениях с женщинами не срабатывали. Он скромно одевался, был невысокого роста, несколько сутуловат, с прической, искусно закрывающей голые участки головы. Его возраст составлял к 1975 году примерно сорок семь лет, но выглядел он значительно старше. Во взаимоотношениях с женщинами он также требовал, как и в производственной сфере, восхищения, но не получая его, страдал, продолжая дальнейший поиск.
В начале 1970-х годов на совещании в Кремле при А. Н. Косыгине он очень убедительно доложил о важнейших программах Минхимпрома. Раскрылась его очень мощная харизма. Тот, кто смотрел фильм о Королеве – генеральном конструкторе космических кораблей, роль которого блестяще исполнил молодой К. Лавров, мог наглядно поверить в исключительную роль личности в успехе крупной программы. Харизма Белявского была близка к уровню воздействия столь известного артиста на окружающих. Но это была реальная жизнь, а не кино. Доклад в Кремле заранее был обречен на успех, под его параметры уже были подготовлены корректировки пятилетних планов. Но исполнение доклада повысило оценки Председателя Правительства всей программы.
В то же время в Могилеве для него создалась двусмысленная ситуация. Небольшая область и тихий областной центр превращался в центр всей химической индустрии СССР с производствами, основанными на технологиях и оборудовании мирового уровня, с громадными инвестициями в социальную сферу города и области. Лидер крупного предприятия автоматически становился фигурой областного и республиканского масштаба, с мнением которого необходимо было считаться не только на строительных планерках, но и в решении многих важных вопросов развития области. Ведь в значительной степени он должен был определять, сколько и куда вложить денег. В истории Могилевской области в течение нескольких десятилетий до начала 1970-х годов ведущим предприятием был завод искусственного волокна им. В. В. Куйбышева. И обком партии имел разнообразный опыт сотрудничества с директорами этого предприятия. Наиболее яркими личностями были А. Ф. Сафронков и А. Н. Никонов. Первый был прекрасным техническим специалистом и организатором, но его слабым местом было сотрудничество с обкомом. Карьера в Могилеве закончилась конфликтом с обкомом, но Минхимпром, осознавая высокие деловые и моральные качества этого руководителя, направило его переводом на еще больший по значимости вновь строящийся комбинат химического волокна в городе Курске в качестве директора. А. Н. Никонов, – заслуженный участник Великой Отечественной войны, наоборот, не обладая характерной для Сафронкова ярко выраженной технической подготовленностью, хорошо ладил со всеми уровнями власти Могилевской области, города, района. Это обеспечило ему как директору долгожительство, даже в период потери дееспособности.
Харизма Белявского В. С. строилась в значительной степени на абсолютной уверенности в себе, своей самостоятельности, твердости. Перестройка образа под человека, демонстративно послушного руководителям партийных и советских органов области ему была малодоступна. Развитие конфликтной ситуации между двумя наиболее значимыми людьми области с достаточной степенью вероятности прогнозировалось. Предпосылками для этого были, как характер В. С. Белявского, так и стиль работы первого секретаря обкома партии Г. А. Криулина. Это был человек с сильным характером, прошедший школу партизанской войны, имеющий объективные возможности для дальнейшего служебного роста. Стремление показать, кто есть кто между этими двумя руководителями прослеживалось с самого начала. Ф. Матьков – в тот период инструктор обкома – рассказывал мне о случае, который говорит об этом. Г. Криулин на начальном этапе стройки пригласил В. Белявского для обсуждения хода строительства. В. Белявский прибыл в назначенное время в приемную и стал ждать. Прошло более двадцати минут. Приглашения войти в кабинет не последовало, тогда он встал, попросил секретаршу сообщить Г. Криулину, что у него «тоже много дел», после чего покинул здание обкома партии и вернулся на комбинат. Через некоторое время ему позвонил Г. Криулин и извинился, объяснив, что ему пришлось заниматься чрезвычайно важными поручениями ЦК КПБ. В ответ В. Белявский также извинился, отметив, что он сам вынужден был срочно покинуть обком, так как необходимо было до конца рабочего дня завершить подготовку материалов для Москвы.
В прогнозируемом конфликте уязвимость Белявского предопределялась некоторыми особенностями и обычными человеческими слабостями. Он не был человеком, для которого выпивка была ежедневной потребностью, не был спортсменом, футбольным болельщиком, охотником, рыболовом, игроком в карты, то есть не имел хобби, которое помогает приобрести постоянных друзей из коллег равного уровня и разгрузить нервную систему от главной нагрузки – производственной. Отсутствие этих увлечений не позволяло ему сблизиться с руководством области вне производственной сферы. Большую часть стрессовых напряжений он старался снимать, добиваясь внимания женщин. И, очевидно, будучи главным и даже единственным инструментом разгрузки нервной системы, этот фактор создавал для него громадную зависимость от них.
В природе имеются подобные случаи. Самым хищным и во всех отношениях совершенным зверем наших лесов является волк, значительно превосходя всех остальных обитателей леса. Он хитер, быстр, вынослив, знает повадки других зверей, жесток. Но при всем многообразии его сильных черт у него есть одно очень слабое место. Поразительно, зверь, питающийся в основном свежим мясом, окрашенным кровью, более всего в жизни боится красных флажков. Никто новорожденному волчонку этот страх в жизни не прививает. Рождаясь и вырастая, он сохраняет этот страх на всю жизнь. Он заложен у волка на генетическом уровне. Когда и с какой практической целью природа наделила его этой осторожностью – неизвестно. Неоднократно возникали ситуации, способные исправить эту ошибку, но гены зверя брали свое. Мой знакомый лесничий из деревни Эсьмоны Белыничского района рассказывал, что после войны в Белоруссии в лесах осталось большое количество немецких овчарок, используемых в концентрационных лагерях и в борьбе с партизанами. Они были научены нападать на людей, для них проблема страха перед флажками и людьми отсутствовала. Вскоре после войны в лесах появились молодые волки, которые не боялись красных флажков и смело нападали на людей. Попытки их выследить, обложить флажками и уничтожить не имели успеха. Со временем повадки новых поколений вернулись в норму, созданную природой, но отдельные особи сохраняли вновь приобретенные инстинкты. Однажды в Белыничском районе мы выследили стаю волков. Их в конце 1970-х годов развелось много. Из-за недостатка кормов зимой был высокий падеж скота. Руководителями колхозов и властями района это скрывалось. Туши животных тайно вывозились в лес на необорудованные скотомогильники, и это создавало условия для быстрого роста поголовья волков. Но зверь не ограничивался тем, что ему добровольно давали люди, нападал на скот в деревнях, уничтожал собак, были случаи нападения волков на людей. Охота на волков была возведена в ранг обязательной помощи сельскому хозяйству и разрешена круглый год. Наша охотничья бригада активно в нее включилась. В один из дней охоты близился вечер, мы проезжали на уазике лесной квадрат за квадратом, но следов не обнаруживали. Бригадир высказал предложение выйти из машины и пройти по лесной дороге пешком. Прошагали метров 800, лес уже кончался, следов волков нигде на свежем, выпавшем ночью снеге, не было видно. На краю леса к наезженному полотну дороги слева подходили большие глубокие следы, справа после дороги они продолжались, уходя в кусты. Неделю назад дорогу перешел человек в валенках. Следы не вызвали ни у кого подозрений, так как явно были недельной давности. Но один из нас полюбопытствовал, заглянув вглубь следов, обнаружил на дне тридцати сантиметрового провала, на свежем слое снега волчий след. Пошли по ним вправо, дошли до кустарника в болоте и, к удивлению, обнаружили по следам, как пара волков оторвалась от следов человека и пошла веером по болоту в два параллельных следа. Объехали квадрат с болотом внутри, выходов не обнаружили. Быстро размотали флажки и окружили уже при лунном свете болото. Рано утром встали и не завтракая, возбужденные приехали на делянку. Объезд разочаровал. На полянке, достаточно плотно окруженной кустами, обнаружили большое количество волчьих следов. Как будто волки в насмешку над нами проходили, проползали под флажками и возвращались назад. Осмотр следов на внешней стороне от делянки на удалении от нее в двадцати метрах показал, что в итоге этой ночной демонстрации ушел только один волк. Именно он один показывал свою способность «гулять» под цепью красных флажков. Другой, по итогам осмотра, должен был остаться в квадрате. Расставили по периметру внутри делянки стрелков на расстоянии метров сорока от флажков и начали гон. Окруженный волк в подобной ситуации бежит в пяти–десяти метрах от флажков и ищет разрыв в ограждении. Охотник, стоящий в тридцати–сорока метрах от флажков, замечает зверя, увлеченного поиском разрыва в цепи флажков, и стреляет в него. У нас получилось все по теории. Через десять минут после начала гона М. А. Титов, главный инженер ЗИВа, застрелил бегущую волчицу. Это был очень крупный зверь с прекрасным мехом. При более внимательном осмотре обнаружилось, что кожа волчицы на конце одной передней лапы стерта по всей окружности до белой кости, затронута и сама кость, а шея окружена петлей из тонкой стальной проволоки со свободным концом в десять–пятнадцать сантиметров. Опытные охотники сразу объяснили картину. Волчица в прошлом попала головой в охотничий силок – петлю, конец которой был закреплен в земле. Ей удалось порвать проволоку вблизи точки ее закрепления с землей, но при этом она истерла до кости ногу. Оборвав проволоку, убежала со стальной петлей на шее. Ее партнер волк, проходя при лунном свете много раз под флажками, показывал ей, что бояться их не стоит. Она приближалась к линии флажков на расстоянии до трех метров, но совершить всего лишь один прыжок, дающий ей свободу и жизнь, не смогла. То есть, попав в капкан, она нашла силы для спасения жизни и перетерла костью своей передней лапы стальную проволоку, но преодолеть врожденный перед красным флажком страх не смогла.



