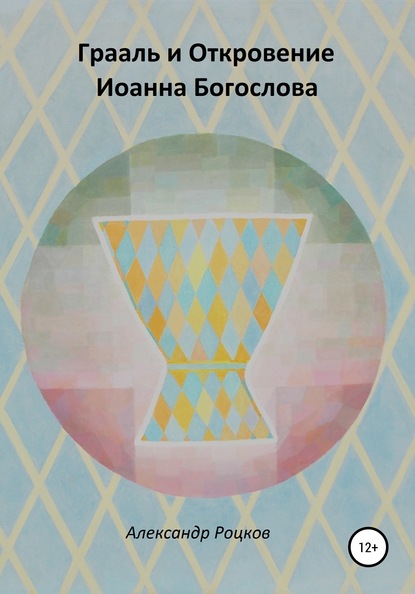 Полная версия
Полная версияГрааль и Откровение Иоанна Богослова. Философия благородства
А что есть толпа? О! Это тоже тип отношений. Толпа это неэкклесированная масса людей, точнее их фальшивых имиджей. Скученные и при этом по сути незнакомые друг с другом люди. В толпе человек особенным образом, как-то пронзительно одинок и мучительно несчастен. Толпа – объект политических и др. манипуляций. Извечное внимание толпы (хлеба и зрелищ) на культ личности, на самом деле не на личность, а на имидж. Это внимание энергетически однородное, одно и то же (раз на имидж), это принципиально другая энергетика, она мощная, но не разнообразная, т.к. имидж все видят одинаково. Психологический толпизм – это анонимность, поэтому аморальность и, самое главное, – несчастность. Толпа несчастна. Счастье – соучастье, часть, доля. В чем? Разумеется, в компании. Компания – глубиннейшая потребность человека. Это у него в крови, в генах, в самой глубокой родовой памяти. Кроманьонцы жили родовой общиной, т.е. компанией. До них миллионы лет палеоантропы, архантропы и проч. жили стадом. Первые люди-адамиты тоже жили родовой общиной. До сих пор слова "братство", "братская любовь" волнуют как напоминание о тех временах родовой общности. Это был легендарный "золотой век", но он кончился. Когда возникли первые рабовладельческие государства, общественность оказалась привилегией рабовладельцев. Рабов же держали в разобщении. Разделяй и властвуй – главная функция любого рабовладельческого государства. Этому идеологически способствовали языческие культы. Язычество – это рабовладельчество, возведенное в религию. Рабская доля – это толпизм. Но и рабовладельцы не были счастливы, даже в своей элитной компании. Ведь самое разрушительное для психики и здоровья – это подсознательное чувство вины.
Идеал общественности не может быть бюрократическим и рабовладельческим. И вот сейчас, когда былого рабства уже нет, где же общественность? Ее как-то нет, или есть, но очень мало. В массовом порядке есть "социальный онанизм", типа общения с ящиком телевизора, или компьютером. Накачал сериалов и живи себе спокойно… Жизнь в компьютерно-виртуальном мире – это добровольная "матрица" и "ванильное небо" (имеются в виду известные фильмы). А реальность – это не только труд общения и страдание от неприспособленности к другим людям, но и плод этого труда и страдания – счастье. Именно без этого счастья человека ждет экзистенциальная фрустрация от бессмысленности существования, отчаяние и болезнь. На что же можно надеяться и куда обратить взор в поисках идеальной общественности (хотя бы потенциально)? На сегодняшний день нам представляется самым перспективным сословием – гуманитарная интеллигенция. Критически мыслящая, с самого своего возникновения она начала собираться в общества, и в большинстве случаев, это была по преимуществу моральная, антикрепостническая, антирабовладельческая общественность. Несмотря на свои недостатки, литературная или философская, например, общественность оказалась, на наш взгляд, наиглубочайшей реальностью сегодняшнего дня. Мало того, думаем, она не только соль нынешнего века, но и века будущего. Идеал общественности невозможен без евангельских заповедей, и вот сейчас идет возврат к ним, и теперь гуманитарная общественность оказывается и единственной христианской общественностью, или, по крайней мере, лучшей ее частью.
Наше творчество обращено именно к ней, и на нее все наши надежды. На ней лежит главная ответственность за историю. Придет время, и с нее спросится: собирались или нет, и насколько были влиятельны? Ведь кто несет ответственность за общественное мнение? Кстати об общественном мнении. Современное негласное рабство осуществляется через формирование общественного мнения. Надо открыть свои духовные глаза на то, что кому-то небезразлично ваше мнение и желание. Пример тому – всевозможные рекламы, предвыборные компании и т.д. Уже эти примеры показывают, что мнение диктуется не всегда честными людьми. И не столько для блага других людей, сколько для своей выгоды. Что касается рабства, то ваше мнение обо всем есть продукт очень большой проделанной работы. Над этим трудились потомственные специалисты высочайшего класса. На это истрачены огромные деньги, цифры астрономические. И все это для того, чтобы держать вас в добровольном рабстве через ошибочное мнение. Техника от ТВ и компьютерных программ до СВЧ-излучений, гипнотизеры и колдуны мирового масштаба – это далеко не полный перечень участников хора, лезущих вам в мозги. Когда-то в древности общественное мнение на все случаи жизни помогало человеку сориентироваться и выжить, теперь все наоборот: общественное мнение – это опасность номер один. Мнение общества в культуре стыда (Маслоу) спасало человека тысячи лет, но теперь – это ловушка. Надо разделить общественное мнение и здравый смысл. Древнее делание монахов: трезвение, бдение, бодрствование и рассудительность должны стать делом каждого из нас. Они добивались высочайшей степени пробужденности. Рассудительность, к которой стремились христианские подвижники, – это, собственно, и есть здравомыслие, но истоки здравого смысла могут быть разные. Правильно, когда здравый смысл апеллирует к мудрости доброты. Современные рабовладельцы стараются подменить здравый смысл общественным мнением, формируемым при помощи масскультуры и средств массовой информации – это и есть порабощение. В наше время надо стать критически мыслящим, с независимым суждением и собственным мнением. Брать ответственность за здравомыслие только на себя, и не говорить: ну ведь все же так считают. Теперь это не оправдывает и не спасает от проблем, но наоборот усугубляет их. О некоторых вещах лучше помалкивать, но счастья и здоровья в рабстве не бывает.
Как-то раз мы увидели рекламный плакат с остроумным текстом: "есть что-то, что нельзя купить за деньги, зато все остальное можно!" задумаемся над этим. Хотим предложить некоторые размышления. Труд и терпенье – это не одно и то же. И хотя они часто связаны как бы в одной упряжке, но сейчас мы попытаемся их разделить и различить. Работает человек за деньги. И насколько общество признает и ценит его труд, настолько вознаграждает зарплатой. А терпит человек неудобства, связанные с лишением и воздержанием. Аскетика – это школа терпения, когда мир делится на добро и зло, а свои поступки – на грехи и добродетели. Работают за деньги и уважение, а терпят за симпатию. Под симпатией здесь имеется в виду все тот же особый вид эстетического созерцания человека. За работу уважают, за терпение любят. Симпатия, экклесиальная любовь – это то, что не продается за деньги. Теперь, разовьем эту мысль дальше в экклесиологическом направлении. Клубы бывают по интересам и бывают по симпатии. В клубе по интересам внимание людей направлено на интересное занятие, в клубе по симпатии – на человека (иногда на природу). Клуб по интересам предполагает какое-либо занятие, например, искусство, а в этом занятии могут быть таланты, гении, которые, возвышаясь, приобретают имидж артиста и превращают людей в толпу поклонников. Зло – все то, что превращает людей в толпу. Клубы по симпатии чаще бывают в детстве и юности, но в дальнейшем они рушатся вследствие социального расслоения, претензий на имидж, ссор и прочее, и для многих клуб по симпатии – это опыт, связанный с болью разрывов и обид. Привязанность – загадочное явление, а дистанцирование и разрыв – это больно, и этим многие пользуются для власти, мести и прочее, поэтому клуб по симпатии опасен, если нет обязательных правил поведения (например, куртуазия или моральный кодекс). Под образом евангельского брака Христа надо понимать в том числе и клуб по симпатии. Аскетика – предполагает именно клуб по симпатии. Аскетика, если это только телесное лишение, воздержание (пост) – дело непривлекательное. Ведь настоящей целью аскетики должна быть просто человеческая доброта, красота сердца. Эстетическое отношение к морали делает аскетику интересной, приятной и желанной. Человек в своей жизни просто выбирает определенный тип наслаждения, отказываясь от другого. Правда, есть такие аскеты, которые отвергают наслаждение вообще. Но не будем тратить время и здесь рассматривать лицемерную критику наслажденчества. Этой критикой полны постнические нравоучения, отвергающие радость на земле и обещающие ее на небе. Самый простой аргумент против них тот, что Бог всеблажен, и доброта приятна. Синтез клуба по симпатии и клуба по интересам мог бы быть в романтической эстетике ромбической культуры.
Современная масскультура развращает население, превращая его в массу несимпатичных одиночек. Реклама всегда обещает экклесию и счастье одиноким несимпатичным грешникам, уводя их ум от пути к настоящей экклесичности и счастью. Реклама при этом часто эксплуатирует эстетику самого ценного, дорогого, трудно достигаемого, а именно – человеческих отношений. Реклама убеждает в том, что надо купить, например, одежду, машину или другие вещи и тогда человек станет симпатичным, желанным, социально успешным. Но это обман. Человек тратит деньги и не получает. Ему кажется, что он одинок и несчастен от недостаточности денег, но это не так. Ведь те, кто еще богаче, еще более одиноки и еще более несчастны, т.к. они чаще всего – хронические жертвы социальной проституции. Сейчас происходит самая жестокая эксплуатация, которая даже Марксу с Лениным не снились. Эксплуатация человеческого несчастья, экклесической фрустрации и одиночества. Но симпатия и экклесическая любовь обретаются вовсе не тем, что усиленно предлагается рекламой. И телевидение этому не научит. Современный вариант неравенства всех завораживает. Все обмануты желанием попасть в элиту и не пускать в нее других. Но люди экзистенциально равны, не равны только имиджи. А имиджи сейчас практически никогда не соответствуют действительной личности. Имидж – это практически всегда, в большей или меньшей степени, но, тем не менее, лживая роль. Эта-то роль и впитывает в себя всю энергию. Наивысший успех – это духовный успех, а не социальный. И это имеет самое непосредственное отношение к счастью и здоровью.
Примеры долгожительства могут подтвердить нашу точку зрения. Вообще психологию долгожителей стоит изучить с точки зрения их моральных принципов. Первые христианские святые жили больше ста, а некоторые и намного больше. Это были долгожители. Древние библейские патриархи жили очень долго, по несколько сотен лет. Это свидетельствует о высоких моральных устоях первых людей-адамитов. Они жили родовой общиной числом в среднем около 70 человек (это число до сих пор считается священным). Имидж человека, наверное, сливался как бы в одно с его личностью, и целиком зависел от морального облика. Не так давно в Абхазии, знаменитой своими долгожителями, можно было наблюдать реликт родовой общности и в наше время. Практически каждый месяц, если не каждую неделю весь род собирался на свадьбах, похоронах и других торжествах. В Абхазии живут и другие национальности, они питаются той же пищей и дышат тем же воздухом, но они не долгожители, наверное, потому, что у них нет такого традиционно активного родственного общения, такой прочной родовой общины. Праздник, ритуалы, застолья, заздравные чаши и проч. – это главное занятие родственного клуба. Истоки этого древнейшего священнодействия – в родовой общности и в родственном общении. Грехи родителей выдергивали стержень из родовой общности, и покушение на продолжение рода лишают человека его родового достоинства. Известная формулировка: "юноша безупречной репутации из очень хорошей семьи" – гарантировала согласие на брак родителей невесты и, таким образом, продолжение рода. Достоинство жены, матери, отца, родовая честь – это все наиглавнейшие ценности родовой культуры. Выбирая путь родовой общности, человек выбирал вытекающий из этого пути культ родовой морали, но доброе имя в современном мире – хрупкая вещь.
Учась еще в институте, мы обратили внимание на то, что румяные и с виду здоровые юноши были из благополучных семей с активным родственным общением. А бледные, худосочные (но гордые и часто действительно талантливые) ребята оказывались из неблагополучных семей, лишенных родовых связей. Христос практически отменил родовую общность и ввел моральную общность вокруг Себя на основе Своих заповедей. При достижении моральной общественности, Он обещал не долгую, а вечную физическую жизнь, но именно при условии достижения нравственного идеала и экклесичности. Идеал общественности оказывается не только идеалом здоровья и счастья, но и бессмертием. Философское осмысление Евангелия должно быть непременно экзистенциальным. Человек сотворён для счастья – это аксиома. Вопрос только в том, как его добиться. Христос предлагает Свою "технику" (если упростить) достижения счастья – моральный максимализм, и обещает четыре вещи. Первое – неразрушимая, нерасторжимая экклесия, надежное экклесическое благополучие. Второе – блаженство (т.е. само счастье). Ведь Его нагорная проповедь – это заповеди именно блаженства. Третье – телесное бессмертие, которое имеет смысл только при условии блаженства, а блаженство имеет смысл только при условии идеальной экклесии. Моральный минимум (10 заповедей Моисея) гарантирует мирное "соседское" сосуществование. Моральный максимализм – это творческая направленность духа к моральному абсолюту, и гарантирует беспредельность дружбы и братской любви. И четвёртое обещание Христа – непосредственное экзистенциальное общение с Богом. На самом деле все эти четыре обещания взаимосвязаны. Но счастье, блаженство, бессмертие не должны быть целью. Целью должен быть моральный абсолют. Идея морального абсолюта, впервые за всю историю мира высказанная Христом ("Итак, будьте совершенны" Мф. 5. 48) – это нечто непонятое до сих пор даже самыми ревностными христианами, и философское осмысление этой идеи – задача, может быть, именно нашего времени, потому что именно современный экзистенциальный уровень философии делает это возможным. Цель первого пришествия Христа – призвать к нравственному совершенству, а цель второго – собрать вместе тех, кто на этот призыв откликнулся и реализовал в своей жизни.
Если выдернуть из христианства идею морального абсолюта, выраженную поэтичными и парадоксальными заповедями Христа, христианство ничем не будет отличаться от других вполне добрых и благопристойных религий. Наверное, это спорное утверждение, но здесь трудно спорить и полемизировать, т.к. заповеди Христа – это не закон, понятый юридически, а эстетика, настроение, склонность. Это идеал человеческого характера, который есть продукт эстетического творчества. Это нравственность в смысле того, что человеку именно нравится доброта, вследствие того, что он владеет своими нравами, влечениями, расположениями и, самое главное, своим эстетическим вкусом! Это именно желание добра, диктуемое собственным человеческим экзистенциальным центром, его личностью-точкой. Самая первая (и по времени и по важности) ересь всех без исключения христианских конфессий – это попытка понять заповеди Христа организационно-юридически. Юридическое, а заодно и бюрократическое, творчество святых отцов (каноны и каноничность) ничего общего не имеет с тем, к чему призывал Христос. Иначе бы Он Сам дал бы ещё более подробный, чем у Моисея, закон на все бесчисленные случаи жизни. Но обо всём этом Он, как бы устраняясь, кратко сказал: "отдавайте цезарю цезарево" (под цезарем здесь, по сути, имелся в виду верховный полицейский чин в империи), или "кто поставил Меня судить или делить вас?" (Лук.12.14). Кстати, Сам Он с подозрительным постоянством нарушал всевозможные правила, обычаи и порядки, всегда объясняя Свои нарушения с позиции доброты, совести и здравого смысла.
Когда Христос говорит: подставь щёку, вырви глаз, кто женится на разведённой – прелюбодействует, возненавидь отца и мать и т.п. – это всё поэтические образы, а не юридические нормы. Они должны привить вкус к красоте морального совершенства, и не требуют буквального исполнения любой ценой. Например, если понимать буквально, то пятидесятилетний вдовец должен жениться не иначе как, а только на девственнице. Или, простая вроде бы заповедь: "возлюби врагов", означающая, вне всякого сомнения, только то, чтобы человек вообще не имел врагов, может быть буквально понята так, что надо любить тех, кого именно ненавидишь. Ведь если не ненавидишь, то разве это враг? (Вот загвоздка-то!) Если же не желать, не любить эти заповеди, а только исполнять (что для начала вполне правильно), то в пределах разумного и по возможности надо исполнять всё. А выдёргивать отдельные высказывания Христа и превращать их в закон, забывая другие Его высказывания (на деле всегда самые важные, экзистенциальные и потому непонятные) – это экклесическое жульничество, приводящее к тому, что общество становится выгодным и удобным для определённого типа людей (по темпераменту, астрологии, соционике Аушры и т.д.). Вот портрет истинных христиан: нищие духом, плачущие, кроткие, алчущие и жаждущие правды, милостивые, чистые сердцем, изгнанные за правду… (Мф. 5.3) Легко понять, что это не каноны, законы, правила и проч. А именно вкус и настроение. Но, к сожалению, в подавляющем большинстве случаев человек не хозяин своим желаниям, эмоциональным состояниям и, что самое важное, своим эстетическим вкусам, т.е. своему созерцанию. В этом вся проблема.
Понятие морального абсолюта связано с парадоксальным понятием бесконечности, как, например, абсолютная гладкость шара. При бесконечном приближении или увеличении через микроскоп всегда обнаруживается гладкая, безупречно округлая поверхность идеальной шарообразности. А моральный абсолют предполагает парадоксальность невинного, личностного существования в бесконечном времени, т.е. в вечности. Искреннее увлечение изощреннейшим, утонченнейшим, изысканнейшим морализмом (намного превосходящим морализм Достоевского и Толстого, например) приблизит нас к восприятию самой идеи нравственного совершенства. Этот морализм – спиритуальный, духовный, экзистенциальный. Чтобы забраться на гору, надо сначала оценить ее высоту и свои возможности. Это поможет справиться с задачей. Но откуда же возьмутся силы взять такую непосильную высоту, как моральный абсолют? Сила появится, когда человек возьмется. И это не фантазия, но реальность. Еще только интерес к идее морального абсолюта уже открывает в человеке необычные способности души. Человек, например, легко начинает угадывать чужие мысли, читать судьбы просто по глазам. И, конечно же, обнаруживает в себе творческие таланты к ранее недоступным искусствам. А утонченная способность к творчеству совершенно необходима для творчества отношений.
Отношение к человеку – это, обычно, как бы самопроизвольное функционирование души, но идеал человеческих отношений – это высочайшее творчество, искусство, требующее высочайшего таланта к этому искусству. Это искусство будущего. Не творчество макета, как в живописи, литературе или кино, но творчество живого, творчество человеческой близости. И нравственное совершенство – не самоцель, но инструмент для творчества этой близости, экклесии с нулевой дистанцией. Обычное искусство – это тоже способ общения, т.е. оно может быть языком или инструментом общения. Но и само общение может быть искусством! Идеал общения – любовь, и тогда идеальное искусство должно стать любовью, а любовь искусством. Искусство как любовь – это живое искусство, а не сотворение макетов, и потому это идеальное искусство, оно должно быть свободно и бескорыстно. В этом суть философии живого искусства как искусства любви. Любовь предполагает строй, стиль, жанр самой жизни как искусства. В соответствии с этим и сама жизнь тоже может быть искусством. Собственно так оно уже и есть в какой-то мере. Осознанно или неосознанно, но люди творят себя, играют себя как роль, сочиняют сценарий своей судьбы, строят и разукрашивают декорации. И начинается обычно творчество такого рода с места обитания.
Животные испытывают свои скотские состояния: выброс в кровь адреналина и бежать, или догонять. Или гормональный взрыв и совокупление. У западной масс-культуры культ адреналина и тестерона – основной. То, что это примитив и низость, никого не смущает. Парни охмуряют девушек тем, что ведут их в опасные места, где заставляют испугаться, а потом защищают. Этого бывает достаточно, чтобы красиво уложить в койку. Кинематограф тоже эксплуатирует сильные ощущения. Но человек – не животное. Он способен на более высокие состояния. У человека два богатства: первое – интеллект, его глубина и всеобъемлющая ширина. А также чувства, эмоции. Правда, не каждому человеку дано пережить чувство высокое, светлое, чистое, святое. Ну, или хотя бы чувство изысканное, элегантное, утонченное. Однако главной ценностью и настоящим человеческим достоинством является не просто хорошее чувство, но постоянство этого чувства. Верное, надежное сердце, постоянство любви – вот идеал истинного аристократизма. И это не дается от природы само по себе, но достигается воспитанием, обучением, пестованием и достижением виртуозного уровня (как и в любом искусстве). И тогда, сколько ни обращаешься к человеку, всегда видишь, что он волнуется все тем же высоким чувством. Великодушие, благородство, доброта требуют сначала научения, а потом начинается свое собственное уникальное творчество. Уникальное, потому что у каждого человека своя неповторимая доброта и свое неповторимое благородство. Это есть то, что делает человека человеком, а не животным. Это и есть истинная человечность и, в конце концов, божественность, богоподобие.
Ну вот, наверное, со счастьем в этой главе мы разобрались. Главный и самый важный закон мира – синергия, и мир в котором действует этот закон просто сотворен для счастья. Краткое определение счастья, например, может быть такое: счастье – это компания людей, которые достаточно умны, чтобы тебя понять, достаточно проницательны, чтобы видеть тебя насквозь, и достаточно добры, чтобы тебя полюбить. Счастье даже по самой своей этимологии (со-часть, соучастье) невозможно в одиночку. Причем, чем больше счастье у всех, тем больше счастья у каждого. Все эти размышления о счастье, как об идеальной экклесии, а размышления об экклесии, как об идеальном творчестве, т.е., в конечном счете, как об идеальной культуре (в культурологическом смысле), конечно же подтверждаются пророчествами Священного Писания, в том числе Апокалипсиса.
Культура
Когда Господь насадил рай в Эдеме на востоке, в котором поместил созданного Им человека, то этот рай был не просто садом плодовых деревьев, но "рай сладости", т.е. чем-то он был особенно хорош. Можно предположить, что сладость рая имела две причины. Первая и, разумеется, главная – это то, что там присутствовал Бог (ср. Иез. 48. 35.), а вторая – это красота. Рай был сладостен потому, что был прекрасен. Эстетика рая… Какова она? Сколько картин написано на эту тему! Живописцам приходится иногда пройти многие километры, что бы найти красивый пейзаж. Но творчество человека по божьему замыслу не в том, чтобы рисовать на холсте или бумаге. А в том, чтобы преображать саму землю. "И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать и хранить его" (Быт. 2. 15.). Возделывать и хранить – вот где начинается культура, вот творческое задание человеку! Господь насадил рай и предложил человеку делать то же самое. В идеале это значит всю землю сделать раем сладости. Как ошиблось человечество! Ведь оно пошло совсем другим путём, но с другой стороны, это задание стало и невозможно, ведь Адам с Евой после грехопадения стали смотреть на всё другими глазами, и новое эстетическое зрение уже упразднило первую заповедь. Эту заповедь, говоря современным языком, можно назвать ландшафтной архитектурой. По сути, это художество, но только живыми красками на живом холсте, и если иметь в виду именно эстетику рая, то представить её себе можно только чудом, и ландшафтным архитектором здесь может быть только пророк.
Итог любого творчества в сегодняшней культуре – мёртвый продукт. Во-первых, потому что творчество чаще всего заключается в изображении, т.е. в моделировании макета из другого мертвого материала. Во-вторых, это творчество всегда грустно и печально даже в самых радостных вариантах, т.к. оно не целостно. Это всегда выявление частичного смысла, кадровое зрение, всегда только часть, а значит рассечение реальности, нецелостное, нецеломудренное восприятие вселенной и человека. Мирская культура капитально нецеломудренна, т.к. она отсекает в сознании человека творение от Творца, в то время как надо было бы стремиться воссоединению, к обожению твари.
"Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привёл их к человеку, чтобы видеть, как он назовёт их, и чтобы как наречёт человек всякую душу живую, так и было имя ей" (Быт. 2. 19.). Здесь мы видим рождение нового языка, т.е. названий и имён. Это рождение было, конечно же, вдохновенным, синергичным, т.е. сотворческим. "Чтобы видеть" – здесь не что иное, как созерцание. Появление такого языка ведёт нас к ещё более высокому пониманию культуры – её объектом становится сам человек, т.к. личные отношения становятся главным в творчестве людей, ведь для чего и нужен язык! И результатом синергического творчества должно было быть ещё более содержательное и глубокое богообщение и всё более возрастающее богоподобие.



