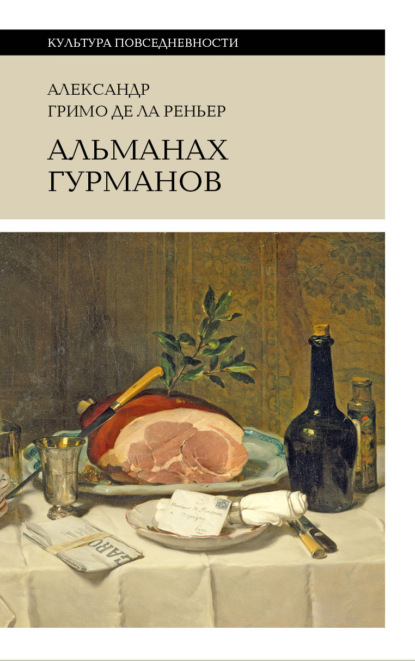
Полная версия:
Альманах гурманов
70
См. наст. изд., с. 551–552 и примеч. 587.
71
Ср. замечание Паскаля Ори: «Не будет преувеличением сказать, что Гримо на свой лад не меньше, чем граф де Сен-Симон или Алексис де Токвиль, способствовал формированию современной французской культуры – культуры, которая выросла разом и из тоски по старому порядку вещей, созданному дворянами, и из осознания неизбежности порядка нового» (Ory. Р. 52–53). Об утопической составляющей творчества Гримо см. также: Spang R.L. The Invention of the Restaurant. Paris and Modern Gastronomic Culture. Cambridge, Massachusetts, and London, 2000. P. 146–169.
72
Между прочим, эта тяга Гримо к описанию целостного мира отражается и в том, как он связывает единой нитью все восемь томов АГ: мало того, что он проводит через все тома одну метафору (сравнение разных частей трапезы с разными частями дома), он еще и представляет эстампы на фронтисписах как эпизоды одного непрерывного действия (сейчас бы сказали, делает из них что-то вроде комикса); описание картинки к АГ–3, например, гласит: «Эстамп изображает то мгновение, когда знатоки приступают к паштету, который мы видели еще на эстампе, открывающем второй том». Гримо, конечно, не Бальзак, но свою «Гастрономическую комедию» он создать попытался.
73
Последователи Гримо не шли так далеко и не утверждали, что в мире нет ничего, кроме застолья, а всего лишь трактовали застолье как способ укрыться «от превратностей общественной жизни и от развращенности века сего» (Gastronome français, 1828. Р. VII).
74
Не случайно он прилагает к «Учебнику для Амфитрионов» резюме всех правил учтивости, чтобы их можно было «заучить наизусть», как дети заучивают нравоучительные концовки из «Плутарха для юношества» (УА, 328).
75
См.: АГ–5, 284. Впрочем, обличая булочников и мясников, обвешивающих клиентов, он признается, что желал бы привлечь к их злоупотреблениям внимание самой обычной, не гурманской полиции.
76
См.: Onfray M. Le ventre des philosophes. Critique de la raison gourmande. P., 1989. Р. 105–127; Bouchet T. Tables d’Harmonie. Gourmandise, Gastronomie et Gastrosophie chez Charles Fourier // Consuming culture: the Arts оf the French table. Melbourne, 2004. P. 42–51.
77
См., например, «Энциклопедию питания» русского последователя Гримо Д.В. Каншина, который совершенно всерьез, без утопических мечтаний рассуждает о «юриспруденции питания» и требует от государства учреждения «новых законов» и «новых учреждений с потребными им органами, которые бы все вместе ограждали наши желудки от тех ежедневных многократных посягательств на них, которые существуют теперь», для чего необходимо анализировать продукты в специальной муниципальной лаборатории и пр., а также учредить (по-видимому, тоже на государственном уровне), по образцу Дегустационного суда (который Каншин называет «жюри присяжных пробовальщиков»), Академию питания (Каншин. С. 1, 340–394).
78
Desnoiresterrеs. P. 275–278, 328; Rival. Р. 229–230, 203; Grand-Carteret. Р. 499.
79
Легенды самого вздорного содержания сопровождали Гримо, как мы уже видели, до самой смерти и даже после нее; так, если верить этим легендам, Сеньория была настоящим замком Синей Бороды, а хозяин ее подвергал своих гостей самым разнообразным и порой довольно жестоким испытаниям; убедительное опровержение этих выдумок см. в: Desnoiresterres. P. 244–251.
80
Merdiana, ou Manuel des chieurs, suite de l’Almanach des gourmands. Автором ее был, по-видимому, водевилист Альфонс Мартенвиль (1776–1830).
81
Almanach perpétuel des pauvres diables; книгу открывало посвящение литератору XVIII в. Бакюляру д’Арно, известному своей прижимистостью; под посвящением стоит подпись «Анти-Гримо»; в книге, среди прочего, пародируется «Гастрономическая прогулка» из АГ–1, только «голодранцы» прогуливаются не по самым богатым и блестящим кварталам Парижа, а по самым бедным и непрезентабельным.
82
Annales de l’inanition, pour servir de pendant à l’Almanach des gourmands.
83
Le Journal des Gourmands et des Belles.
84
Le Gastronome français.
85
Из Перигора доставлялись самые замечательные трюфели.
86
Nouvel almanach des gourmands, servant de guide dans les moyens de faire excellente chère. Dédié au Ventre, par A.B. de Périgord.
87
Code gourmand, manuel complet de gastronomie, contenant les lois… de l’art de bien vivre.
88
Almanach perpétuel des gourmands, contenant le code gourmand, et des applications, règles et méditations de gastronomie transcendante.
89
Monselet Ch. Les oubliés et les dédaignés: figures littéraires de la fin du XVIIIe siècle. Р., 1857. Т. 2. Р. 173–292. Монселе касался гастрономической темы не только в «Альманахе гурманов», но и в некоторых других своих сочинениях, таких как «Двойной гурманский альманах» (1866), «Гастрономия, застольные рассказы» (1874), «Гурманские письма: учебник для любителей застолья» (1877) и др.
90
Lacroix P. (Bibliophile Jacob). Histoire des Mystificateurs et Mystifiés. Bruxelles et Leipzig, 1856. T. 1. Р. 93–150.
91
Брийа-Саварен не упоминает «Альманах Гурманов», а между тем известно доподлинно, что он его читал; Нед Риваль цитирует письмо от 1804 г., в котором будущий автор «Физиологии вкуса» сообщает приятелю, что приобрел «Альманах Гурманов» – «книгу редкостных достоинств, как по стилю, так и по содержанию» (цит. по: Rival. Р. 236). Брийа-Саварена это умолчание не украшает; Гримо же, со своей стороны, не держал на него зла и в письмах отзывался о нем в самых восторженных тонах: «Он философ, филолог и метафизик, а я по сравнению с ним просто поваренок» (цит. по: Desnoiresterres. Р. 286). Перечень (впрочем, не исчерпывающий) афоризмов Брийа-Саварена, восходящих, по всей вероятности, к Гримо де Ла Реньеру, см. в: Garvak M. Grimod de La Reynière’s Almanach des Gourmands // French Food. On the table, on the page, and in French culture. N.-Y., L., 2001. P. 60. Совпадают не только отдельные утверждения, но и общее понимание гурманства как свойства положительного и достойного похвал; в XVIII в. гурманство понимали совсем иначе, как привычку есть жадно и неумеренно (см. подробнее в АГ–3 главу «О Гурманах и гурманстве»), и переменой отношения к этому качеству французское общество обязано, вне всякого сомнения, автору «Альманаха Гурманов». Между тем читатель Брийа-Саварена пребывает в уверенности, что первым пересмотрел значение слова «гурманство» не кто иной, как автор «Физиологии вкуса» (см. Размышление XI).
92
И это только отдельные издания, а ведь были еще сборники-антологии, в кoторых, между прочим, избранные отрывки из Гримо и Брийа-Саварена порой оказывались соседями; см., например: Les Classiques de la table à l’usage des praticiens et des gens du monde. P., 1843.
93
Хотя в дальнейшем оно употреблялось в несколько ином смысле; Брийа-Саварен, последователь философов-сенсуалистов, в самом деле интересуется физиологией человеческого вкуса, а те «физиологии», которые во множестве выходили во Франции в 1830–1840-е годы,– это просто сборники нравоописательных очерков, посвященных определенной профессии, определенному понятию или определенному человеческому типу; впрочем, эти «физиологии» сохраняли память о своем научном прошлом и потому писались в псевдонаучном тоне, с параграфами и классификациями.
94
Этот феномен позже разъяснил Бальзак, писавший в своей «Монографии о парижской прессе» (1843), в главе о «Ничеговеде, или Популяризаторе»: «Слушая человека гениального, буржуа был бы вынужден размышлять, быть может, принялся бы сам писать книгу; меж тем в Ничеговеде он видит равного, он все понимает и восхищается беспрестанно, читая 600 страниц ин-октаво» (Бальзак О. де. Изнанка современной истории, М., 2000. С. 368).
95
Baudelaire Ch. Oeuvres complètes. P., 1953. T. 3. P. 200. Ср. замечание современного французского исследователя гастрономии, утверждающего, что Гримо описывал искусство трапезы, каким оно сложилось у утонченных гурманов Старого порядка, а Брийа-Саварен – искусство еды, каким понимали его буржуа XIX в. (Pitt J.-R. Gastronomie française. Histoire et géographie d’une passion. P., 1991. P. 185).
1
Ср. в «Письмах русского путешественника»: «Молодой человек, приехавший из Стразбурга, подробно рассказывал нам, каким образом за несколько дней пред сим бунтовала тамошняя чернь; но по-французски говорил он так худо, что трудно было от смеха удержаться,– например; ильз-он дешире ла мезон де виль; ильз-он бриле (brulé) ле докиман (les documens); иль вуле бандр (pendre) ле машистра (magistrats)» (Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 89).
2
Толстой Л.Н. Собр. соч. В 22 т. М., 1981. Т. 8. С. 43–44. Заметим, что консервы в этом случае – это вовсе не привычные нам жестяные банки, а засахаренные фрукты (см. примеч. 497), что и подтверждается переводом татарина: маседуан де фрюи, т. е. фруктовая смесь. Следует заметить также, что эффект, создаваемый кириллическим написанием французских слов, совершенно непередаваем по-французски; во всех французских переводах «Анны Карениной», которые мне удалось просмотреть, татарин повторяет заказ правильными французскими словами, отчего разница между ним и Степаном Аркадьевичем совершенно стирается.
3
См.: Лотман, Погосян. С. 116, 114, 135.
4
См. главу «О подачах блюд» в АГ–3, главы, посвященные вводным, дополнительным, преддесертным и прочим блюдам в АГ–4, и примеч. 374. Кроме того, довольно полное представление о структуре классической французской трапезы можно получить из книг: Мишель; Ревель.
1
Об альманахах см. примеч. 7. Обычно в названии альманаха упоминались те предметы или люди, которые перечислены на его страницах; даже если альманах был пародийный, его авторы не отступали от этого правила; так, известный острослов Ривароль выпустил в 1788 г. «Маленький альманах великих людей» – список дутых репутаций, а атеист Сильвен Марешаль в том же году опубликовал «Альманах порядочных людей» – недлинные святцы, где место святых занимали философы Нового времени и римские республиканцы. В рамках этой традиции от книги под названием «Альманах Гурманов» в самом деле следовало ожидать перечисления знаменитых гурманов – Гримо же фактически сочинил «Альманах для Гурманов».
2
Имеются в виду крестьяне, которые разбогатели во время Революции, приобретя задешево собственность дворян или Церкви (так называемые «национальные имущества»).
3
Современник, приезжий из Германии, с ужасом цитирует эту фразу в своем дневнике, называя ее «циничной», но признается, что, глядя на парижан, трудно представить, какие сокровища могут они предпочесть хорошему обеду (см.: Reichardt J.F. Un hiver à Paris sous le Consulаt. Р., 2003. Р. 176–177).
4
Гримо многократно варьировал эту мысль; см., например: «Осмелимся утверждать, что нёбо, которое, как всем известно, является самым главным органом вкуса, стареет куда медленнее, чем сердце. После шестидесяти люди редко влюбляются со страстью; если они питают интерес к противоположному полу, то не от любви, а от чувственности; зато для гурманства эта пора – настоящий золотой век» (АГ–5, 250).
5
Амфитрион – герой одноименных комедий Плавта и Мольера, хлебосольный хозяин; как имя нарицательное это слово употреблялось во Франции по крайней мере с середины XVIII в. В мире Гримо роль хозяина, Амфитриона так важна, что я сохраняю тщательно соблюдаемое автором АГ написание этого слова (как и слова Гурман) с прописной буквы. В русском переводе 1809 г. Амфитрион именуется «хлебосолом»; однако В.С. Филимонов в поэме «Обед» (1837), посвященной сходной тематике, уже свободно оперирует этим наименованием.
6
Мольер. Скупой. Д. 3, сц. 5.
7
Изначально альманахами, расцвет которых во Франции приходится на XVI в., называли календари, содержавшие сведения о праздниках и астрологические предсказания. Постепенно к ним стали прибавляться разного рода практические советы морального и исторического, медицинского и хозяйственного характера, в том числе рекомендации, что именно нужно заготавливать и употреблять в пищу в том или ином месяце (см.: Mandrou R. De la culture populaire aux XVIIe et XVIIIe siècles. P., 1975. P. 64–72; Bollème G. Les almanachs populaires aux XVIIe et XVIIIe siècles. P., 1969. P. 78–79). Параллельно с альманахами для простонародья в XVIII в. стали во множестве выпускаться альманахи для высших слоев общества – сборники стихов и сказочек с прибавлением календаря, а то и без него. Впрочем, эти альманахи хранили память о первоначальном календарном происхождении: они выходили из печати ежегодно под новый год (отсюда название одной из разновидностей альманахов – Etrennes, то есть «Новогодний подарок»). На титульном листе альманаха выставлялась дата наступающего года, и в продажу он поступал накануне 1 января (см.: АГ–3, VI). В России слово almanach порой и переводилось как календарь (см., например, трехъязычный русский/французский/немецкий «Волшебный фонарь, или Зрелище санктпетербургских расхожих продавцов…». СПб., 1817. С. 7–8). Существовали альманахи большого формата, роскошно иллюстрированные и переплетенные, предназначенные для украшения гостиных, но вообще начиная с середины XVIII в. для альманахов был характерен маленький, «карманный» формат – в 24-ю и даже в 32-ю долю листа (см.: Grand-Carteret). АГ не был чемпионом по миниатюрности: его формат составлял 18-ю долю листа.
8
Под новым календарем понимается революционный календарь, введенный Конвентом 5 октября 1793 г. и официально отмененный Наполеоном только с 1 января 1806 г. (на титульном листе третьего издания АГ–1, как и на всех книгах этого периода, обозначены две даты, старая и новая: Год XII и 1804); революционный календарь подразумевал, как известно, не только новое летоисчисление, но и новое деление года на месяцы: год начинался месяцем вандемьером (сентябрь – октябрь) и кончался месяцем фрюктидором (август – сентябрь).
9
Ныне улица Буасси д’Англа. Гримо указывает адрес особняка, который его отец, Лоран Гримо де Ла Реньер (о нем и о деде автора см. подробнее во вступительной статье, с. 10–11), выстроил на купленном в 1769 г. участке земли, примыкавшем к площади Людовика XV – нынешней площади Согласия (в ту пору этот район был окраиной города, почти загородной местностью и лишь к середине XIX в. превратился в символ роскошного Парижа). После смерти Лорана наследницей была утверждена его вдова, мать нашего Гримо, а сам он получил лишь право жить в особняке на Елисейских Полях, владельцем которого сделался только в 1815 г., после смерти матери. В 1819 г. Гримо продал особняк некоему де Лабушеру (который четырьмя годами позже перепродал его государству), но сохранил за собой пожизненное право проживать в нескольких комнатах; в течение XIX в. в бывшем особняке Гримо размещались поочередно различные посольства (в том числе, в 1828–1839 гг., российское) и клубы, а в 1928 г. его приобрело правительство США; старый особняк был разрушен, и на его месте выстроено американское посольство, которое можно видеть на углу улицы Буасси д’Англа и Елисейских Полей и сегодня (см.: Rival. Р. 22, 26–27, 216).
10
Этим предупреждением сопровождался каждый выпуск альманаха, причем в АГ–2 Гримо специально указывал: «Требование об оплате почтовых услуг следует соблюдать неукоснительно; недавно автор был вынужден отвергнуть паштеты с гусиной печенкой, прибывшие из Кольмара, исключительно потому, что доставка не была оплачена». В АГ–5 Гримо пересказывает сообщенный ему слух, согласно которому компания «Королевская почта» на улице Богоматери Побед, где среди администраторов немало гурманов, согласна не брать почтового сбора с посылок, направляемых автору «Альманаха Гурманов», при условии уплаты натурой (почтовые служащие якобы претендовали на десятую часть от каждой посылки). Однако уже в АГ–6 Гримо констатирует, что слухи оказались ложными: корысть взяла верх над гурманством. Вообще на страницах АГ Гримо нередко объясняется с представителями почтового ведомства. Так, в АГ–5 он описывает недостойное поведение посыльного, который попытался взять с него деньги за уже оплаченный отправителем, господином Ришаром из города Аббевиля, пакет, содержавший паштет с осетром, когда же Гримо не стал ни платить, ни расписываться в получении, явился на следующий день и уже не требовал ничего, кроме комиссионных себе самому, но при этом по злобе расплющил паштет. Гримо указывает администрации почтовой конторы на недопустимость подобного поведения: ведь ни на какие комиссионные почтальон права не имеет; впрочем, другие служащие поступают еще хуже: забирают себе провизию, несмотря на то что доставка ее оплачена отправителем, и продают на сторону (АГ–5, 14–15)! О претензиях Гримо к почтовой службе см. также примеч. 304.
11
В замысле Гримо распределить рассказ о съестном по месяцам скрестились две традиции: традиция альманахов вообще и традиция календарного рассказа именно о еде; о бытовании этой традиции в католической Италии см.: Костюкович Е. Еда. Итальянское счастье. М., 2006. С. 321–348.
12
См. примеч. 8.
13
Новый год во Франции стал начинаться 1 января с 1565 г. согласно Руссийонскому эдикту, изданному королем Карлом IX 9 августа 1564 г.
14
Примечание русского переводчика 1809 г.: «Во Франции делают о Святках пирог, в который кладут между начинкою один боб и кому оный попадется, того провозглашают Королем; он должен избрать себе Королеву и назначить день для принятия своих Вассалов, которые, угощая по силе и возможности, затевают, с позволения его, разные игры и забавы» (Прихотник. С. 1–2). Католики отмечают праздник Богоявления 6 января; в этот же день празднуется поклонение волхвов – по-французски rois mages, то есть дословно «короли-маги», с чем и связан обычай избирать в этот день Бобового короля.
15
Примечание русского переводчика 1809 г.: «Во всей Европе дарятся не в именины, но в Новый год. Что город, то норов» (Прихотник. С. 2).
16
Французское слово pâté переводится на русский и как пирог, и как паштет; верны оба варианта, поскольку в большинстве случаях паштет времен Гримо был запечен в тесте и потому мог именоваться также и пирогом (ср. у Крылова в комедии «Пирог» пирог с куропатками или пушкинский «Страсбурга пирог нетленный» с начинкой из гусиной печенки). «Новый словотолкователь» Н.М. Яновского в 1806 г. определяет «пастет или паштет» как «род хлебенного, приготовляемого с рыбою или с мясом, и имеющего многоразличные названия, смотря по приправам, крошевам, приуготовлению мяс, тест и проч.» (Яновский. Т. 3. С. 238–239). Поэтому возможно было говорить и писать не только «паштет из чего-то», но и «паштет с чем-то». Знатоки могли по количеству и качеству начинки определить, настоящий перед ними продукт или подделка; рецепт простой: если под коркой обнаруживаются огромные пустоты, значит, паштет «неправильный» (АГ–8, 35).
17
Улица Ломбардцев славилась многочисленными кондитерскими лавками (см. ниже в АГ–1 одноименную главу). На улице Сент-Оноре располагались лавки мясные и бакалейные (также описанные в «Гастрономическом путеводителе»).
18
О слове «артист» см. примеч. 530.
19
Драже (орехи или сухофрукты в сахарно-медовой оболочке) широко распространялись на всех семейных празднествах, в том числе на крестинах; крестный отец был обязан одарить ими кюре, семью новорожденного, повитуху и проч.
20
Примечание русского переводчика 1809 г.: «Масленица их, или карнавал начинается с Крещения и кончается Вторником первой недели Великого поста» (Прихотник. С. 5).
21
Примечание русского переводчика 1809 г.: «Выставленные на воздух – на несколько дней – для мягкости» (Прихотник. С. 5).
22
Уксусник-дистиллятор Антуан-Клод Май открыл лавку в Париже в 1747 г., а в 1769 г. был назначен уксусником-дистиллятором короля Франции; параллельно с уксусами он изобретал многочисленные рецепты горчицы; см. о нем ниже в «Гастрономическом путеводителе». Горчица Майя выпускается и сегодня (торговая марка принадлежит группе Unilever). В 1789 г. Май взял себе в компаньоны Андре-Арну Аклока (см. о нем примеч. 298), а в 1800 г. уступил ему все предприятие. Умер Май в 1803 г. (см. ниже в АГ–2 главу «О горчице и сиропах…», 324).
23
Вареная говядина (bouilli) имела репутацию блюда скромного, пищи бедняков – в отличие от аристократического мяса, жаренного на вертеле. В «Картине Парижа» (гл. LXVII «Центральный рынок») Л.-С. Мерсье описывает рацион парижских бедняков: «На обед суп и вареное мясо; вечером говядина с петрушкой или “модная говядина” […] ни рыбы, ни овощей, потому что и то, и другое слишком дорого: вот что едят обыкновенно три четверти жителей этого города». О «модной говядине» см. примеч. 56.
24
По-французски этот способ называется la braise; в XIX в. в России употреблялся перевод «брез» или «бреза» (см., например: Одоевский. С. 321; Лотман, Погосян. С. 184), но мы, чтобы не умножать число варваризмов, прибегаем к описательному переводу. В другом месте, описывая этот способ, при котором мясо преет среди «матрасов» из овощей и душистых трав и пропитывается их ароматами, Гримо прибегает к сравнению: «Так человек посредственный, пребывая постоянно в обществе людей острого ума, делается умнее и любезнее. Скажи мне, с кем ты встречаешься, и я скажу тебе, кто ты такой,– вот в двух словах секрет этого способа приготовления мяса» (АГ–6, 136).
25
В 1806 г. слово «соус» еще ощущалось в России как новое; Яновский включает его в «Новый словотолкователь» с пояснением: «Соус – поливка, жидкая приправа, густоватая жидкость, составляемая из разных смесей мяс, в которую кладется соль и пряные коренья, дабы придать ей лучший вкус» (Яновский. Т. 3. С. 707).
26
О Бордене см. ниже в АГ–1, с. 242–243.
27
Выражением «вводные блюда» мы переводим слово еntrées, которое значило в эпоху Гримо не то, что в современном французском языке, где им обозначаются блюда, близкие скорее к нашим закускам. Другой смысл имело двести лет назад и слово hors d’oeuvre, которое современный франко-русский словарь переводит как «закуска». К hors-d’oeuvre едоки обращались во времена Гримо не только и не столько перед едой, сколько вместе с другими блюдами или между ними, поэтому в нашем переводе они именуются «дополнительными блюдами». Подробнее о структуре тогдашнего обеда см. главу «О подачах блюд» в АГ–3, а о вводных и дополнительных блюдах – одноименные главы в АГ–4.
28
«Рагу – особливый способ приготовления различных веществ, коими питаемся; род кушанья, возбуждающего охоту к еде. Вообще же под сим словом разумеется смесь каких-либо отборных или лакомых веществ, каковы суть: телячье сладкое мясо, петушьи гребни, печенки налимов, трюфели и проч., отваренные или маринованные способом, возвышающим их вкус, а потом проваренные с разными приправами в каком-нибудь соке, извлеченном из мяс и других веществ. Рагу бывают различные, как то: рагу из баранины, рагу огуречное, рагу ветчинное, рагу гороховое, рагу грибовое, рагу раковое, трюфельное, устричное, капустное» (Яновский. Т. 3. С. 498). В Энциклопедии Дидро и Даламбера рагу определялось как «соус или приправа для раздражения и возбуждения притупившегося или потерянного аппетита»; чем более замысловатым было такое рагу, тем более, с точки зрения моралистов (каковыми применительно к гастрономии были авторы Энциклопедии), оно отклонялось от благотворной умеренности и тем более было достойно осуждения (см.: Bonnet-Annales. Р. 893). В самом широком смысле словом «рагу» обозначалось любое блюдо, в основе которого лежит смесь разных ингредиентов.

