
Полная версия:
Серенада для Нади. Забытая трагедия Второй мировой
Но поскольку я не пыталась обратить подобные ситуации в свою пользу, то в очередной раз страдала, живя в обществе, принадлежащем одновременно и западной, и ближневосточной культуре. А точнее, в обществе, которое не относилось ни к одной, ни к другой…
Сославшись на дела, я оставила Сулеймана и села за стол. Он же развернулся и вышел, прихватив с собой свою скрытую злобу.
Я начала быстро просматривать свежие газетные статьи. С этого начиналось каждое мое утро: найти новости, связанные с университетом и, в особенности, с ректором, выбрать представляющие интерес и собрать их в папку для ректора.
В газетах были две маленькие заметки о профессоре Вагнере. Сообщалось, что сегодня после обеда он выступит в университете с лекцией.
* * *Стюардесса почти шепотом спрашивает, нужно ли мне что-нибудь, и я поднимаю голову от ноутбука. У нее в руках мой пустой стакан, она смотрит на меня, слегка улыбаясь, и ждет ответа. Я даже не заметила, как эта высокая блондинка в синем костюме подошла и забрала мой стакан. На этот раз она ведет себя и разговаривает еще вежливее.
Я благодарю и говорю, что мне больше ничего не нужно. Пить портвейн я больше не могу. Да и ноги начали затекать: надо прерваться, встать и походить, сходить в туалет, а потом выпить воды.
2
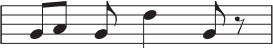
Когда я вышла из университета, дождь уже прекратился, на дорогах были лужи. Небо по-прежнему было затянуто тучами, но время от времени солнце пронзало их, словно копьем, и било по куполам мечетей, корабельным трубам, крыльям ныряющих в море чаек.
Подъехав к отелю, я сразу с волнением оглянулась, нет ли поблизости белого «рено». Его я не увидела, однако на душе все равно было неспокойно. Может быть, они припарковались подальше или подъедут позже.
Я подошла на ресепшн и спросила о профессоре. Молодой сотрудник развернулся к шкафу с ключами:
– Ключ он оставил. Я не уверен, но, кажется, мужчина вышел.
Было без пяти одиннадцать. Должно быть, Максимилиан встал рано и пошел прогуляться, подумала я и села ждать его в лобби. Там пожилые муж с женой, в которых я узнала американцев, разложили перед собой карту Стамбула и пытались наметить маршрут.
Через несколько минут вошел профессор. Он выглядел бодро и держался прямо. От вчерашней усталости не осталось и следа, Вагнер выглядел отдохнувшим. Под расстегнутым черным пальто на нем был надет серый фланелевый пиджак, а на шее повязан светло-голубой галстук. Он поприветствовал меня, снова сняв шляпу. Я улыбнулась, давая понять, что этот жест мне очень понравился, и поздоровалась в ответ.
– Вы долго меня ждете? – голос у профессора звучал живее.
– Нет, только что пришла. Еще и одиннадцати нет.
– Я немного прошелся после завтрака, – сказал он, словно оправдываясь. – Ведь эти места мне знакомы. Но Пера[17] изменилась, стала совсем другой, я с трудом узнаю́.
По сравнению со вчерашним днем он был более разговорчив.
– Она даже при мне изменилась, а в ваши времена кто знает, что здесь было.
– Помню, улица Истикляль была самым модным местом Стамбула, но, честно говоря… Сейчас словно развлекательный центр.
– Это вы еще мягко выразились. Говорите сразу: «испортилась», я не обижусь.
– Нет, я не это имел в виду. Города меняются, меняются районы, люди. Я достаточно повидал в жизни, чтобы это понимать.
– Но деградация…
– Мы это слово обычно не употребляем. Кто решает, что это деградация, на каком основании? Это все относительно.
Я не стала возражать. Лучше было не спорить, а сказать еще пару слов и закрыть эту тему.
– Вы вышли на Истикляль через улицу Асмалымесджит?
– Да.
– Ее благоустроили, открыли кафе, бары, вы видели.
– Видел, очень мило.
Я увидела, что, прежде чем сесть в машину, профессор дал на чай Сулейману, державшему для него дверь. От денег тот сразу подобрел, рассыпался в благодарностях.
Когда мы выехали на дорогу, Вагнер стал внимательно смотреть в окно, словно не желая ничего пропустить. Он и вчера не выглядел изможденным, но видя его сегодняшнее состояние, я поняла, что вчера старик был очень уставшим.
Он с восхищением смотрел на город. Когда мы выезжали на Галатский мост, он указал мне на мечеть Сулеймание, возвышавшуюся во всем великолепии на противоположном холме.
– Вот! – он заговорил громко и с волнением. – Потрясающее строение. Это не просто здание, у него есть душа. Я иногда приходил посидеть там во дворе, обрести покой.
Мне показалось странным, что американский немец приходил искать покоя в мечеть. Но я воздержалась от комментариев и ничего не спросила.
В глазах этого пожилого мужчины было детское любопытство. Он смотрел вокруг внимательно, прямо-таки тревожно: на ходящие туда-сюда корабли, на торговцев балык-экмеком[18] в маленьких лодочках, на толпу, идущую по Галатскому мосту, на рыбаков, Золотой Рог, голубей перед мечетью Йени-Джами…
Не отрываясь от окна, Вагнер задумчиво произнес:
– Стамбул словно неверная возлюбленная.
Я почувствовала, что за этими словами кроется глубокая боль, но ничего не сказала. Глядя на город, он говорил как будто не со мной, а с самим собой. Немного помолчав, профессор добавил:
– Он тебе изменяет, а ты все продолжаешь его любить.
На этот раз я спросила:
– Стамбул и вам изменил?
Он не ответил и продолжил смотреть из окна. Потом сказал:
– Здесь очень, очень красиво.
Должно быть, он сменил тему:
– Византия, Османская империя, дворцы, мечети… Как в сказке. Как бы сказать… Пряный город.
– Но это туристический Стамбул, профессор. Мой Стамбул совсем другой. У меня нет времени смотреть на эти красоты.
– Не забывайте, я тоже не был здесь туристом. Два года проработал.
– Но времена были другие. Жизнь была проще.
Он отвлекся и повернулся ко мне с горькой улыбкой:
– Во все времена бывают свои трудности, но ничто не сравнится с военными годами. Надеюсь, вы никогда не увидите войну.
– Не дай Бог.
– Не дай Бог, – повторил он, улыбнувшись.
Я заметила, что Вагнер периодически оборачивался назад. Может быть, и ему казалось, что за нами следят? Вернее, что-то заставило его так думать? Я тоже оглянулась, но, кроме множества машин, ничего не увидела.
– Если у нас есть время, я бы хотел выйти на пару минут, – сказал он.
Даже если бы времени не было, я бы все равно не могла ему отказать.
Выйдя из машины, профессор осмотрел исторические университетские ворота и пожарную башню османских времен.
– Прекрасно. Сейчас время словно остановилось.
Он говорил относительно тихо, но эмоционально.
Я тоже посмотрела на строения, как будто в первый раз. Ворота университета в самом деле производили впечатление, от архитектурных деталей и золоченых надписей захватывало дух. Я давно не смотрела на здешние места таким взглядом, такими глазами.
Сколько же лет я не рассказывала о районе Беязыт. Некоторые относили возникновение здесь университета к XIV веку, считая его предшественниками находящиеся на этом холме византийские училища. Другие ученые называли годом основания 1453-й, непосредственно после захвата города турками. Было известно, что султан Мехмед Завоеватель сразу основал здесь учебное заведение.
– Вы ранее говорили о войне, – заметила я. – В этом здании некоторое время находилось военное министерство Османской империи.
– Эх, университеты и правда мало чем отличаются от поля битвы.
Профессор хотел немного пройтись, поэтому я отослала Сулеймана, и мы вошли через ворота. Пройдя большой сад, мы направились к зданию ректората. В саду были сотни студентов – молодых людей и девушек. Вагнер неторопливо шел среди оживленной толпы. Как и по дороге, сейчас он тоже внимательно глядел по сторонам.
– Почему на входе стояла полиция?
– Они уже много лет охраняют университеты от учащихся.
Мой ответ еще больше озадачил профессора. Не время для таких ироничных, язвительных, многозначительных рассуждений. Надо было не морочить голову пожилому человеку, а ответить кратко.
– В последние годы полиция здесь из-за студенток в хиджабе. Поскольку девушкам запрещено заходить в университет в традиционном мусульманском платке…[19]
Он остановил меня жестом. Я замолчала, немного погодя он спросил:
– А что делают девушки в хиджабах?
– Кто-то снимает платок на входе и надевает шапку, кто-то вовсе уходит из университета. Есть даже те, кто носит парик, чтобы не были видны волосы.
– В мои времена мы с таким не сталкивались. Студентки хиджаб не носили.
– Вот и я говорю, профессор, Турция очень изменилась.
Ректор ждал Вагнера у входа. Он учился в Германии, поэтому заговорил с ним по-немецки, и я ничего не понимала. Пройдя с ними до кабинета ректора, я оставила их одних.
Вернувшись к себе, прежде чем приступить к накопившейся работе, я проверила телефон. Да, два пропущенных звонка. Я выключила звук при встрече с профессором и не услышала, что два раза звонил Тарык. Он отправил СМС:What’s up honey?[20]
Сообщение на английском… Многих уже таким не удивишь. Молодые люди, особенно относительно успешные из них, бизнесмены, банкиры привыкли теперь говорить наполовину по-английски. То и дело от них слышалось: «грейт», «вау», «дрэстик», «харизма», «тренди», «бенчмарк», «саксес стори».
Немного помедлив, я нажала кнопку вызова и, отбросив прежние мысли, начала разговор.
– Как там твой старик?
– Элегантный и учтивый. И красавец.
– Поздравляю! – весело засмеялся он. – Уже начала засматриваться на восьмидесятилетних?
– Да не в этом смысле, пошляк!
– Шучу-шучу. Не будь такой серьезной, я же тебе все время говорю.
– Жизнь у меня серьезная, что поделаешь.
– А ты не бери в голову, расслабься. Тем более, ты же сама недавно говорила, что чувство юмора – это тоже серьезно.
– Тарык, ну при чем тут «расслабься» и чувство юмора?
– Ладно-ладно! Вечером встретимся?
– Вряд ли.
– Почему?
– Похоже, пока профессор здесь, я буду с ним.
– Хорошо, как знаешь.
Он не стал никак комментировать, что мы не сможем встретиться, и сменил тему:
– У меня скоро для тебя будут хорошие новости.
– Какие?
– Денег заработаешь.
Мне это хорошей новостью не показалось, так как я не поверила. Сумасшедший…
– Ты с ума сошел? Премьер-министр сказал, что начался самый тяжелый кризис за всю историю Республики[21]. Биржа рухнула, лира еле дышит. Все кругом плачут, а я денег заработаю?
Раздалось хихиканье:
– Увидишь!
Он повесил трубку. «Точно торопится найти себе другую девушку на вечер», – подумала я со злостью.
– Нахал! – невольно вырвалось сквозь зубы. Хорошо, что рядом никого не было.
Мы с Тарыком встречались уже давно. И хотя я уже в первые дни понимала, что ничего хорошего у нас не выйдет, все равно продолжала отношения. Так и тянулось: я не очень хотела с ним встречаться, однако отношения не заканчивала.
Должно быть, его беззаботность объяснялась тем, что ему больше не надо было меня добиваться и я соглашалась часто с ним видеться. Но не только это. Кажется, он что-то заработал на бирже. А с ростом заработка бесконечно выросла и его уверенность в себе. Он начал смотреть на окружающих свысока – каждый обладатель портфеля ценных бумаг начинает считать дураками всех, кто зарабатывает меньше.
Возможно, я была к Тарыку несправедлива. После горького опыта с Ахметом я относилась к мужчинам с предубеждением, а потому стригла всех под одну гребенку. Если бы сейчас ко мне явился строгий посланник с небес и спросил, что плохого мне сделал этот парень, я не смогла бы ответить. Он внимательный? По-своему да. Добрый, помогает в тяжелые моменты? Да. Дает почувствовать себя красивой и желанной? Да. «Тогда на что ты жалуешься?» – спросил бы посланник. Я не знала, правда не знала. Может быть, я искала длительные, очень длительные отношения, привязанность до конца жизни? Мне было недостаточно просто приятно проводить время? Тарык вызывал у меня непонятное, необъяснимое раздражение.
Погрузившись в размышления, я заметила, что взяла со стола телефон и кручу его, зажав между указательным и средним пальцами. Еще один признак нервозности и беспокойства! Прокрутившись несколько раз, телефон замедлялся, и я снова раскручивала его двумя пальцами.
«Может, хватит?» – подумала я неуверенно. Внутри было желание написать Тарыку: «Не звони мне больше». Или не писать, а продолжать играть с телефоном?
На самом деле я уже давно подумывала отправить ему такое сообщение, но никак не могла решиться, не могла найти смелость. К тому же я доверила ему свои гроши́.
Когда телефон зазвонил, я наконец перестала его вращать. Звонила Йешим-ханым, руководитель администрации университета. Она сообщила, что пора ехать на обед.
На этот раз в черную машину сели ректор и профессор. Я последовала за ними на другом служебном автомобиле. Обед организовали в ресторане «Коньялы» в саду дворца Топкапы. Когда мы заходили через громадные ворота дворцового комплекса, я подумала, что стоило бы рассказать профессору, как раньше на этих стенах вывешивали на всеобщее обозрение головы казненных. После стольких лет тесного общения с иностранными гостями я стала кем-то вроде экскурсовода.
На обеде присутствовали еще несколько преподавателей. Ресторан находился на мысе Сарайбурну, откуда открывался вид на море. Я выбрала место с самого края прямоугольного стола, подальше от профессора и ректора, потому что не знала немецкий и все равно бы не поняла их беседу. Да и тяжело было со вчерашнего дня говорить по-английски.
Однако спокойно поесть в сторонке мне все равно не удалось. На этот раз ко мне привязался молодой доцент, который нигде не давал мне прохода. Он уже давно выводил меня из себя, приставая при каждом удобном случае и делая неприличные намеки. Он, по-видимому, был зациклен на разведенных женщинах, все время заводил разговор об одиноких ночах. Я изображала наивность и делала вид, что не понимаю. К счастью, вскоре принесли наш хюнкяр-бегенди[22], и я склонилась над тарелкой, переключив внимание на еду.
Мне захотелось рассказать профессору, что блюдо получило такое название, потому что очень понравилось французской императрице Евгении во время ее визита в Стамбул по приглашению султана Абдул-Азиза. Но профессор, все такой же бледный, прямой и аккуратно причесанный, был далеко от меня. Да и от моих рассказов он тоже казался далек.
Если бы мы были близки – не просто сидели рядом, но и были достаточно близки для таких бесед, – возможно, я упомянула бы историю несчастной любви султана и императрицы, рассказала бы, что после того, как Абдул-Азиза убили, обставив все, как будто он сам перерезал себе вены, Евгения приезжала в Стамбул и носила по султану траур. Профессор казался человеком, которому нравились такие истории, я ясно это чувствовала.
– Чему вы улыбаетесь?
– Я не улыбаюсь, – ответила я сидящему рядом доценту.
– Ну-ну, меня не обманешь, вы о чем-то приятном подумали? Наверное, о тайном кавалере. Понима-а-а-аю.
Он говорил, странно гримасничая и покачивая указательным пальцем, словно артист. Будто и на серьезную тему говорит, и шутит. Так он вел себя всегда, чуть что, готов был ответить: «Ну я же пошутил!» Боже, что за мерзкий тип!
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Жан де Лабрюйер (1645–1696) – французский писатель, автор книги «Характеры, или Нравы нынешнего века», в которой он создал психологические портреты своих современников из разных слоев общества. –Здесь и далее, если не указано иное, примеч. пер.
2
Спасибо (англ.).
3
Букв. «старшая сестра» (тур.). Уважительное неформальное обращение к женщине в Турции.
4
Феска – головной убор, распространенный в восточных государствах и странах. Представляет собой цилиндрическую или конусообразную шапку, часто выполненную из яркой ткани и украшенную различными узорами.
5
Гранд-базар и Голубая мечеть – европейские названия известных стамбульских достопримечательностей: исторического рынка Капалы-Чарши и мечети Султанахмет.
6
Мустафа Кемаль Ататюрк (1881–1938) – лидер Войны за независимость 1919–1922 годов, первый президент Турецкой Республики.
7
Симит – бублик с кунжутом, распространенный на Ближнем Востоке и на Балканах.
8
Добро пожаловать (англ.).
9
Старый мужчина, старая машина (англ.).
10
Джетлаг (англ.jetlag) – временное расстройство, возникающее в результате быстрого перемещения через несколько часовых поясов, что приводит к несоответствию между внутренними биоритмами организма и внешним временем.
11
Мост через залив Золотой Рог, в европейской части Стамбула.
12
Округ в европейской части Стамбула.
13
Уважительное обращение к мужчине.
14
Уважительное обращение к женщине.
15
Старый мужчина, старый отель (англ.).
16
Агата Кристи исчезла на 11 дней в 1926 году в Англии при загадочных обстоятельствах. В 1970-х режиссер Майкл Эптед решил снять фильм об этой истории и обратился к медиуму Тамаре Рэнд, которая сообщила, что разгадка тайны находится в дневнике Кристи, который та вместе с ключом от него спрятала под половицами номера 411 в отеле «Пера Палас». Впоследствии ключ действительно нашли в месте, на которое указала ясновидящая, однако дневника там не оказалось.
17
Старое название округа Бейоглу, официально вышло из употребления в 1925 году.
18
Балык-экмек – сэндвич с жареной скумбрией, традиционная уличная еда Стамбула.
19
Совет по высшему образованию Турции отменил этот запрет в 2007 году.
20
Как дела, дорогая? (англ.).
21
Т. е. с 1923 года, когда была создана Турецкая Республика.
22
Тушеное мясо с пюре из баклажанов. Оттур.hünkâr beğendi, букв. «правителю понравилось».
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов

