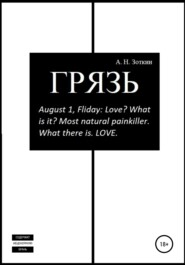 Полная версия
Полная версияГрязь. Сборник
Он снял выделение и признал своё поражение. Удовольствие вновь одержало верх.
…Она лежала в ванне и смотрела на серые стены. Её майка и джинсовый комбинезон лежали на полу в углу комнаты. Про них никто не вспомнит в ближайшие полчаса. Она откинулась на холодный край ванны и думала. У нее была возможность подумать обо всём на свете, и она её использовала. Её волосы, собранные назад, пахли лавандой.
Медленно скрипнула дверь, и зашёл я. Она встретила меня спокойным взглядом со слабой улыбкой на устах. Едва заметно кивнула головой. Окно в комнате немного приоткрыто. Здесь холодно. От воды шёл едва различимый пар. Зеркало здесь было разбито. Один осколок остался в левом нижнем углу. Я до сих пор стоял на пороге. Достал камеру и сфотографировал всё помещение. В центре фотографии было окно. Я пошёл по старым холодным плиткам к ванне.
Она сразу же отреагировала на камеру в моих руках: напряглась, взгляд стал более сосредоточенным, она достала руки из воды и положила на края ванны, приготовившись действовать. Я присел и сфотографировал её мокрую тонкую руку, блестящую в свете окна. Потом встал и сказал:
– Прикройся.
Она рванулась ко мне и попыталась вырвать камеру. Отличный кадр. Я отскочил в сторону, вода перелилась за край ванны. Она засмеялась и снова легла, прикрывая своё тело руками.
– Да что ты делаешь? – говорила она, пытаясь побороть свой звонкий смех.
– Я великий фотограф! – закричал я, пытаясь изобразить сдержанное безумие.
Я ходил вокруг ванны и фотографировал, фотографировал, фотографировал. А она смеялась, периодически пытаясь выбить камеру руками и ногами, при этом обрызгивая меня с головы до ног. Вода быстро добралась до угла и её одежда промокла. Но мы заметили это не сразу.
Когда-то были хорошие времена. Жаль, что они прошли.
Прошло две недели с восстания. Многое произошло.
– Понимаешь, мне страшно, – сказал психолог. – Я волнуюсь, говоря даже сейчас с тобой. Я трус. Я всю жизнь пишу, но всё в стол.
Я впервые видел его трезвым. Он был невероятно скромен, даже не смотрел мне в глаза.
– Я ничего не могу сделать, я слаб… Я просто жду, когда состарюсь и умру, – договорил он и замолчал.
– Я тоже боюсь. Но у меня всегда были люди, которые меня поддерживали.
– И что же ты сделал?
Я не нашёл, что ему ответить.
– Я чувствую вину за своё бездействие, а ты? – он впервые взглянул мне в лицо.
Я пожал плечами:
– Я чувствую только пустоту.
– Это другое. Сочувствую.
– Чему?
– Ты, видимо, с кем-то расстался. Это всегда тяжело. Извини, что донимаю своим.
Он встал, попрощался и ушёл в другую комнату. Я не остановил его, хоть он и был прав.
После этой беседы я с ним уже никогда не виделся. Он всё-таки набрался смелости и глупости, чтобы выступить на улице перед людьми. Его схватили и увезли. Потом наши пути не пересекались. В интернете даже выложили видео с его выступлением. Наверное, вы его не видели, это для вас не интересно. Но я его посмотрел. На нём психолог залез на крышу машины и громко говорил свою подготовленную речь. Его трясло, ведь он выступал трезвым.
«Нет! Нет! Нет! Они задним числом строят милитаристическое государство! Плюют на конституцию, дают волю произволу силовиков, намертво связывают суды своим влиянием! Не то ли самое делали …»
Я перемотал. У меня уже болела голова от подобных высказываний.
«Если это сделает один, то его повесят, а если это сделают миллионы, не выйдя голосовать, отказавшись убивать и нести зло в этот мир, отказавшись поддерживать произвол, отказавшись молчать, то ОНИ поперхнутся! Они будут бессильны! Ганди это доказал! Тогда почему мы до сих пор валяемся в этой Грязи, когда рождены для Света?! Да пребудет ПОНИМАНИЕ между нами, вами, между народами, между человеком и его домом – природой! Да пребудет счастье для всех, о котором мы могли читать только в книгах!»
На последних предложениях его уже окружили жандармы и тянули вниз. Стянули и увезли. Нет с нами больше психолога.
Та художница-блондинка несколько раз за это время звала меня встретиться. Мы с ней уже встречались раз пять или шесть, с того дня, как познакомились. Раньше я был рад нашим встречам, но теперь… Теперь на душе было погано. В конце концов я решил согласиться. Быть может, это от одиночества?
После мятежа я некоторое время находился в квартире на Маяковского. С каждым днём она становилась всё более пустой. Люди уходили, уезжали, улетали, просто не возвращались. Здесь стало необычайно тихо. Каждый шаг раздавался гулким эхо. Будто шёл по комнате, из которой убрали всю мебель и всех гостей. Творческая квартира почти умерла.
Почти всё время на кухне в одиночестве сидел Клык. В ту ночь ему ампутировали руку по локоть. Иначе никак – его рука, как я слышал, была разорвана в лоскуты. Так Клык приобрёл еще один шрам, более глубокий, чем все предыдущие. Внезапно он остался не у дел – его отстранили от командования. Теперь он сидел здесь, смотря в окно. Каждый раз, видя его, я содрогался душой: мне не хотелось оказаться на его месте. Тогда под аркой Клык сказал: «По заслугам надо получать». Вот и он получил. И, как мне кажется, знал, за что.
В самом начале беспорядков Вильнёв бежал. У него был особый нюх на это – он всегда знал, когда надо сбегать. Как, куда – это, как всегда, было неизвестно. Быть может, всплывет где-нибудь через недельку в новой стране. Гонимый жизнью гений. Тошно. В очередной раз он оставил целую группу умов, которым пророчил славу, почёт и высшую награду – лавры его учеников. Придётся им снова искать себя. Мэтр продолжил своё бегство по миру.
Комната с мольбертами пустовала. Из дальней комнаты не доносились шлепки босых ног. С двери с номером 86 пропал номер. Комната гуру тоже опустела: тот спал в углу, и никого не было рядом. Я понимал: пора выбираться отсюда. Но почему-то решал: нет, ещё один день. Как будто всё это могло измениться, стать как прежде.
Гумбольт до сих пор лежал в больнице. Я постоянно его навещал. Он выглядел бодрым и шёл на поправку. Я ему так и не сказал, что товарищ бросил его. Когда наш тучный друг спросил о нём, я сказал:
– Недавно уехал, но обещал вернуться.
Его этот ответ устроил. Он продолжал писать статьи. Однажды я пришёл к нему, встретив в его палате девочку лет четырнадцати, которая представилась как Дейзи. Мне стало намного легче: не я один беспокоился о нём.
В нашу последнюю встречу я спросил его напрямик, а что он нашёл в нас такого, что заставило его примкнуть к нашему «рыцарскому кругу»? Он сказал, что сам удивляется тому, как это получилось. Но ему было с нами хорошо. Это была наша последняя встреча в этой истории. Он спросил меня:
– А что здесь делаешь ты?
– Знаешь, какое-то время назад я работал медбратом. У меня был пациент, парализованный ниже пояса. Каждый вечер он говорил: надеюсь, я завтра смогу ходить.
– И что в итоге?
– Это был хоспис. Ты извини, но ты напоминаешь мне именно его. Но ты не парализован, ты просто не идешь сам. Ты здесь, потому что скучаешь и бежишь. Ты хочешь попробовать новое и боишься, что оно может кончиться, и ты так и не найдешь своё. Поэтому не делаешь окончательного выбора и перебираешь, хотя всё уже под носом. Смелей, дни уходят, а ночи не становятся длиннее.
Я был благодарен ему за эти слова.
Я много гулял в одиночестве. С собой у меня всегда был томик Зарёва. В первый же день прогулок я остановился у английского паба около ж/д вокзала: паба не было. Всё помещение выгорело, остались лишь каркасы кресел и множество обугленных и измененных до неузнаваемости предметов и частей интерьера, лежащих на чёрном полу. Местами они напоминали обугленные останки скрюченных людей. Я читал, что смерть в огне – самая болезненная. Хотя обычно умирают от угарного газа, но всё же. Пустынные оконные проёмы закрыты множеством красно-белых лент. Они все издают отвратительный звук на ветру.
– Да, сгорел, сгорел… – пожаловался пожилой мужчина, вставший рядом со мной.
– А когда сгорел-то?
– Да в ту ночь и сгорел, когда весь город на ушах был. Хорошее место было. Завтраки по 199 и официантки красивые.
Да, я был как раз знаком с одной такой. Мужчина на моё молчание добавил:
– А кто ж не любит такого? Вот значит, была тут одна, так у неё…
– А как сгорел?
– Да тут чёрт те что творилось в ту ночь. Вот скоты какие-то и подожгли. Да… Сгорел основательно. Но говорят, что пострадали всего несколько человек. Но ничего, все сейчас в ожоговом центре.
– А ты откуда всё так хорошо знаешь?
– Да у меня лавка во дворе, вот, видишь табличку? Так это я, моя лавка. Помидоры не нужны? Первый сорт, прекрасные. Всё остальное, честно говоря, второсортное. Но сами понимаете, времена такие…
Я побывал на площади. Мятеж быстро сошел на нет, и город снова наполнился туристами. Всё быстро отремонтировали, и казалось, что ничего здесь и происходило. На площади всё так же стояла колонна с ангелом, выпуклая брусчатка равномерно покрывала всё открытое пространство. Здания дворца и генштаба выглядели как новые. Множество людей гуляет по площади, фотографируются, снимают видео, крутя камерами во все стороны, пытаясь заснять как можно больше. У дворца соорудили несколько секций трибун – готовятся к городскому празднику. У меня не было слов. Та ночь полностью ушла в историю. Я пошёл по улицам на юг, в сторону улицы Маяковского. Я искал, искал и нашёл то самое место. Здесь умерла Она. Я опустился на корточки и дотронулся до мостовой. Положил руку на камень и несколько минут держал, склонив голову – подбородок уперся в грудь. Чувствовал, как моё тепло медленно нагревает камень. Прямо как Она согревала меня. Пара капель упала рядом с моей рукой. Я почувствовал мелкие брызги на своей коже.
Я устал от этого города. Бесконечный лабиринт из желтых домов, каналов, дворов-колодцев с небольшими клумбами и стеклянными лифтами, вынесенными за внешние стены домов, аккуратные таблички с номерами зданий, черные решетчатые ворота на каждом шагу, запах выхлопных газов вперемешку с сыростью и вонью воды, и вечный-вечный-вечный дождь.
Настал день нашего свидания с художницей. Я опять мотался в одиночестве по городу, не зная, куда себя деть. Внезапно я встретил своего товарища. Его рана на лице хорошо зажила. Он кинулся ко мне и стал оправдываться, просить прощения. Он размахивал руками, голос его дрожал. Я резко отрубил:
– Хватит.
Он замолчал и с болью смотрел на меня, ожидая моих слов.
– Я прощаю тебя. На твоём месте я бы сделал то же самое.
– Спасибо, спасибо…
Он замотал головой, сжимая мою руку в приветствии.
Мы сели в местном Макдональдсе. Народу немного. Сначала он рассказал, как жутко пил, как разругался на пустом месте с Сиренью и приехал сюда. Поинтересовался, как Гумбольт. С облегчением выдохнул, узнав, что всё хорошо. А потом он перешёл на шёпот:
– Понимаешь, тут такое дело… – он нервно провёл рукой по своему ежику на голове, посмотрел по сторонам.
Девочка за соседним столиком, увидев его лицо со шрамом, перестала улыбаться. Отвернулась и притихла. Её глаза были полны ужаса. Страшный дядя.
– Понимаешь, мы всё про-сра-ли. Всё, всё…
Он откинулся на спинку дивана и размяк, немного съехал вниз.
– Я не знаю, что будет дальше. Мы должны сражаться, должны собраться вновь и…
Дальше он говорил о том. Что нельзя падать духом, пора вновь организовываться и выступить в бой, мол, у нас ещё есть союзники, народ поднимется, и многое, многое, многое. При этом его поза не менялась. Он не верил в то, что говорил. Народ не поднялся, наша баррикада была последней. Вернее, её уже не было.
Но я всё же сидел и слушал его. Наверное, ему некому было сказать всё это. Я был его последним утешением. Мы сели прямо под кондиционером. Я пожалел, что не надел сегодня шарф.
– Мы сможем. Сможем… Если не сейчас, то никогда… Кровавый режим… Мы должны, правда на нашей стороне, это все знают… Мы сможем…
Он полностью, весь без остатка, остался в той кровавой ночи. И он был жив и жил своей пигмейской жизнью, был жалок сам себе.
– И я правда не знаю, что будет. Ладно, дело есть, сходишь со мной.
Я покачал головой:
– Я ухожу.
Он занервничал и, стыдясь, сказал:
– Я понимаю, понимаю.
Он тихо встал и пошёл к выходу.
– Эй, друг, – сказал я.
Он повернулся.
– Это тебе.
Я протянул ему томик стихов Зарёва. Он бережно взял книгу в руки.
– Я всегда любил его стих про развалины замка, рощу с огромными деревьями и маленьким красным домиком на холме. Мне всё время казалось, что это написано не про наш мир. Этот стих есть здесь? Не знаешь?
– Есть.
Мой товарищ потряс книгой:
– Знаешь, наверное, нам всё-таки следовало быть правильными, стать теми, кем нас учили быть. Не сломанными игрушками, а правильными, настоящими. Куда ушла наша молодость? Время надежд, радостей, свершений, время любви? Одно разочарование, разлетелось всё по ветру и не бывало ни нас, ни жизни. Только эта тупая рожа в зеркале. А люди вокруг живут, радуются. Зачем всё это было? Это станет моей Библией.
Он кивнул головой и пошёл к выходу. Бедный, бедный человек. Иногда я восхищался тем, что он делал. Я бы не смог. Но сейчас он был слаб и жалок, он отчаянно искал человека, что смог бы его вдохновить жить дальше. Как жалко, что он пришёл ко мне. Здесь я был бессилен. Больше я его никогда не видел.
В тот вечер мой товарищ сидел в незнакомом баре с белыми блестящими столами и бордово-сверкающей барной стойкой. Над головой без музыки крутился диско-шар. Пил. Заливал бокал за бокалом. Что же он наделал… Он чувствовал себя виноватым пред всеми. И оттого был очень зол. После очередного бокала он сказал:
– Меня тошнит от всего этого.
– Да, да, страна катится непонятно куда, сейчас каждый так говорит, у всех от этого голова болит, – блекло подхватил бармен.
Товарищ даже не посмотрел на него:
– Да я не про страну.
И замолчал.
– Пять, четыре, три, два… – слышалось из-за стены.
– А в начальной школе все меня ненавидели, – сказала Она, смотря на потолок, который кто-то выкрасил в фиолетовый цвет.
– Я знаю, – тихо ответил я.
– Ты смотрел фильм «Чучело?» Вот я была таким же чучелом в глазах других.
– Не смог смотреть. Слишком больно.
– Всем классом на одну маленькую девочку. Что я им такого сделала? – её голос стал тише, горло напряглось.
Ей было больно.
– Я участвовал в таком. У нас весь класс ополчился на одного мальчика. Я тоже. А он был мне до этого чем-то вроде друга.
– Зачем ты это сделал?
– Не знаю, за компанию. Глупый был, второй класс.
– Зачем?
Она смотрела на меня. В её глазах стояли слёзы. Мне показалось, что в её вопросе прозвучал голос и того мальчика, которого мы всем классом закидывали снежками. Я не знал, что ответить.
– Я знаю, что тебе больно. Прости. Я ничего не могу ответить.
По её щеке скатилась слеза. Она крепко сжала зубы, сдерживая свои чувства. Мокрые губы слегка дрожали. Наконец Она ответила:
– Да всё ты можешь.
Она быстро встала, оделась и вышла в коридор, перескочив через несколько комодов, стоявших на её пути. Фигура гимнастки, а мозги… Они у неё были, и она умела ими пользоваться. Так я остался один на один с собственным смущением и чувством вины. Это был наш последний разговор. Её распущенные огненные волосы пахли лавандой.
Художница должны была ждать около Адмиралтейства. До встречи оставалось тридцать минут. Я сидел на гранитной набережной около моста у Дома Книги и смотрел в воду. Вот и всё. Настало время сказать правду. Я достал листок, ручку и написал, не щадя себя:
«Да, этот человек, оставшийся сидеть у моста через реку со свинцовыми водами, лжец. Он врал себе. Размышлял о верности и любви, но сам сменил не одну красотку в Танжере и так и не решился взять на себя ответственность за отношения, оставив их в неопределенном состоянии до самого конца. Он порицал современную культуру, но сам хотел стать ее частью, он хотел примкнуть к «красивым людям». Он говорил, что его стихи нигде не нашли пристанища, но все песни его группы написаны именно им. Он не знал, что делать и кем быть, поэтому так и молчал и крутил головой по сторонам, стараясь сохранить своё положение. Он думал о предателях, которые его окружают, о людях, которые бессердечно манипулируют людьми, но и сам оказался не лучше их в бездействии своём. Он самый лучший человек – лжец, что в самом конце решил рассказать правду. Надеюсь, с ним всё будет хорошо.
Берроуз в своём творческом завещании просил пробить дыру в Большой Лжи. Пробить за него. Пробивать так же, как пробивал её Аллен34 – одним фактом своего существования, существования такого вольнодумства и свободы, заключенных в одной голове. Эта книга пыталась пробить дыру в Большой Лжи другой ложью.
Грязь… Солнце… Дождь… И снова Грязь. Удалось ли разорвать этот круг? Ведь что-то невозможно смыть с себя. Например, холод ее руки или осознание того, что не смог помочь, когда мог. Никто бы не смог, а ты мог. И не стал этого делать. Что еще ты можешь не сделать, только потому, что не захочешь? И сколько из этого принесет тебе потом боль? Сколько из этого принесет боль другим? А что делать, когда закончатся все книги и все песни будут написаны и прослушаны? Что ты сделаешь тогда? Когда закончатся сеансы во всех кинотеатрах мира, потому что нечего будет показывать – ВСЕ уже видели ВСЁ. Останется только одно – говорить самому».
СЧАСТЬЕ.
– Вдали город? Как будто море…
– Ясное дело. После дождя как не быть морю?35
Я держал Её на руках под дождем, холодную и недвижимую, а моё сжавшееся от боли сердце заставило моё тело дрожать.
– Как же так, как же так…
Будущее без Неё проносилось у меня перед глазами. Оно несло в себе множество перемен и понимание того, что я не успел сказать Ей самого главного и единственно важного. Но было поздно. Я один.
Неожиданно Она всхлипнула. Я застыл. Её губы стали беззвучно двигаться. Она закашляла. Из Её закрытых глаз покатились слёзы.
– Ты… – Я не знал, что сказать. – Ты же замёрзла, сейчас…
Обернул Её в своё пальто. Она прижилась ко мне головой и плакала.
– Тихо, тихо, не плачь, только не плачь. Теперь всё будет хорошо, теперь всё будет хорошо. Я люблю тебя, слышишь? Люблю тебя, не плачь, не плачь…
И я понёс Её по темным улицам. Лужи хлюпали под ногами. Она дрожала от холода, а я от потрясений. Она обняла меня ослабевшими руками. Дорога впереди была свободной.
В то ранее утро мы сидели с Ней на кухне творческой квартиры на одном кресле и пили чай. Её рану на голове перевязали, горячий душ согрел её. Она осторожно отпивала из горячего бокала. Её рыжие волосы пахли лавандой. Я смотрел в окно и думал о том, как всё это было реально – её смерть, моё одиночество, возвращение товарища, сломанные судьбы и моё желание уйти. То, что произошло, было чудом. Господь услышал меня. Я обнял Её за талию, чувствуя, как привычное тепло обжигает меня вновь.
Она повернулась ко мне, сонная и немного рассеянная:
– Хороший чай, я люблю такой. Лесные ягоды… Вкусные.
Я наклонился к Ее волосам, прошептав:
– Я люблю тебя.
И Она улыбнулась.
У Неё очень мягкая и притягательная кожа. А в руках Она держит фарфорового бегемотика.
С неба пошёл снег. Эта история подходила к концу. Я подошёл к ограде канал и достал фото с её руками, посмотрел на него. Это было как вчера. В памяти раздается её смех. Я разжал пальцы.
– Прощай.
Фотография медленно падала вместе со снежинками в воду. Течение подхватило её и потащило от меня прочь. Она ушла. Каждый раз Она уезжала в слезах и с разбитыми надеждами. Теперь этого больше не будет.
А где-то за снежной пургой
Танцуют двое на мостовой.
Она рукой ему глаза закроет,
А он ее печали скроет
За солнцем и луной души.
Любовь и Смерть.
Над ними время властно?
И мы с тобой летим…
– А я уж не думал, что вот так в ноябре и снег пойдет, – раздался рядом знакомый голос.
– А?
Рядом со мной стоял Великий писатель, опершись на ограду и смотря на крышу Дома Книги:
– Я тебя помню, как там у вас?
– У нас? – до сих пор не отойдя от своих печальных размышлений, спрашивал я.
– На квартире, в среде, в барах. Все благоразумные люди там уже не появляются.
– Да там и нет никого, – с горечью сказал я, и оперся на ограду рядом с ним.
Подумать только, а писатель неожиданно оказался ниже, чем я думал.
– Многих потерял? – тихо спросил он, продолжая смотреть вверх.
Я хотел ответить, но слова застряли в горле. Я кивнул головой.
– А… вы?
Писатель улыбнулся и повернулся ко мне:
– Да мне-то уж чего… Я и так потерял стольких… Кажется, я свыкся с этим, – он взял в руку конец своего красного шарфа и посмотрел на него. -Мне этот шарф, например, подарил мой учитель. Подарил и замолчал навсегда. Я был последним, кто с ним разговаривал.
Писатель поднял глаза на меня:
– Он научил меня многому и сказал одну великую вещь: если трудно, то напиши об этом, расскажи. Не надо молчать, все молчат и вот, что мы имеем. Надо говорить, словом путь освещать человечеству.
– И вам это помогло.
– Да, еще как. Я так первую популярность приобрел, людям откликнулась моя боль. Я был не один. Так я и окончательно решил стать писателем, – он отпустил шарф и вновь оперся на ограду. – Он любил стоять вон в том окне. Если видел кого-нибудь из знакомых, то махал. Прямо даже если в этот момент у него шло совещание и, он расхаживает перед окном туда-сюда, думает, останавливается и видит, например, меня. И его улыбку видно отсюда. Хотя он редко улыбался, печальный был человека. Его Зарёвым звали, знаешь такого? Или ваше поколение уже всё позабыло?
Я внезапно рассмеялся:
– Ох, извините, извините… Я просто так часто слышал его имя, что…
Писатель смерил меня взглядом:
– М-да, парень, тяжко тебе. Говоришь, многих потерял… хм… Ты мне напоминаешь меня.
– Я и Её потерял.
– Её? – взволновано посмотрел на меня собеседник. – Ну, да, ну, да. Что делает еще нас всех настолько печальными.
Он посмотрел на тяжелые свинцовые воды канала, поднял голову к серому небу и снег сменился дождем. Но мы не спешили уходить.
– Езжай ты отсюда. Тут всё проиграно, всё. Пока что. Уезжай и напиши. Напиши правду, не только Грязь и ложь. Напиши о хорошем. Долг каждого писателя непременно состоит и в том, чтобы в сотый раз ответить своим современникам на вечный вопрос «что есть жизнь?» Что в ней есть такого, за что стоит ухватиться, к чему идти и чем же являлись долгие годы лишений в жизни каждого, зачем им быть, если всё могло сложиться более радостно? И вот, из века в век, мы вместе бьем по букве алфавита, составляя старые слова в новом порядке, не жалея ни свои жизни, ни жизни наших близких, периодически поворачиваясь к окну и всматриваясь в непроглядную мглу, чтобы в первую очередь ответить самому себе: зачем и о чём всё это?
В этот момент я понял насколько он высок.
– А… расскажите мне о нём, о Зарёве. Каким он был?
Малыш Ёжик сжал губы, покачал головой и посмотрел на меня:
– Он был человеком. Это его и сгубило. Пойдем, я знаю тут одно прелестное кафе с хорошей музыкой и кофе, а эти две вещи в наш век сложно найти…
И он рассказал мне. Рассказал про Колю Зарёва и его давнюю дружбу с Антоном Цветом, про четыре левых часа и триумф в печати и музыке, про Сирень и его любовь к ней, про депрессию и этот город, полный чудес и замечательных людей, про простую девушку Лену, что спасла поэта и про трудные последние годы, что свели Зарёва в могилу. Я слушал и меня пробирала дрожь: как же это всё было похоже на нас. Мне казалось, я даже хорошо понимал этих мужественных одиноких людей, что волей случая оказались вместе и обратили свой взор на лучше их них. Но разве лучший назовет себя таковым?
Он закончил свой рассказ далеко за полночь. Мы успели сменить множество кафе, обойти с десяток дворцов, и я напрочь забыл про встречу с художницей и нисколько не жалел об этом. У Ярослава было отличное настроение, он смеялся и говорил о добром, видимо, он соскучился по кротким и благодарным слушателям.
– Поедем вместе? – спросил я его, когда мы стояли у разведенного Дворцового моста. – Я знаю самое лучшее место в мире. Думаю, вы заслужили отдых.
После этих слов писатель покачал головой:
– Нет, я уже взял своё, самое лучшее, – уверенно сказал он. – Бери своё, а я останусь здесь, должен же кто-то быть здесь, пока всё не наладится? Тем более, вспомни, кто был моим учителем, я не пойду другой дорогой.
Он протянул мне свою руку. Я пожал её и горечь подступила к горлу:

