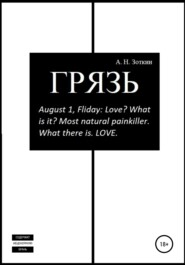 Полная версия
Полная версияГрязь. Сборник
Выйдя из Дома Книги, Цвет спиной чувствовал взгляд своего друга. Но оборачиваться не стал. Сел в машину и не думая поехал, сначала даже не в ту сторону. Он ехал, прокручивая разговор с Зарёвым в голове, гнал по Невскому до Дворцового моста, а потом развернулся и понесся в другом направлении, как загнанный зверь. Он поднимал свои глаза к светофорам. Но не видел ничего, соленая пелена закрывала их. Он свернул на Лиговский, потом еще куда-то, потом еще. Руки его тряслись, машина виляла. Он резко остановился, ударившись головой о руль и затрясся в слезах.
– Господи, что же происходит…
Жизнь его рушилась, карьера встала, приобрела непонятные очертания, разочаровала. Без Зарёва он был простым бардом. Почему, почему жизнь так жестока? Почему то, о чем мечтает один всегда так легко получается у другого? Почему людям всё так легко даётся? И только он один, сидит в этой проклятой машине и не знает, куда ушли его последние годы? Он стал продюсером и окончательно ушел в тень. Когда он в последний раз брал в руки гитару? Руки помнят, они всё помнят… А голова понимает? Он поднял голову и потер ушибленный лоб. Как жить с такой завистью?
Цвет повернул голову и увидел вывеску круглосуточной шавермы. В ней наверняка играет отвратительная музыка. Хотя, о чем беспокоиться человеку, под крылом которого исполнители не лучше? Когда-то он боролся с этой музыкой, а теперь поникши идет к ней по мокрой брусчатке.
– В обычном или сырный?
– Сырный.
Неужели Зарёв и правда его отпустил, правда… простил? «Скотина, этот Зарёв, святого корчит, падла, – думал Цвет, сдерживая ком в горле. – Такое не прощают, я же палки ему в колеса вставлял, я же собак на него спустил, боясь, боясь за себя, он же чертов блаженный от искусства, реальный мир не знает, я… Я не знаю».
В машине Антон вновь расплакался, на этот раз над шавермой. «Великий, великий человек… Я видел, как ему больно, тяжело, а он просто сказал «не делай так больше». Да я был готов ко всему, что он кружкой этой запустит в меня, что… А он… Я что, правильно сделал? Нет, я гнида, самая настоящая гинда. Так почему, почему, почему, почему?» Он сдавил в руке шаверму и та переломилась на две части. «Почему…»
«Или… Алексия… Как он встрепенулся, когда я про нее спросил. И замялся, хотя до этого был мрачнее тучи… А что, если это он? Если он спит с моей Алексией? – Цвет обернулся назад, будто надеясь увидеть Дом Книги. – Ему стыдно, вот и простил, чтоб отвязался. Да-да, всё так, она так про него постоянно говорит… Шлюха».
Он отбросил шаверму на пассажирское сидение и ударил по газам, яростно втаптывая педаль газа. Машина умчалась по пустым дорогам к центру.
– Да-да, – сонно ответил Николай, поднося трубку к уху. – А можно потише музыку?
Таксист, не поведя бровью, выключил радио.
– Вот сейчас слышу. Да, что такое, Лен? Поздновато для бодрствования. Что? Не может дозвонится? Чёрт…Ах… Я еду, в какую именно? Да, запомнил, ладно. Нет, будь дома. Я потом сразу к тебе.
Он положил трубку и посмотрел на водителя:
– В Мариинскую больницу, пожалуйста.
Цвет неподвижно лежал на широкой кровати, накрытый покрывалом, только руки сверху. Правая вся в гипсе, левая сине-бордового цвета. Голова повернута в бок и как будто скатилась чуть вниз по подушке, как у крепко спящего ребенка.
– Он не приходит в себя и состояние критическое, но мы сделали всё, что могли.
– На данный момент? – спросил Зарёв, пытаясь максимально сконцентрироваться на словах седого доктора.
– Это словосочетание сейчас не уместно. Авария была сложной, он не был пристегнут, превысил скорость, мчался в центр и вылетел. Он уже лишился ног и, как мне видится, не будет уже другого момента. Вы пока единственный из родственников, кто доехал, его жена отказалась приезжать. Если хотите, можете к нему пройти. Вам лучше к нему пройти.
– Да, я… иду.
Вид искалеченной человеческой плоти – это один из сильнейших страхов человека. Деформированное, обезображенное, переломанное – ужас сковывает движения. А тут тот, кто когда-то был лучшим другом, родной человек. Шаги даются тяжело, как будто поднимаешься в гору под весом плотницкой доли. Отступать нельзя, потом ведь никогда себе этого не простишь.
Николай сел на стул по левую руку от Антона. Его лицо было изрезано, губы разбиты, кровь проступала сквозь повязки. Эта жуткая обрубленная кукла была его другом. Поэт держал себя в руках.
– А…Антон… Это я, Коля.
Цвет оставался недвижим. Только попискивание аппаратов вселяло надежду на то, что он еще слышит.
– Это я… У меня всё хорошо. У нас у всех… всё хорошо. Мы просто все устали. Но все здесь, рядом, мы все. И я в том числе. Как раньше, помнишь? Все вместе. Знаешь, – он поднял глаза и посмотрел в окно. – Ты… У тебя сегодня трудный и важный день. Время пришло и… Помнишь ту песню, она всем так понравилась, кроме меня. Ты хотел ее послушать снова, но я… Время пришло.
Он посмотрел на друга и тихо запел:
Каждую ночь я повторяю,
Смотря на тёмное небо:
Когда мы умрем, у нас вырастут крылья,
И все сказки оживут наяву…
Ночь заберёт волнение дня,
Звёздное небо откроет врата,
Шум высокой травы под луной
Всколыхнёт воспоминания передо мной.
Рука сожмёт горсть земли,
Остыла она, её не спасти.
Но первый луч солнца согреет её,
А вода остудит, а вода напоит.
В эту летнюю ночь мы почувствуем,
В звездном небе увидим цветы.
В эту летнюю ночь мы забудемся,
Среди зелёной травы останешься ты.
А в голове будет лишь одна мысль,
Лишь горстка слов:
Когда мы умрем, у нас вырастут крылья,
И все сказки оживут наяву…
Но сначала зима должна отступить,
А снег превратиться в воду,
Лишь тогда трава начнёт зеленеть,
И найдём мы очередную заботу.
Их будет больше с течением дней,
Но весна никогда не оставит детей,
Тёплые лучи растопят сердца,
Солнца блик ударит в глаза,
Именно так начнётся весна.
А если сказки сбываются,
То Рай закрыт для меня,
Потому что моя сказка
Не может быть наяву…
До лета дотянем, там будет проще,
И до осени может, останешься ты.
Но все мы идём дорогой, что в роще,
Не видно конца, и начала уж нет.
Вокруг лишь деревья,
Овраги в низинах,
Дорога одна, и выбора нет,
Начнут дорогу двое,
Закончит лишь один,
Выйдя в бескрайнее поле…
Когда мы умрем, у нас вырастут крылья,
И все сказки оживут наяву…
Будешь ли ты плакать, когда наступит мой день?
Сможешь забыть день нашей встречи?
Ты под небом рассветным останешься,
Встретишь новый рассвет этого мира,
И пойдёшь вперед, но остановишься:
Ты что-то забыл, ты кого-то забыл…
Цвет медленно открыл глаза и медленно поднял их на Зарёва. Один из них залит кровью. Он молча смотрел, заключённый в клетку боли. Но его взгляд был осознанный, не умоляющий, не испуганный, а невероятно спокойный и даже… благодарный. Николай положил свою ладонь на его руку и у него покатились слезы. Жалость – это худшее, что мы можем проявить в такой ситуации к близкому. Но нам же так больно. Цвет слабо шевельнул пальцем и медленно моргнул. Зарёв боялся, что он уже не откроет глаза, но они снова распахнулись и остановились. Последнее, что мы видим в своей жизни – это лик Спасителя.
Николай не помнил, как его окружили врачи и медсестры, не помнил, как его под руку вывели из палаты. Только через пол часа, узнав от доктора, что Антон Цвет умер, он как будто бы проснулся, поблагодарил врача и даже поговорил с ним, смутно улавливая суть разговора.
А я каждую ночь я повторял,
Смотря на звездное небо:
Когда мы умрем, у нас вырастут крылья,
И все сказки оживут наяву…
Когда Зарёв вернулся домой, солнце уже встало. К нему сразу же бросилась Лена. Она уже знала, что Антон Цвет умер. Антон умер… В этом городе у утра такие блеклые краски, что даже сложно поверить в то, что это правда.
– Я сейчас, посижу, потом схожу в душ и посплю, – поцеловав возлюбленную в лобик, сказал поэт.
– Чай с бутербродами сделать?
– Давай.
Коля еле переставляя ноги вошел в гостиную и направился к дивану.
– Что не то, что-то не то во всём этом…
Язык заплетался. Поэт остановился в центре комнаты.
– Что…
Он слабо всплеснул руками в воздухе, пошатнулся и с грохотом упал на ковер.
Смерть Цвета.
Легкое дуновение ветерка по утренней росе.
Дом со стенами из паутины:
Паук расставил сети меж травинок.
Жаль, что август сейчас, а не июнь.
Интересно, кто сбежит
От морей, океанов пучин?
Оборачиваешься назад и понимаешь, что эти годы, подобно Эвридике, ушли навсегда.
-–
Спустя 10 лет.
– Мне хочется жизни…– сказал Гумбольт с пробитым легким.
– Заткнись и береги силы, – сказал мой товарищ, наблюдая за перевязкой.
Они пришли несколько минут назад, судя по всему, успели дойти до места столкновения с жандармами. Она старательно бинтовала Гумбольта.
– Хорошо, что я здесь оказалась, у нас тут очереди возникают, а вот как раз тебя бы перевязать как можно быстрее, – Она улыбнулась. – Жить будешь, Гумбольт. Но в больницу надо, обязательно.
Наш тучный друг подмигнул Ей и вяло ответил:
– Не впервой, вырвемся.
Товарищ на них никак не реагировал. Он был погружен в раздумья, попутно кусая ногти на руках.
Она посмотрела на него, а потом спросила у Гумбольта насчёт меня.
– Он был с нами, а потом исчез.
– Понятно… – уголки Её рта медленно опустились. – Блуждает где-нибудь, наверное, он это любит.
Увидев Клыка, мой товарищ сразу же сорвался с места:
– Клык, у нас есть тяжело раненные, их надо отвести в больницу, им здесь не помогут!
– Не можем, все нормальные дороги перекрыты кордонами.
– Гумбольт истекает кровью!
Клык повернулся к нему и покачал головой с равнодушным лицом.
– Сука! – мой товарищ схватил его за пальто. – Гумбольт вот-вот умрет, черт тебя дери! Увези его отсюда!
Клык не шелохнулся. Мой товарищ тяжело дышал и сквозь зубы прошипел:
– Сына мэра на Гумбольта. Делай с ним, что хочешь, он должен быть до сих пор на вилле, но увези Гумбольта.
«Мрачное лицо» подняло палец вверх, прерывая собеседника:
– И ещё ты, наконец, сделаешь то, ради чего я тебя сюда привёл. Перестанешь бегать и сделаешь.
Товарищ сжал губы и кивнул головой, будто признавая поражение.
– То-то же, святоша.
Клык оттолкнул моего товарища и дал добро на погрузку тяжелораненых. Его люди забегали. Двоих он послал за сыном мэра. Потом с широкой страшной ухмылкой поклонился и ушел. Мой товарищ сидел на ящике, закрыв рот рукой. Его несуществующий нимб стал еще более очевиден.
– Всё хорошо? – спросила Она, дотронувшись до его плеча.
Мой товарищ медленно перевёл взгляд на Неё, убрал руку ото рта, резко встал:
– Прощайте.
Он взял Её за руку:
– Потерпи его, он тебя любит. Ему сложно говорить об этом. Но он любит.
Потом подошёл к Гумбольту и положил руку на его колено:
– Всё будет хорошо, дружище. Позор тому, кто дурно об этом подумает.
И вылетел из шатра.
Правительство начало стягивать бронетехнику, и в столице уже прозвенел нужный звоночек – ещё немного, и нарушителей спокойствия можно будет «выпроводить» с площади. Офицеры довольно потирали руки в ожидании этого. У огромных ворот штаба – арки между зданиями, всё было напрасно для мятежников. Люди перестали пытаться прорваться и соорудили невысокие баррикады, из-за которых смотрели на стену серых щитов под сводами ворот. Съев суп, я залез на крышу Фольксвагена и пристально смотрел на то направление, ведь только что с той баррикады спрыгнул человек в знакомом пальто. Он держал в руках незажженный коктейль Молотова и осматривался по сторонам, нервно проводя рукой по растрепанному «ежику» на голове. Это был мой товарищ. Между укреплениями и жандармами валялось много мусора, разбитых бутылок, пара-тройка недвижимых тел, в нескольких местах ярко горели разбитые Молотовы. Он задрал голову вверх и вдохнул свежий ночной воздух, холодный и непокорный, развел в стороны руки, стараясь быть как можно большей мишенью для гнева. Это были последние мгновения спокойствия во вселенной, и он ими наслаждался. Это был самый важный момент его жизни, он это чувствовал и просто не мог этого упустить. Пять, четыре, три… Ему так хотелось, чтобы перед смертью он ещё раз взглянул на звезды.
Мой товарищ опустил руки, посмотрел на полицейские щиты и медленно пошел вперед в одиночку. Его пытались остановить криками из-за баррикады, но он шёл. Спокойно, как будто на прогулке. Его рваные кеды промокли насквозь. Он обернулся и крикнул, не останавливаясь:
– Братцы! Да что же вы стоите?! Вперед!
У ближайшего огня он остановился и поджег «фитиль» Молотова. Грязная тряпка хорошо загорелась. Он поднял бутылку над собой, будто одинокий факел в ночи, манящий усталых путников. Он посмотрел на баррикаду, а потом снова медленно пошел вперед. Его пальто развивалось от порывов северного ветра, а лицо было словно высечено из камня. Через баррикаду перелез юный мальчуган и пошел вслед за тем храбрецом. Ещё несколько человек лихо перепрыгнули через сожженный автомобиль и побежали его догонять.
– Да какого черта!
Люди стали ломать части баррикады, чтобы было удобней выходить. Их поток стал неиссякаем и все они шли за тем одиноким огоньком над головой безумца. Но этот безумец воображал себя Ганнибалом, ведущим свою армию через Альпы. Он продолжал идти и уже видел глаза жандармов, следящих за ним в узкие прорези на щитах. Он обернулся – сотни людей шли за ним. И он засмеялся. Раньше он обличал суть этого мира, теперь же он сам становился этой сутью. Это не могло его не рассмешить.
– Так обратится же все это в прах.
И он бросил бутылку за стену щитов.
А дальше – буря.
Плохо запоминающийся шум из
Криков, воспоминаний, отвращения, страха,
Потерь.
Давили, давили, давили. Они быстро освободили площадь.
Костры погасли. Шёл дождь.
На площади лежало множество тел, которые стонали или уже похолодели.
Истекающий кровью Клык стоял на коленях и опустил голову, смотря на разбитую фигуру огромного ангела, некогда находящегося на самом верху памятника. Крест в его руках не разбился.
Люди бежали с площади. Ещё час назад они пели и ели в дружбе и понимании, а теперь вели себя как испуганные звери, выгрызающие себе спасение.
Хаос. Толпа сметает всё на своём пути. В центре города не осталось ни одного целого стекла.
– Мы права не имеем! Так убьем за него!
Люди выхватили жандарма из окруженного отряда правоохранителей, бросили его на асфальт и стали избивать палками, камнями, у кого-то в руках был лом. Если бы не подошедшее подкрепление, та же участь ждала и весь отряд. А теперь было наоборот: жандармы били людей.
Загорелись несколько домов, перепуганные семьи выбегают из них. Все проносятся мимо: помощи ждать не от кого.
Что здесь может сделать один человек?
– Эй! Ты писатель? – кто-то из бара узнал меня. – Если ты настоящий писатель, то расскажи об этом! Расскажи обо всём! Может быть, тогда ОНИ наконец поймут, почему их дети курят, пьют всякую бодягу и приходят сюда! Почему в них столько ненависти и злости, почему они не хотят взрослеть, смотря на НИХ! Мы не молчащее поколение, мы не будем терпеть то, что терпели наши отцы! Пусть ОНИ наконец поймут это!
– А почему? – спросил я, но он меня не услышал.
– Расскажи об этом! Пусть их сердца содрогнутся от прочитанного, но пусть они дочитают, пусть поймут, во что ОНИ нас ввязали!
И он побежал дальше.
Шум. Люди бегут, не зная куда, но зная от чего.
Путь к квартире на Маяковского был отрезан. Бежать.
Бежать.
Бежать.
– Хэй! Хэй! Ээээй!
Кричал знакомый голос. Я остановился, мысли моментально пришли в порядок. Обернулся. Мой товарищ стоял неподалеку, наклонившись вперёд, и истошно кричал хриплым голосом, пытаясь привлечь моё внимание. Его лоб был рассечен, рана перерезала кожу на носу и перемещалась на правую щеку, она кровоточила, кровь текла по его шее и уже пропитала собой его черную майку под расстегнутым пальто. Но ему было все равно.
– Кхе-эй… Помоги!… – тяжело выдавил он.
У его ног на подстилке недвижимо лежал Гумбольт.
Я сразу же подбежал к нему, попутно столкнувшись несколько раз с бегущими вокруг нас людьми.
– У него пробито легкое. Твоя подружка перевязала, но нужен врач…
Я осмотрел Гумбольта, и мои руки застыли в воздухе. Сложно было поверить, что это происходит с моим другом.
– Куда? – выпалил я.
Мой товарищ закусил губу, посмотрел вперёд и на выдохе ответил:
– На вокзал.
– Там скорые дежурят?
Он кивнул.
Мы взяли и поволокли Гумбольта на вокзал.
– Тучный, падла… – задыхаясь, периодически говорил мой товарищ.
– Ты сказал, моя подруга?..
– Да.
– Она была там?
– Да.
– Что с Ней?
Мой товарищ посмотрел на меня. Остановился. Молчал несколько секунд, смотря в мои глаза.
– Я… не знаю. С ней должен был быть Клык, у него штаб был поблизости. Может он знает. Клык, сука, не вывез Гумбольта.
– Как ты?
– Скоро умру, – на полном серьезе сказал он. – А пока потащили.
Он очень устал. Измотан не только физически. Он уже не был способен выдерживать удары судьбы. По крайней мере, сейчас. Честно говоря, смотря на всё происходящее, я думал, что его уже не было. Поэтому его слова о смерти я воспринял серьезно. Всё это время он медленно умирал, а эта ночь предоставляет ему уйму шансов для того, чтобы прервать страдания.
Здание вокзала оцепили жандармы и пропускали только по наличию ж/д билетов. Но с каждой минутой площадь перед вокзалом всё больше наполнялась людьми, бегущими из центра. Гонимые плотными стенами щитов и тяжелой техникой, «мятежники» смяли оцепление жандармов, опрокинув их на землю и пойдя по головам. Толпа хлынула в вестибюль. Оттуда было несколько путей. Большинство сразу же сбегали через боковые входы, выводящие на улицы за кордонами правоохранителей, кто-то спускался в сеть подземных переходов, а кто-то бежал через перроны к выходу в дальней части вокзала. Скорые дежурили там же. Мы подхватили Гумбольта и как можно быстрее стали проходить через перрон. Один из бегущих влетел в моего товарища. Оба упали. Бегущий быстро встал и продолжил путь. Мой товарищ попытался его пнуть, но не успел, бегун был слишком быстр.
– Сука… – чуть не плача от бессилия, крикнул мой товарищ, и медленно встал. Быстро он уже не мог.
– Давай, взяли, – он наклонился к лежащему на перроне Гумбольту и застыл: кто-то звал его по имени. И он сразу же понял, кто.
Это был женский голос со стороны поезда, стоявшего слева от нас. Проводники и жандармы с кулаками отгоняли безбилетников от вагонов, которые вот-вот должны были отправиться в путь. Между этими «защитниками вагонов» стояла она. Сирень. Всё те же фиолетовые волосы. Будто призрак из прошлого. У меня внутри всё упало.
Мой товарищ медленно повернулся к ней. Её глаза расширились от ужаса – рана на его лице выглядела впечатляюще. Они замерли, смотря друг на друга. Весь хаос вокруг стих для них. Они ведь любили друг друга, а потом разбили сердца друг другу. Вот только для моего товарища это было почти на грани смерти.
А они всё стояли. Буря рвала его душу на части. А она… Слезы покатились по её лицу, слезы о времени, что они упустили. Она протянула ему руку, зовя с собой. Я замер. Его скулы и руки дрожали. Он посмотрел на меня. Слёзы стояли в его уставших глазах.
«Нет, нет… Нет…Нет…» – думал я про себя. И не мог ничего сказать. Онемевшее тело не слушалось меня. Он повернулся к Сирени и пошёл к ней, побежал, полетел… А я лишь провожал его взглядом. Жандармы не пускали его, но Сирень сунула им несколько банкнот, и они вдвоём скрылись в вагоне.
Через минуту двинулся поезд. И уехал. Он уехал. Эхом звучали его слова, сказанные этой ночью: «На что мы пойдем ради собственного счастья»?»
Я взял себя в руки и потащил Гумбольта. Я не мог потерять и его.
…Он прислонился спиной к стене вагона и опустился на пол тамбура. Вагон трясло, колеса бешено стучали по рельсам. Сирень обняла его, опустившись рядом на колени. Его кровь испачкала ей половину лица. Он обнял её, а потом дрожащими губами сказал:
– Это всё…
Губы беззвучно продолжали шевелиться, он отпустил Сирень и схватился за голову. Она отстранилась, со слезами смотря на него. А он… заплакал. Его тело вздрагивало от громких всхлипов. Она попыталась успокоить его ласковым голосом, положив руку на его плечо. Что-то говорила про прошлое, про будущее и всё это в лучах солнца счастья. Но он не слушал. Сейчас он чувствовал себя сами собой. Оттого и плакал.
Всё это было одним большим кладбищем.
Я шёл по улицам города. Эта долгая ночь до сих пор не закончилась. Шум недавних трагедий уже стих. Периодически проезжали кареты скорой помощи и машины силовиков, по городу ходили отряды жандармов. Старался не попадаться им на глаза. Дождь ненадолго перестал лить, но я и так уже промок до нитки. Я был зол и подавлен. Мысль о том, что Гумбольт мог умереть на моих руках, порождало желание своими руками придушить моего товарища. Но обошлось. Гумбольта увезли в больницу. Я сделал всё, что мог – мой друг будет жить.
Повернув за угол здания, я споткнулся о лежащего на тротуаре человека и чуть не упал.
– Он… Он… – рядом с телом, опершись на стену сидел молодой парень в шортах и куртке на голое тело. – Он… Он… Умер… Умер…
Он был весь мокрый от пота, руки симметрично дёргались вверх-вниз, он смотрел на лежащего человека, а потом перевел взгляд на меня. Возбуждение и восторг. Крохотные зрачки его глаз словно иглы проткнули моё сердце: страх.
– Он… Он… Умер… Он сейчас в аду…. В аду… В аду…
Он был явно не в себе. Разбираться с наркоманом и его другом, который, возможно, действительно умер, в мои планы не входило. Я встал и быстро пошёл прочь от них.
– В аду… Он… В аду…
Вспомнил про Неё. Где Она? Решил прогуляться в окрестностях, прежде чем вернуться на квартиру. На пути попадались несколько раз недвижимые тела. Страшно. Я боялся представить, что творилось на площади. Звери.
– Нет, нет… Нет…Нет…
Она лежала в луже и не двигалась, закрыв глаза. Я подбежал и нагнулся над Ней. Её распущенные огненные волосы пахли лавандой. Я дотронулся до них рукой. Такие мягкие. И теплые. Я оторвал руку от Ее головы и посмотрел на нее – пальцы были в крови. Я посмотрел на Её спокойное расслабленное лицо, потом на тонкую беззащитную шею. Пальцы тронули ее щеку, оставляя кровавый след. Её тело всегда было горячим. Сейчас же было холодным, как дождь. Холод. Дотронешься до Неё – не проснется, только… Что-то взорвалось в моей груди, а руки стали мокрыми от пота. Она была мертва. В тот момент я не знал ничего.
– Ханна, ты не девочка, а просто персик, – прошептал я.
Что же ты тут делала? Совсем недавно она дарила мне свою страсть и тепло, дарила себя, а теперь… Я крепко сжал ее плечо, одетое в кожаную куртку, и прошептал, склонившись над ней, как молитву, слова песни группы, в майке которой она была до сих пор:
Fear of the dark, fear of the dark,
I have a constant fear that something's always near.
Fear of the dark, fear of the dark,
I have a phobia that someone's always there…31
Я держал Её на руках под дождем, холодную и недвижимую, а моё сжавшееся от боли сердце заставило моё тело дрожать.
– Как же так, как же так…
Я обнимал Её, и мои слезы стекали по щекам и капали на Её белое лицо.
– За что? За что Её? Она ведь никому не желала зла… За что, Господь, за что?
Мы начинаем по-настоящему любить жизнь только когда почувствуем, как она начинает уходить. Она любила жизнь. Её тепло, её радость, её душа были для меня доказательством того, что Бог, возможно, всё-таки был над нашей грешной землей.. А теперь… А теперь Она уже не увидит ничего, канув в пустоту.
– Прости меня, прости…
Завтра уже не будет.
И я оставил ее. Лежать среди убитых и полуживых на мокрой брусчатке в центре города, в испачканной одежде и в ночном холоде. Последний прекрасный человек в этой истории пошел ко дну.
Квартира на Маяковского гудела, суетилась и боялась, с улицы видно, как ярко горят окна. На лестничных пролетах стоят и курят.
– Если нужна помощь, то это там, наверху, – сказал мне кто-то.
Никак не ответил.
Все двери в квартире раскрыты, люди ходят из одной в другую, по большей части бездействуя и вздыхая. Студенты-медики не покладая рук занимались ранеными. Я прошел мимо «комнат-лазаретов», повернул вместе с коридором влево и сел на скамейку, установленную в большую нишу в красной стене. Я тихо дышал и не двигался, а люди ходили рядом, обсуждая произошедшее. Все были на ногах. Я слышал, что кто-то плачет в комнате справа.

