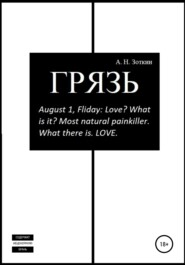 Полная версия
Полная версияГрязь. Сборник
– Спасибо, спасибо…
Остаток дня пролетел на одном дыхании. Наш поэт носился как заводной до самого вечера, и только переступив порог своей квартиры в полночь, он замедлился и ссутулился, почувствовав в один миг всю тяжесть этих рабочих суток. Голова гудела, обувь еле-еле снималась с ног, никогда он еще не прикладывал столько сил, чтобы повесить пальто. Зазвонил телефон, нехотя Зарёв достал его и посмотрел на экран: «Эмилия».
– Да, – тревожно сказал он.
– Он сегодня в таком хорошем настроении, что вы сделали?
– Что?
– Я говорю, что он сегодня после вашего прихода стал таким спокойным и даже довольным, я ума не приложу, что вы сделали.
Она как всегда без церемоний перешла к самой сути.
– Ааа… Я просто прочитал ему отрывок из своего произведения.
– Пфф… понятно, это его загоны. Я вот только статьи читаю научные, а выдумки это уже ваше дело. Но всё-таки не думала, что он будет сегодня в таком расположении духа.
Легкомысленность с которой были сказаны эти слова возмутила поэта:
– Это трогает и касается всех нас. Он умирает.
– Да. Врачи мне сказали, что у него…
– Он умирает. А вам жить. Тут статьями не отделаешься.
– Не учите меня!
Зарёв несколько секунд помолчал, а потом спокойно сказал:
– Знаете, в моём родном городе над дверями онкоцентра висит огромное панно.
– Вы к чему об этом?
– И там изображены сцены из «Маленького принца», те самые рисунки, которые создавал Экзюпери и знакомые нам всем. И вы представьте, люди, которые обречены на борьбу с этим страшным заболеванием, а она не может быть без потерь, каждый раз, заходя в этот центр, где им будет больно, будет неудобно, стыдно и страшно, видят маленького принца. Ни одно произведение не подошло бы сюда лучше, чем эта сказка. Такая по-детски мягкая, она затрагивает самые важные вопросы в жизни каждого из нас. И делает это изящно, касаясь самой души, а не ваших знаний. Есть вопросы, на которые… Если вам будет совсем плохо, то попробуйте почитать. Хотя бы ради него. Хорошо?
– Да, – холодно ответила она.
– Он спит?
– Угу.
– Звоните, если что. Всегда готов помочь.
– Угу… Спасибо.
Проходя мимо гостиной, Николай остановился, увидев тапочки около дивана. Он медленно, стараясь не шуметь, прошел по мягкому ковру в центр комнаты. Бросив подушку на подлокотник, здесь заснула Лена. Диван был создан ровно под её размеры.
– Видимо, ждала…
Зарёв улыбнулся, проведя тыльной стороной руки по её щеке, и лег рядом на ковер, закинув пиджак в дальний угол комнаты. Сон моментально сморил его.
– Мы в такой яме, господа, что я не знаю, как мы будем выбираться. Культура – сплошное противоречие, одно на другом. Каждый раз «уничтожали» и «строили» ее заново. Уничтожали и строили – должно быть в кавычках, потому… – Зарёв заметил Ёжика, и окруженный журналистами своей редакции, сказал. – Поднимайтесь, товарищ, ко мне, я скоро.
Ярослав кивнул головой и прошел в его кабинет. Все окна были открыты, и в помещении было холодно. Или же… Он посмотрел на свои подрагивающие руки: а может это волнение и страх? Ёжик сегодня спал отвратительно, вчерашний звонок Цвета пробудил в нем целую бурю эмоций, он не знал, что делать и титаническими усилиями воли заставил себя сегодня прийти сюда.
Он посмотрел в окно: сегодня обыкновенный серый день. Внезапно раздался раскатистый гром, эхом отозвавшийся в кварталах-колодцах, и через несколько секунд пошел ливень. Свежий запах мокрой земли наполнил кабинет. Это был самый настоящий летний ливень. Внезапно Ярослав подумал о лете, которое вот-вот наступит. Это была очень радостная весть.
– Здравствуй, Ярослав, я тут своих уму-разуму учил, – раздался голос Зарёва.
Хозяин кабинета прошел вдоль длинного стола и сел на своё кресло.
– Рад тебя видеть. Хотя, мне казалось, что у тебя подряд два выходных.
– Я хотел поговорить про… – Ёжик моментально запнулся.
– Да?
Сегодня серые глаза Зарёва были ярче обычного. Он смотрел так, будто готов был принять всё, каким оно было, принять и полюбить. Он был открыт новому. Ярослав посмотрел в них и улыбнулся:
– Как ты?
– Я хорошо. Сегодня даже выспался, хоть и спина немного затекла, – он поерзал в кресле и пару раз сделал махи руками. – Но это мелочи.
– Какие планы, капитан?
Прищурившись, Николай посмотрел на него:
– Ты сегодня просто поговорить пришел?
– Надо же когда-нибудь и по душам говорить.
Зарёв расплылся в улыбке:
– Золотые слова, мой друг, золотые слова.
Поэт встал и подошел к кофейному столику в углу комнаты.
– Чай будешь?
– Да, давай. Так какие планы?
– Да-а… – протянул Зарёв с досадой, кидая чайные пакетики в пластиковые стаканчики. – Мы осажденные, со всех сторон осажденные. Сложно сейчас что-то новое продвигать, пока удерживаем старое. Хотя, конечно, я сейчас пытаюсь продолжать продвигать таланты из андеграунда, но…
Он налил кипяток из чайника и перенес бокалы на рабочий стол:
– Грядет время грязи, я иначе и описать не могу это. Грязь. Трудно будет жить людям с совестью.
– Но вы же не допустите этого? – с надеждой сказал Ёжик.
– Всеми силами стараюсь. Но что я, против их всех? Без друзей я ничего не могу. Пока мы вместе всё будет хорошо.
Он отпил из бокала и сразу дернул рукой:
– Слушай, я же тебя так и не поздравил! Вчера даже успел купить тебе…
Громко задребезжал телефон на столешнице. Зарёв посмотрел на экран и побледнел.
– Да, алло, – серьезно ответил он.
– Кирилл только что умер, – раздался заплаканный голос Эмилии.
Для Николая это был первый и последний раз, когда она плакала.
«Значит, сдержал обещание» – пронеслось у него в голове.
– Соболезную, он ушел во сне?
– Да, я отошла в душ, вернулась и буквально увидела, как жизнь выходит из него… Его последние вздохи. Он был похож на младенца.
– Я сейчас же поеду к вам.
– Не надо, сейчас его заберут в морг и потом вся эта бумажная волокита… Просто вы должны были знать об этом.
– Спасибо, Эмилия, спасибо. Держитесь, мы все с вами. Вечером я вам позвоню.
– Хорошо, спасибо, спасибо.
Когда Николай повесил трубку, то Ярослав сразу же спросил:
– Это Кирилл?
– Ушёл, – сжав зубы тихо ответил Зарёв.
– Ушёл… – опустив взгляд, повторил Ёжик.
Поэт встал и подошел к окну. Дождь уже закончился, и сквозь тучи пробивались солнечные лучи, бликуя в лужах.
– Он был частью меня. Я проводил его в последний путь, – сказал Коля, успокаивая себя и зная, что этого никогда не будет достаточно.
Он поднял глаза к куполу Казанского собора и увидел блеклую радугу. Она будто выходила из правого крыла собора и взвивалась к небу на фоне черного неба. И вокруг так светло. Такой же была улыбка Кирилла. Зарёв взялся за нижнюю раму распахнутого окна и улыбнулся в ответ сквозь наворачивающиеся слезы: его друг и правда, был рядом.
После смерти Златоусцева несколько журналистов спросили Зарёва о вкладе покойного в историю. Николай грустно усмехнулся. Если озвучивается такой вопрос, значит, вклад был и весьма весомый. Но только Кирилл никогда и не помышлял об этом. Заключенный с рождения в клетку болезни, обреченный дышать, он не мог не сделать каждый свой вздох прекрасным в желании сбросить эти оковы. Чтобы он не говорил про свои опубликованные романы, Николай знал: их центр, ядро – восторг и восхищение перед перипетиями жизни, – и было тем светочем, что спасал этого больного мальчика с рано посидевшими волосами. Он был праведником, прошедшим через великие страдания при жизни. Разве маленький газетный столбик сможет объяснить непосвящённым это?
В первый же вечер после ухода Кирилла Эмилия сдержала своё слово: в опустевшей квартире она сидела в своём любимом кресле и шелестела страницами. Её любимый телевизор был выключен. Половина фонарей на сырой от дождя улице стояли потухшими. В комнате было темно. Золотистые французские лилии на синих обоях невозможно было разглядеть, прежде чем глаза не привыкнут к ночи. Весь свет, как будто был собран руками невидимого Неизбежного и помещен в одну точку: угол с красным креслом. В свете ночной лампы из известного магазина Эмилия читала «Маленького принца». Ее плечи дрожали, а на страницы падали соленые слезы. Это был миг, когда искусство ворвалось в жизнь человека, перевернув и жизнь, и самого человека. Она впервые поняла, что такое Слово. Дочитав, она целовала обложку, прижимала книгу к себе и долго-долго смотрела в окно, прежде чем заснула, сидя в кресле. Ей снилась Роза, за которую она была в ответе. И она делала всё, чтобы эта Роза цвела каждый день своей недолгой жизни.
Николай и Лена пришли вместе на девять дней. Людей было очень много и, чувствуя себя чужими, они поздоровались с Эмилией и немного потолкаясь в прихожей, вышли с поминок. Сначала на лестничную клетку, потом в подъезд по серым ступеням вдоль зеленых перил и, наконец, оказались на улице – солнце грело просыпающиеся ветви. Было тихо.
– А пошли на могилу Кирилла. Малыш Ёжик был на похоронах и объяснил как её найти.
– Пошли, – нежно сказала Лена.
Он взял ее под руку, и они направились на ближайшее кладбище.
А место выбрали очень хорошее. Неподалеку от центрального входа, в глубине около кривенькой березки. В округе росли и другие деревья. Всё было усыпано пестрыми венками и цветами. Его похоронили рядом с дедом. Кирилл знал его мало, он умер, когда будущему писателю было семь лет, но образ деда навсегда стал самым ярким и теплым в его жизни.
Деревья шумели ветвями, покачиваясь на ветру. Отличное место для сна.
Зарёв перешагнул оградку и лег на каменную плиту, усыпанную цветами. Над ним летели облака, трепетали тоненькие веточки. Стайка птиц пронеслась в тишине. Все казалось бескрайним.
– И что видно? – спросила Лена, засунув руки в карманы.
На лице Зарёва блеснула слабая улыбка, она исчезла на мгновение и появилась снова, более сильная, светлая:
– Вечность.
-–
Спустя десять лет.
Звезд не видно – это к дождю;
Слов не слышно – это к борьбе.
Серый цвет – к боли, что молчит;
История эта без звезд закричит.
Город оживился. Люди весь день стекались к центру по тротуарам, мостам, площадям, переходам, вдоль каналов, домов, оград парков, кладбищ, заброшенных заводов, припаркованных машин и флагов своей страны. Они вливались в одну из нескольких колонн и шли по центральным улицам, сходившимся на большой площади у здания правительства. Шли, перекрывая движение, выгоняя автомобилистов с дорог, вытесняя их на окраины событий. К вечеру город был похож на осажденную крепость. Центр её – главная площадь, заполненная людьми, стены её – дома, жильцы которых выключили свет в страхе за себя и своих близких, вокруг неё – баррикады мятежников и кордоны правоохранителей, за кордонами – грузовики с резервами и тяжелые машины для разгона демонстраций. Центр города остановился в напряженном балансе сил, если не знаешь к кому примкнуть, то лучше уходи.
В тот вечер я сидел в вегетарианском кафе неподалеку от церкви на Ковенском. Здесь была изумительная индийская кухня. Напротив меня сидел в кожаной куртке известный критик, преданный искусству, как никто другой, решительный, озлобленный, язвительный, друг анархистов-террористов, неплохой фехтовальщик и любитель насаждать сумасбродные идеи в головы непосвященных. Его ещё не посадили только потому, что на нем можно было делать хорошие деньги. Часто его звали ведущим на телевидение. И пусть все передачи с ним закрывались довольно быстро, идя не больше полугода, они набирали ошеломительные рейтинги. Он знал, как себя преподать. Вокруг нас сидели и другие люди, но все они затмевались им.
– Я был там, я танцевал на останках рок-н-ролла! Танцевал на обугленных могилах и мечтах, заключенных в них! Мы повергли этот рок в пучину истории, чтоб его! – смеялся он, изрядно выпив вина, которое принёс с собой.
– Так это из-за тебя сейчас на музыкальных каналах одна хрень крутится? – злорадно спросил один из присутствующих.
– Нет! Нет! Протестую! – замахал он руками. – Это всё из-за вас! Вы потребляете эту хрень, не я! Я танцевал на развалинах рок-н-ролла, прокладывая дорогу лезвию, которое должно было вонзиться в весь этот грязный попс, но вы меня не поддержали! Теперь я пьян. Просто пьян.
И он затих на несколько минут. Люди пили чай, разговаривали, иногда прикладывались к бутылке критика. Людей было немного, официанты, узнав «того самого ведущего» закрывали глаза на его громкое поведение и пронесенный алкоголь.
Вдруг на улице что-то загромыхало, вся посуда на столе стала трястись, бумажные журавлики, подвешенные к потолку, беспокойно затрепетали крыльями, наполнив кафе шелестом тонкой бумаги. В окно было видно, как мимо проезжает техника с аккуратно выведенными белыми номерами на бортах.
– Вот так живёшь и не знаешь, что уже ввели военное положение… – грустно сказал критик. – Давно пора, давно.
– Видимо, народ поднялся более-менее, раз уже пошла такая пьянка. Вот чего бойся.
– Пусть бояться те, кто там, – критик ткнул пальцем в сторону главной площади. – Их сегодня раздавят, помяните моё слово.
– Ну чего ты гонишь-то? Вот посмотри…
– Ничего мне не говори! Ни-че-го! Я всё равно тебя переспорю. Давайте лучше есть самосу. А то эти индийские пирожки никогда не давали мне покоя… Ммм… Объедение…
После третьей самосы я откинулся на спинку кресла и, приятно потягиваясь, признал для себя, что к кухне этого народа стоит как-нибудь присмотреться, уж больно вкусно сегодня было.
Зазвенел колокольчик над входом, и знакомый голос крикнул:
– А, вот ты где!
Я даже не стал оборачиваться, только поднял руку вверх, подтверждая его слова. Мой товарищ подошёл к нашему столику.
– Здрова, ребята. Ооо! Какие персоны! Здравствуйте, герр критик… – он поклонился, снимая невидимую шляпу.
– Да иди ты, и без тебя тошно, – отмахнулся «тот самый ведущий».
– Скажите, кого вы сегодня втоптали в грязь и публично унизили?
– Слушай, – критик раздражено посмотрел на него, готовясь вскочить из-за стола. – Что тебе не понятно? Тошно от тебя, иди отсюда.
– Да ладно, давай поболтаем. Например, об искусстве, ты ведь в нём как рыба в кляре – очень вкусно устроился, – товарищ облокотился рукой на стол и навис над собеседником.
– Я такой шпаной, как ты, не занимаюсь. Меня привлекают только высшие сферы искусства.
– Высшая сфера искусства у вас под ногами, герр критик. Там всё настоящее и стоящее.
– Последнее предупреждение – и… – он покосился на бутылку, которую держал в руке. – Получишь.
Мой товарищ улыбнулся, кивнул головой и, отходя назад, обратился ко мне:
– Пошли, дело есть.
– Двери распахнутся для гостей! Старый особняк вновь оживёт в эту ночь! – восторженно говорил мне мой товарищ.
Мы шли с ним по темной улице неподалеку от эпицентра событий. У всех припаркованных машин были разбиты стекла и фары. Осколки на асфальте блестели в отсветах далеких фонарей.
– Это здание – то ли доходный дом, то ли банк, то ли усадьба или что-то типа того. Заброшена, но не потеряла своего великолепия. Где еще праздновать успех революции, верно? Ха-ха-ха! Ладно, шучу. Успех мятежа, это ближе к сути.
Мы перепрыгнули через поваленный фонарный столб. Стекло под ногами хрустело. Он ударил ногой сломанную биту, валявшуюся на дороге. Видимо, ей и выбивали стекла. Где-то рядом завыла сирена.
– Неспокойные нынче времена, – прошептал он, поднимая воротник пальто повыше.
– Добро пожаловать к костру, граждане мира! – распростертыми объятиями встретил нас парень с длинными синими волосами.
– Привет, Фиолет, – сказал мой товарищ. – А чё граждане мира-то?
– Это новый мир! – встряхнул руками синий. – Когда мы рождаемся, то у нас нет выбора, мы сразу же вступаем в клуб! Нам дают винтовку, ложь и обязательства! Но это в прошлом! «Не станем мы на страны мир делить,/ Причин нет быть убитым/ И не за что убить»!
– О, да я смотрю, ты уже хорошенько надрался! Наш человек!
Мы прошли в просторный холл. Две мраморные лестницы, поднимающиеся наверх, полумрак, огромные окна, стеклянный потолок с витражом и какими-то надписями на иностранном языке.
– Кто уже прибыл?
– Крестец, Белка, Лена, которая журналистка, Борис… Ох, и еще человек семь, лень вспоминать.
– Отлично! – крикнул товарищ. – Идите все сюда, несите стулья, ковры, разводите огонь! Мы будем праздновать всю ночь! Сегодня празднует весь город! Vive la France! Как говорится в истории! Эх… Чтобы каждый день был таким!
После этих слов на втором этаже около лестницы сразу же из темного ниоткуда возник человек в белом халате и прокричал в ответ:
– «Безумье, скаредность, и алчность, и разврат
И душу нам гнетут, и тело разъедают;
Нас угрызения, как пытка, услаждают,
Как насекомые, и жалят и язвят!»
– О, видимо, и наш психолог опять пьян! – рассмеялся товарищ.
– Добрейший вечер! – крикнул психолог и убежал, продолжая декламировать стихи Бодлера.
– М-да… Как всегда, дурдом. Не боишься присоединиться?
Я усмехнулся и похлопал своего друга по плечу. Ночь обещала быть интересной.
Особняк оказался ещё тем проходным двором: люди приходили и уходили; около костра постоянно сидело пять-семь человек, не больше.
Их я спросил только об одном:
– А что это за линия на полу?
В самом центре главного зала вокруг костра прямо в старинной плитке был выдолблен идеальный круг радиусом в три-четыре метра, точные размеры сложно было сказать – отблески пламени искажали всё вокруг.
– А это вроде как люстра упала, – ответил мне один из мятежников. – Лет двадцать или тридцать назад. Говорят, во время какого-то концерта.
Я кивнул головой. Все вернулись к прерванному разговору.
– Писатели боятся писать не так, как предшественники. Они не являются самими собой. Эта мысль не нова. Но правдива до сих пор.
– Тогда был бы хаос, – задумчиво ответил я товарищу.
– А я смотрю, у тебя в душе всё спокойно и разложено по полочкам.
Он усмехнулся и добавил:
– Они боятся наших слов. Оно сильнее оружия. Оружие выковано в печах. Слова – в нашем сердце. А что нас погубило? Безразличие…
– Как всегда! Складно стелет! – радостно воскликнул Фиолет. – А как думаете, что дальше будет?
– А шо?
– Ну, так, победим или…?
– Лично мне не хотелось бы на щите домой возвращаться, – ответил я. – Мне есть ради чего жить.
– Дык, у кого же нет? – подхватил Фиолет.
Странно. Мой товарищ молчал. Этот незатыкаемый источник анархии сидел и пил, смотря на огонь. И что это на него нашло? Неужели это всё она…Я толкнул его локтем:
– Эй, чего задумался?
– Что ты сейчас чувствуешь?
– Ну, я боюсь, потому что не знаю, чего ждать.
– ОНИ тоже не знают, что ждать от тебя.
– Они, они… Признай, ты ведь не о классовых врагах сейчас думаешь, а о конкретном человеке.
Он зло посмотрел на меня и что-то буркнул себе под нос. Обиделся.
Но сразу же оживился, когда на горизонте появились новые гости:
– О, Фарго, мой славный друг, – поднял бутылку вверх мой товарищ, приветствуя двух подошедших людей в пиджаках: высокого худого и низкого толстого. – С прибытием на фронт, старина, с прибытием. Здесь все сражаются за правое дело, но никто точно не может сказать, за какое именно.
– Здравствуй, мальчик мой, – отозвался низкий, садясь к костру и откладывая в сторону свою трость. – Довольны?
– Да, чёрт возьми! – крикнул Фиолет.
Низкий человек рассмеялся, держась за большой живот.
– А это кто? – спросил мой товарищ, наклонив голову вперёд и хищно всматриваясь в высоко человека в пиджаке.
– Это сын мэра. Садись, садись, сынок.
«Сынок» послушно сел рядом. После слов Фарго все напряглись. Я внимательно смотрел на товарища, который в этот момент быстро просчитывал все варианты развития событий. Недюжинный азарт разгорелся в его глазах.
– А что с ним? Он же бледен как смерть, – спросил Фиолет.
Сын мэра, может быть, и был одет подобающим его статусу образом, но вёл себя очень странно – будто был испуганным угрозой отчисления школяром: молчал, потрясывался, глаз почти не поднимал, крепко держал руками свои коленки.
– Мальчик сильно испугался, когда всё это началось. Возможно, испугался настолько сильно впервые в жизни. Беспомощно бегал по подворотням, а потом увидел в толпе знакомое депутатское лицо. Так и прибежал ко мне. Да, Генри? – Фарго похлопал его по ссутуленной спине. – Что ты делал в том квартале? Опять зависал с проститутками, негодник?
Толстяк смеялся, а сын мэра вздрогнул и посмотрел вокруг тупыми рыбьими глазами.
– Чёрт, дайте ему кто-нибудь выпить, на его «контузию» смотреть тошно! – крикнул мой товарищ. – Пусть расслабится, сегодня у нас всех необычная ночь!
Все дружно рассмеялись.
– Оui, monsieur28, отменное дешевое вино, – достал бутылку из-за спины Гумбольт.
Гумбольт? Видимо, я уже многовато выпил, раз не заметил, как он появился в нашем дружном кругу.
– Дешевое вино – пойло дьявола, самое то, – одобрил его выбор товарищ.
Бутылка перешла в руки «сыночка» и беседа продолжилась.
– А ты, Фарго, доволен? – спросил один из присутствующих.
– Я политик, я никогда не бываю доволен.
– Всё им мало… – с ударением на каждое слово сказал мой товарищ.
Толстяк показал пальцем на него:
– Всё верно.
– Бессовестный…
– Мальчик мой, это ты будешь говорить мне о совести? Кто из нас сотрудничает с некоторыми мрачными личностями и их шайками головорезов?
Мой товарищ промолчал, отхлебнув из бутылки. Фарго сохранял спокойствие. Его голос мягок и нежен, будто он говорит слова любви, словно воркующий голубь. Всё это выглядело большой издевкой.
– Я слышал, тебя ценят как провокатора, вдохновителя… Хороший выбор.
– Ладно, ладно, заткнись, политикан. Ты выиграл.
– Ты же знаешь, что это не так. Все мы в итоге проиграем. Но… вам всё-таки тяжелее, да, вам тяжелее. Вы ведь все только сейчас испытываете эйфорию. Это можно сравнить с охотой, с мигом, когда охотник прицеливается и стреляет, допустим, в птицу, а верный пёс в его ногах замирает, готовясь к рывку. В это мгновение человек и гончая становятся одним целым: они рядом друг с другом и всё их существование подчиненно одной общей для них цели. А потом выстрел. Собака несется за падающей пташкой, а охотник наблюдает за этим, попивая благородный коньяк из фляги. Они снова сами по себе, хоть, и, казалось бы, пес готов облизывать хозяину ноги в знак обожания и преданности. Вот только человек не готов идти на такое в знак любви к своему питомцу, у него есть на эту борзую планы, далеко идущие планы…
Мой товарищ ничего не ответил на эти слова, прозвучавшие из оскаленной улыбки Фарго. Миг волшебного единения под куполом старого особняка продолжался.
Колонна казаков неспешно двигалась по главной улице города. Топот сотен копыт был на удивление мелодичен и приятен уху. Они проезжали мимо полицейских кордонов, за которыми на соседних улочках бушевала толпа. Но улица была полностью свободна и дорога для них была одна – в самый центр города. Непривычно видеть это место без людей. Магазины закрыты, вывески потухли, фонари, как обычно, ярко освещают мокрый асфальт, а люди иногда мелькают в окнах жилых домов – они готовят ужин на кухне, закрывают окна, отмахиваясь от шума с улицы, стараясь не замечать происходящего. Колонна перешла мост и ускорилась – их время пришло.
В какой-то момент с лестницы донесся крик:
– И как вам внизу?
– А кто говорит? – задорно ответил товарищ.
– Второй этаж!
По голосу я сразу узнал психолога. Обернулся – его пошатывающаяся фигура в белом халате стояла на верхней ступеньке лестницы.
– Друзья, я тут сочинил кое-что. Конечно, не гимн, а так… Что-то паршивое, но хочется с вами поделиться! Не возражаете?
– Давай!
– Давай!
– Да давай!
Психолог вытянулся по струнке, поднял голову и вдохновенно начал:
Смеялись громовыми раскатами,
Пока власть имущие
Топтали, сжигали, запрещали
Наши слова, картины и фильмы.
Злое перо их не знало покоя:
Указ за законом, указ за законом,
Цензура, цензура, цензура, аресты,
А смех становился всё громче и громче.
Все вещи в их жизнях стали трястись,
Будто мимо проехал поезд.
Они испугались, зарылись под землю,
Истошно крича о своём положении,
А гром был всё ближе и ближе…
Граааа! Аааа!
Он всё ближе, он ближе, он ближе…
Граааа! Аааа!
К чёрту приказы, бегите, бегите…
Граааа! Аааа!
Власть бросают под давлением грома.
Граааа! Аааа!
Теперь они хотят только жить.
Смех!
Смех! Смех!
Смех! Смех! Смех!
Появляется новая жизнь

