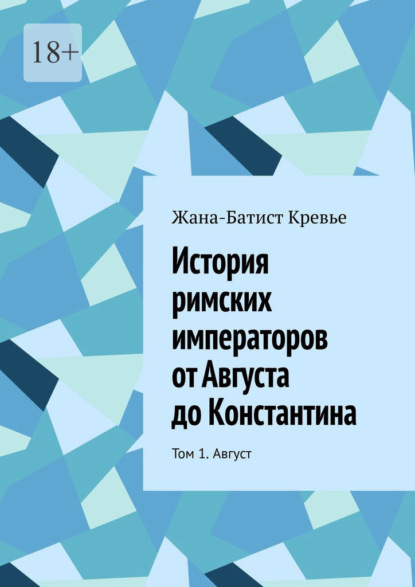
Полная версия:
История римских императоров от Августа до Константина. Том 1. Август
Августу также предложили пожизненную цензуру, но, следуя своему принципу кажущейся скромности, он отказался от этого звания. Более того, он настоял на избрании цензорами Павла Эмилия Лепида и Луция Мунация Планка.
Дион отмечает, что первый из этих цензоров был когда-то проскрибирован (вероятно, вместе со своим отцом Луцием Павлом, братом триумвира Лепида), а второй был братом проскрибированного – Плотия, чья смерть упоминается в истории Республики.
Веллей сообщает более интересные подробности об их характере: их правление прошло в раздорах, не принеся ни им чести, ни государству пользы. Павел не обладал твёрдостью, подобающей цензору, а Планк – нравственностью: один не имел сил нести бремя такой должности, а другой боялся, что, упрекая молодых людей в безнравственности, услышит в ответ те же упрёки в свой адрес, несмотря на преклонный возраст. Он был настолько неуважаем, что даже Луций Домиций, простой эдил, встретив его на улице, заставил цензора уступить ему дорогу.
Эдил был дерзок, но никогда цензор не заслуживал оскорбления больше. Планк, как уже отмечалось, сочетал позорные пороки с низкопоклонством самой бесстыдной лести. Он даже гордился этим и учил других: «Льстить надо не искусно, не тонко и не исподволь. Смелость во лжи пропадает даром, если её не замечают. Лучший льстец – тот, кого не уличают, особенно если его заставляют краснеть». Он хорошо знал людей, обычно неразборчивых в похвалах. Но превращать это правило в жизненный принцип – значит окончательно потерять стыд.
Эти двое стали последними частными лицами, совместно занимавшими должность цензоров. После них цензура либо исчезла из Республики, либо перешла к императорам, которые лишь в редких случаях делили её с кем-то ещё. Но даже без формального титула они обладали всей полнотой власти как надзиратели за нравами и законами.
Август в описываемое время использовал эту власть, чтобы компенсировать неспособность назначенных им цензоров. Он провёл ряд реформ для укрепления порядка и общественного спокойствия: ужесточил или вовсе запретил ремесленные гильдии, которые часто становились очагами мятежей; ограничил расходы на игры, установив максимальные суммы для преторов и выделив государственные субсидии; запретил магистратам устраивать гладиаторские бои без разрешения сената, чаще двух раз в год и более шестидесяти пар за раз (что показывает, насколько злоупотребления зашли). Он также запретил сенаторам, их сыновьям, всадникам и знатным женщинам позорно появляться на сцене, хотя раньше допускал это. Наконец, чтобы лишить честолюбцев повода для подражания Эгнатию Руфу, который прославился, туша пожары с помощью своих рабов, Август выделил курульным эдилам шестьсот государственных рабов для тушения огня.
Так он сочетал роль главы империи и реформатора с частной скромностью. Он лично участвовал в выборах, поддерживая своих кандидатов, и голосовал как простой гражданин. Он часто выступал свидетелем в судах, терпел допросы и даже резкие возражения.
Дион рассказывает случай этого года: некий Марк Прим, обвинённый в войне с одрисами во Фракии без приказа, ссылался на указания Августа. Тот явился в суд и заявил, что не давал таких приказов. Адвокат Прима, Лициний Мурина, грубо спросил: «Что ты здесь делаешь? Кто тебя позвал?» Август спокойно ответил: «Общественный интерес, который я не могу игнорировать». Хотя его мнение о Приме было ясно, многие судьи проголосовали за оправдание.
Он был верен в дружбе: навещал больных, приходил на свадьбы, совершеннолетия детей и другие семейные события. Лишь в старости он перестал, после того как его чуть не задавили в толпе на помолвке.
Он почти никогда не отказывался от приглашений на обед. Однажды, после скудного угощения, он лишь сказал хозяину на прощанье: «Я не думал, что мы так близки».
Если те, с кем он находился в дружеских отношениях, имели какое-либо дело, он ходатайствовал за них и присутствовал на суде. Он даже утруждал себя этим ради старого солдата, который говорил с ним с такой свободой, что любой другой счел бы себя оскорбленным. Этот солдат, имея тяжбу, пришел просить императора присутствовать при разбирательстве его дела. Август ответил, что слишком занят, и назвал одного из своих друзей, который должен был присутствовать вместо него. «Цезарь, – возразил солдат, – когда нужно было сражаться за тебя, я не посылал заместителя, а рисковал собственной жизнью». Август вместо того, чтобы разгневаться, уступил столь резкому упреку и лично явился, чтобы своим присутствием показать заинтересованность в деле солдата.
Хотя он многое позволял своим друзьям, он не стремился возвышать их над законами или насиловать правосудие в их пользу. Нонний Аспренас, к которому он был очень привязан, был обвинен Кассием Севером в отравлении. Август обратился к сенату за советом, что ему делать, опасаясь, как он говорил, что если поддержит Нонния своей рекомендацией, то покажется, будто укрывает обвиняемого от строгости закона; а если не сделает этого, то даст повод думать, что бросает друга и заранее осуждает его своим молчанием. По совету сенаторов он избрал средний путь: присутствовал на суде, но хранил молчание, лишь своим присутствием выражая поддержку Ноннию. Однако даже этими мерами он не избежал упреков обвинителя – человека необузданного и несдержанного на язык, который горько жаловался, что присутствие императора спасает человека, достойного величайших наказаний.
Примеры его умеренности в отношении тех, кто проявлял к нему неуважение и нападал на него в речах или памфлетах, бесчисленны. Однажды, находясь в загородном доме, он был обеспокоен совой, которая каждую ночь издавала свои печальные крики, и выразил желание избавиться от нее. Солдату удалось поймать птицу живой, и он принес ее императору, надеясь на щедрую награду. Август приказал выдать ему тысячу сестерциев (сто двадцать пять ливров). Солдат, ожидавший гораздо большего, выпустил птицу, сказав: «Лучше пусть живет». И эта наглая выходка осталась безнаказанной.
Его мягкость проявлялась даже в более серьезных вопросах. Когда он готовился к одному из своих путешествий, сенатор по имени Руфус за столом сказал, что желает, чтобы император никогда не вернулся; шутя о множестве жертв, которые обычно приносились в благодарность за его возвращение после долгого отсутствия, он добавил, что все быки и телята разделяют его желание. Эти слова не пропали даром и были тщательно записаны некоторыми из присутствующих. На следующий день раб Руфа напомнил своему господину о том, что тот сказал накануне в пылу винных паров, и посоветовал ему предупредить императора и добровольно признаться. Руф последовал этому совету. Он поспешил во дворец, предстал перед Августом и сказал, что, должно быть, безумие полностью помутило его разум. Он поклялся, что молил богов обратить его опрометчивое пожелание против него самого и его детей, и закончил просьбой к императору о прощении. Август согласился. «Цезарь, – добавил Руф, – никто не поверит, что ты вернул мне свою дружбу, если ты не одаришь меня». И он попросил сумму, которая не была бы малой даже для награды от Августа. Принцепс согласился, но с улыбкой добавил: «Ради собственного блага я впредь буду остерегаться гневаться на тебя».
Август не совсем игнорировал злобные нападки, направленные на его дискредитацию. Заботясь о своей репутации, он опровергал их либо речами в сенате, либо публичными заявлениями. Но он не знал, что такое месть, и придерживался на этот счет принципа, который я процитирую его собственными словами. Тиберий, чей характер был совсем иным, в письме убеждал его отомстить за оскорбление такого рода. Август ответил: «Мой дорогой Тиберий, не поддавайся пылкости твоих лет и не сердись так на тех, кто говорит обо мне плохо. Достаточно, чтобы нам не причиняли вреда».
Мы уже видели доказательство его милосердия и великодушия по отношению к памяти Брута, величайшего врага, которого он когда-либо имел. История дает нам еще один пример. Находясь в Медиолане (Милане), он заметил статую Брута – памятник благодарности народов Цизальпийской Галлии самому мягкому и справедливому из наместников. Он прошел мимо, затем остановился и, приняв суровый вид, упрекнул городских старейшин, окружавших его, в том, что они держат в своей среде его врага. Перепуганные галлы стали оправдываться и отрицать это. «Как же! – сказал он, обернувшись и указывая на статую Брута. – Разве это не враг моей семьи и моего имени?» Затем, видя их замешательство и молчание, он улыбнулся и с доброжелательным видом похвалил их за верность друзьям, даже несчастным, и оставил статую стоять.
Он проявлял такую же справедливость ко всем защитникам древней римской свободы. Однажды кто-то, думая угодить ему, стал порицать Катона и обвинять этого строгого республиканца в неуступчивости. «Знайте, – сказал Август, – что тот, кто противится изменению нынешнего государственного строя, – хороший гражданин и честный человек». Эти слова, полные благородства и смысла, воздавали должное Катону и предотвращали дурные выводы, которые могли бы быть сделаны из его примера.
Вергилий и Гораций знали, что не рискуют потерять его благосклонность, восхваляя Катона в своих произведениях. Помпей был осыпан похвалами в «Истории» Тита Ливия, и Август лишь пошутил, назвав этого знаменитого писателя сторонником Помпея, но не уменьшил своей дружбы к нему.
Общительный и близкий к народу, он, естественно, проявлял большое уважение к сенаторам. Он освобождал их от стеснительных церемоний, не желая, чтобы они приходили за ним во дворец, чтобы сопровождать его на заседания сената. Он принимал их знаки внимания в самом сенате и в ответ приветствовал их при входе и выходе, называя по имени. Но его учтивость и мягкость проявлялись не только в отношении сенаторов и знатных особ. Он допускал к себе толпу, позволял обращаться к себе даже самым низким гражданам и принимал их прошения с такой добротой, что ободрял даже тех, кого робость делала слишком застенчивыми.
Он желал, чтобы каждый пользовался своими правами, и предпочел оставить более тесным то здание, которое возводил в Риме, нежели принуждать владельцев домов, необходимых для его расширения, уступить их ему.
Имя господина и владыки всегда было для него предметом ужаса, потому что оно относилось к понятию раба. Однажды, когда он присутствовал на комедии, в пьесе прозвучал полустишие, означавшее: «О добрый господин! О справедливый владыка!» – весь народ обратил эти слова к нему и, повернувшись к Августу, рукоплескал. Но он с видом и жестом, полными негодования, тут же отверг эту низкую лесть, а на следующий день сделал народу строгий выговор через эдикт, вывешенный на площади. С тех пор он даже своим детям и внукам не позволял называть его этим титулом – ни всерьез, ни в шутливой ласке – и запретил им употреблять между собой эти приторные излияния, которые начала вводить рабская угодливость.
Его преемники не были столь щепетильны. Дурные правители, за исключением Тиберия, не довольствуясь именем господина, присваивали себе даже имя бога; а добрые в конце концов допустили титул, который утвердился в обычае. Плиний во всех письмах к Траяну неизменно обращается к нему: «Господин» (Domine).
Если Август по политическим соображениям, о которых говорилось в другом месте, допускал, чтобы в провинциях ему воздавали божеские почести, он мало придавал этому значения и даже иногда обращал это в шутку. Когда таррагонцы сообщили ему как о счастливом и лестном предзнаменовании, что на алтаре, посвященном ему в их городе, выросла пальма, он, смеясь, ответил: «Я вижу, как усердно вы жжете на моем алтаре фимиам».
Из приведенных черт, некоторые из которых плохо вяжутся с верховным величием, видно, насколько верно наше утверждение о природе власти Августа. Ясно, что он сам не считал себя верховным владыкой и был лишь главой и первым магистратом республики.
Однако даже столь умеренное и справедливое правление не избежало заговоров: до того ненавистна сама по себе новизна в столь важном деле, и она никогда не обходится без опасностей для своих творцов. В течение его правления против Августа было составлено несколько заговоров. Тот, о котором мне предстоит говорить, поскольку он относится ко времени консульства Марцелла и Аррунция, возглавлялся Фаннием Цепионом, о котором нам больше ничего не известно, кроме того, что Веллей одним словом характеризует его как злого человека, весьма способного на подобный замысел. Среди его сообщников история называет только Лициния Мурену, уже упоминавшегося в связи с судом над М. Примом, человека в целом не лишенного достоинств, но погубившего себя невоздержанностью языка и характера. Их злой умысел был раскрыт неким Кастрицием. Но Меценат, питавший слабость к своей жене Теренции, сестре Мурены, не смог удержать от нее секрет, и, получив через нее предупреждение, виновные бежали.
Их судили заочно. Тиберий, выступив обвинителем и преследуя их как оскорбителей величия, добился их осуждения, несмотря на отсутствие. Влияние Прокулея, весьма уважаемого Августом брата Мурены, известного своей братской любовью, не смогло вымолить снисхождения в деле, касающемся безопасности принцепса.
Римские законы назначали за самые тяжкие преступления лишь изгнание. Но военная власть императора лишила осужденных возможности воспользоваться чрезмерной снисходительностью законов: они были найдены в своих убежищах и казнены.
Впрочем, их преступление погубило только их самих. Философ Атеней, друг Мурены, бежавший и схваченный вместе с ним, отделался лишь необходимостью оправдаться – и, доказав невиновность, остался в покое, вне всякого преследования.
Отец Цепиона по случаю смерти сына совершил примечательный акт правосудия, давший Августу случай проявить свою умеренность. Из двух рабов преступника один защищал господина от солдат, его хватавших, другой его предал. Отец даровал свободу верному рабу, а предателя велел распять, приказав вести его на казнь через площадь с надписью, изобличавшей его вину. Август не выразил неудовольствия этим поступком: он извинил отцовскую любовь и не счел, что преступление сына должно лишать отца естественных чувств или права проявлять их.
Некоторые из судей высказались за оправдание обвиняемых. Не сказано, чтобы Август был им за это неблагодарен, но это дало ему повод установить полезное и разумное правило. Видно, что в римских судах не было твердого порядка судопроизводства против тех, кто, обвиняемый в преступлении, скрывался от суда, и даже отсутствие обвиняемого иногда считалось смягчающим обстоятельством. Это был злоупотребление, позволявшее преступникам ускользать от строгости правосудия. Август исправил его законом, повелевавшим, чтобы в подобных случаях судьи обязаны были высказываться устно, а не письменно, и все единогласно осуждали неявившегося обвиняемого.
Понятно, что в этом законе Август имел в виду себя самого, но мера была хороша и полезна сама по себе. Нельзя столь же оправдать его поступок в отношении Кастриция, через которого он узнал о заговоре Цепиона и Мурены. Когда этого человека впоследствии обвинили, Август явился на площадь и в присутствии судей так горячо вступился за него перед обвинителем, что убедил его отказаться от иска. Кастриций, оставшись без противной стороны, тем самым избавился от опасности.
Когда в Риме все успокоилось, Август предпринял большое путешествие, желая осмотреть восточную часть империи. Без сомнения, он хотел лично осуществить верховную власть, которая ему была вручена, и справедливо полагал, что присутствие принцепса посодействует прочному утверждению порядка и спокойствия.
Но едва он прибыл в Сицилию, как был вынужден вновь обратить внимание на Рим, где вспыхнули волнения из-за выборов магистратов. Это была почти единственная часть государственной власти, оставленная народу, но он не мог разумно ею распоряжаться – явное доказательство необходимости единовластия. Толпа упорно желала оставить одну консульскую должность для Августа, а другую отдать Лоллию, считая выборы уже решёнными. Когда Август дал понять, что не намерен принимать консульство, начались новые беспорядки, вызванные двумя претендентами на освободившееся место – Квинтом Лепидом и Луцием Силаном. Мятеж разгорелся так сильно, что многие полагали: Августу следует вернуться в Рим, чтобы усмирить его. Он предпочёл вызвать обоих соперников и после строгого выговора отослал их, запретив появляться на Марсовом поле во время народного собрания для выборов. Однако они продолжали интриговать через своих сторонников, и лишь после долгих беспорядков Квинт Лепид был, наконец, избран консулом.
М. Лоллий. Кв. Эмилий Лепид. 731 г. от основания Рима (21 г. до н. э.)
Это событие заставило Августа осознать необходимость иметь в Риме умного и авторитетного человека, способного поддерживать порядок в его отсутствие, и он воспользовался случаем, чтобы вернуть Агриппу. Более того, он решил возвысить его ещё больше, связав узами родства, выдав за него свою дочь, вдову Марцелла. К этому решению его склонил Меценат, который на вопрос об этом ответил буквально следующее: «Вы возвысили Агриппу настолько, что теперь вам остаётся либо убить его, либо выдать за него свою дочь». По свидетельству Плутарха, на решение Августа повлияла и Октавия, хотя её дочь Марцелла уже была замужем за Агриппой – она пожертвовала личными интересами ради блага империи. Агриппа был вызван, получил указания императора и поспешил в Рим, где, разведясь с Марцеллой (которая затем вышла за Юла Антония), заключил брак с Юлией – столь же блистательный, сколь и недостойный, столь же плодовитый, сколь и несчастливый.
Что касается спокойствия в Риме, Агриппа полностью оправдал ожидания императора. Его положение и достоинства внушали уважение, а таланты придавали ещё больший блеск его статусу. Под его твёрдым, но умеренным управлением всё было спокойно, и Рим почти не заметил отсутствия Августа.
Этот государь, по выражению Веллея, «приносил с собой повсюду благоденствие и преимущества мира, им созданного», не забывая, однако, и о строгости, когда считал её необходимой. Но укрощение своеволия и наказание преступлений – важная часть порядка, который является плодом мира.
В Сицилии он даровал Сиракузам и нескольким другим городам права римских колоний. В Греции передал лакедемонянам остров Киферу в награду за гостеприимство, оказанное ими Ливии во время бегства в Перузинскую войну. Напротив, афиняне, которые раболепно льстили Антонию и Клеопатре, понесли наказание за свою вечную склонность к угодничеству: Август отнял у их небольшого государства остров Эгину и город Эретрию, а также запретил им, как это было в обычае, продавать право гражданства.
Затем он отправился зимовать на Самос, где принял послов царицы Эфиопии, о которых упоминалось ранее.
В Риме народ спокойно провёл выборы консулов Апулея и Силия.
М. Апулей. П. Силий Нерва. 732 г. от основания Рима (20 г. до н. э.)
Как только наступила весна, Август вновь отправился в путь, посетив собственно Азию и Вифинию. Хотя эти провинции, как и Греция, формально подчинялись народу, император всё же осуществлял там свою власть. Мы видели, что сенат предоставил ему верховные полномочия над всеми наместниками в любой провинции, куда бы он ни направился.
Повсюду он действовал как верховный арбитр: назначал наказания и награды, одним раздавал щедроты, других облагал налогами. Особенно облагодетельствованы были жители Тралл, Лаодикии во Фригии, Фиатиры и Хиоса, сильно пострадавшие от ужасных землетрясений. Но кизикенцы лишились свободы – то есть права управляться по своим законам и через своих магистратов, – будучи подчинены назначенному префекту за то, что во время народного мятежа жестоко избили и даже казнили римских граждан. В Сирии он проявил такую же строгость к тирийцам и сидонянам, для которых свобода стала лишь поводом для мятежей и беспорядков.
Путешествие Августа в Сирию вызвало беспокойство у Фраата, который, видя римского императора так близко от своих владений, опасался, что его замыслом было развязать там войну. Он решил, что настало время выполнить условия договора, заключенного им в последний раз с Августом и, казалось, до сих пор полностью забытого. Он вернул римские знамена и пленных – несчастные остатки катастрофы Красса и бегства Антония. Тиберий получил почетное поручение принять их из рук послов парфянского царя.
Таким образом, Август стяжал славу, которую по справедливости предпочитал всем подвигам, достигнутым силой оружия. Действительно, было великим делом заставить единственную соперницу Рима, лишь одним страхом своего имени, воздать ему почести и признать себя – если не подданной, то по меньшей мере ниже его. Он имел право гордиться тем, что стер последние следы позора, который в течение сорока лет лежал на римском имени. Эта слава была предметом желаний диктатора Цезаря и Антония. То, что смерть помешала Цезарю совершить оружием, то, что так плохо удалось Антонию (ибо вместо того, чтобы смыть прежний позор, он усугубил его новым), Август достиг, не обнажая меча, а лишь явив себя. Этот подвиг был прославлен всеми возможными проявлениями общественной радости и восхищения: благодарственными молебствиями богам, овацией, дарованной Августу, триумфальной аркой, воздвигнутой в его честь, медалями, отчеканенными в память столь славного события. Август повелел, чтобы знамена, отнятые у парфян, были помещены в храме Марса Мстителя, который он построил как памятник победы при Филиппах; и по случаю этого всенародного отмщения, касавшегося всей нации, он подтвердил и укрепил прозвание «Мститель», данное им этому богу в память личного мщения, совершенного им над убийцами Цезаря.
После этого неудивительно, что великие поэты, жившие при Августе, наперебой старались увековечить в своих песнях то, что было предметом столь трогательной для их государя славы. Гораций посвятил этому великолепную оду, а в разных местах своих сочинений он, как и Вергилий, Овидий и Проперций, не упускал случая напомнить об этом.
Фраат предпринял еще один шаг в отношении Августа, который казался даже более покорным, чем возвращение знамен и пленных. Он отдал ему в качестве заложников своих четырех сыновей с их женами и детьми. Однако, поступая так, он руководствовался не столько желанием выразить почтение римскому величию, сколько заботой о собственной безопасности. Ненавидимый и презираемый подданными – и справедливо, за свои жестокости, – он видел в своих детях соперников и постоянно боялся, как бы парфяне не пожелали возложить его корону на голову кого-нибудь из них. Но если удалить их, то, зная привязанность своего народа к крови Арсакидов, он мог не опасаться никакого переворота. Эти принцы жили в Риме с царской роскошью, и при Тиберии мы увидим, как некоторые из них вновь появятся на сцене, оспаривая парфянский престол.
В пределах империи находилось несколько князей и народов, не подвластных, но союзных римлянам, которые владели своими небольшими владениями под защитой этих повелителей вселенной. Август, движимый духом справедливости и мира, не стремился уничтожить эти слабые государства, неспособные внушить ему опасения. Он позволил им управляться по своим законам. В царствах он обычно допускал наследование детей после отцов, но не позволял им расширять свои владения, разве что по его милости. Так, Ирод получил от него в дар небольшую область некоего Зенодора, объявившего себя непримиримым врагом иудейского царя; а этот князь, с нечестием тем более непростительным, что он знал истинного Бога, построил храм своему благодетелю в только что приобретенной земле. Несколькими годами ранее Юба, супруг Клеопатры, дочери Антония, был щедро наделен большей частью Мавритании. Напротив, когда умер Аминта, царь галатов, Август по какой-то причине, не указанной историками, не позволил его детям наследовать ему и обратил Галатию в римскую провинцию.
Армения, царство гораздо более славное и могущественное, чем те, о которых я говорил, но и менее зависимое от римлян, тем не менее получила царя из рук Августа после мира, заключенного и скрепленного с Фраатом.
Артаксий, сын низложенного и убитого Антонием Артабаза, царствовал тогда в Армении. Будучи врагом римлян, он держался лишь силой парфянского царя. Когда же эта опора исчезла вследствие примирения Фраата с Августом, против него поднялись смуты и мятежи, и многие вельможи его царства просили в цари его брата Тиграна, находившегося тогда в Риме, куда он был доставлен из Александрии, где был пленником после смерти Антония. Августу было бы легко воспользоваться этими раздорами, чтобы завладеть Арменией. Но он не знал жажды завоеваний и хотел лишь дать армянам царя, дружественного Риму. Однако, поскольку для успеха, казалось, потребуется применить военную силу, Тиберию было поручено это дело. Но события приняли иной оборот, и война не понадобилась. Артаксий был убит своими близкими, и Тиберию оставалось лишь возвести Тиграна на опустевший престол. Армянский князь, однако, недолго пользовался этим даром судьбы.
Хотя возведение Тиграна на армянский престол и не было военным подвигом, тем не менее этим воспользовались, чтобы от имени Тиберия назначить торжественные благодарственные молебствия богам. Эта первая военная честь воодушевила молодого пасынка Августа, уже питавшего высокие надежды благодаря мнимому чуду, о котором с особым тщанием повествуют Светоний и Дион. Они рассказывают, что когда он проходил через равнины Филипп, огонь сам собой возгорелся на алтаре, некогда посвященном там победоносными легионами. Но гораздо более верным предзнаменованием было честолюбие его матери и влияние, которое она имела на Августа. Тогда она добилась для сына командования в Сирии и всех восточных провинциях, которые Август оставил под его началом, возвращаясь на Самос.



