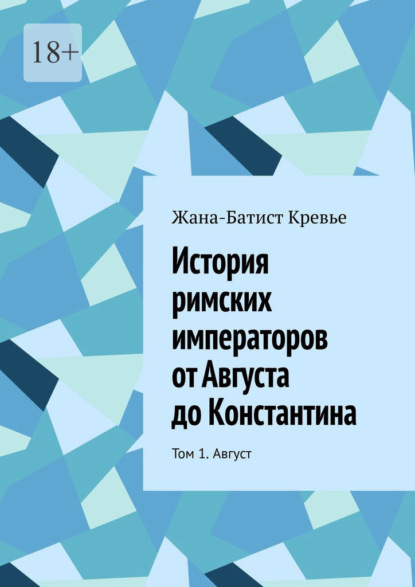
Полная версия:
История римских императоров от Августа до Константина. Том 1. Август
АВГУСТ – ИМПЕРАТОР
Однако Август не присвоил себе никакого титула, который прямо обозначал бы его как монарха. Он всегда выражал крайнее отвращение не только к имени царя, ненавистного римлянам со времён изгнания Тарквиниев, но даже к имени диктатора, отменённого законом Антония сразу после смерти Цезаря. Он действовал хитро: его искусство заключалось в том, чтобы сосредоточить на своей голове различные титулы, все уже употреблявшиеся, все сами по себе республиканские, и таким образом скрыть новую форму правления под старыми именами.
Первый из этих титулов – Император, от которого произошло слово «император». В республиканские времена этот титул употреблялся в двух значениях: во-первых, просто как обозначение военачальника, а во-вторых, как почётное и славное имя, дававшееся полководцу, одержавшему победу в важном сражении. Август, приняв этот титул, придал ему гораздо более широкий смысл, следуя примеру диктатора Цезаря, которому его также присвоили. Император в этом качестве был верховным главнокомандующим всеми силами империи, а все остальные военачальники были лишь его легатами – несомненно, царская привилегия в виде всеобщего командования. Ни один гражданин во времена республики не обладал таким правом. Тем не менее, пример Помпея позволял Августу утверждать, что он не вводит ничего совершенно нового. Помпей получил для войны с пиратами командование всеми морскими силами империи и всеми морями, а затем, для войны с Митридатом, ему было доверено командование всеми армиями, которые республика содержала в восточных провинциях. Что касается права управлять провинциями и армиями на большом расстоянии, не выходя из своего кабинета, то Помпей уже пользовался этим в отношении Испании: не покидая окрестностей Рима или, по крайней мере, Италии, он управлял этой обширной провинцией и всеми находившимися там легионами в качестве проконсула и главнокомандующего, осуществляя свою власть через легатов Афрания, Петрея и Варрона.
Император обладал абсолютной властью во всём, что касалось военной сферы. Только он один мог объявлять войну и заключать мир, производить наборы людей и взимать налоги. Меч был в его руках, и он использовал эту грозную власть не только над солдатами, но и над всеми гражданами, включая римских всадников и сенаторов. Этот титул, связанный с такими огромными правами, стал рассматриваться как особое и прямое обозначение верховной власти Августа и его преемников. Но поскольку он был чисто военным, он выдавал происхождение этого нового правительства, основанного на силе оружия. Военные это слишком хорошо почувствовали и впоследствии злоупотребляли этим до крайности. Таким образом, как отмечает г-н Боссюэ, если у республики был свой неизбежный недостаток – соперничество между народом и сенатом, то у монархии Цезарей также был свой недостаток, и этим недостатком была своевольность солдат, которые их создали.
Август старался предотвратить эту опасность, демонстративно подчиняя власть оружия власти законов. Ведь получение права командовать армиями от сената явно признавало превосходство гражданской власти над военной. Но реальность прорывалась сквозь эти тонкие покровы, и военные не обманывались на этот счёт.
Он также смягчал устрашающий военный титул императора другими титулами – смешанными или чисто гражданскими.
Он неоднократно занимал должность консула; и, не желая удерживать ее бессрочно, как бы из скромности, и чтобы оставить это высокое место полностью свободным для граждан, имевших право на него претендовать, после своего одиннадцатого консульства он получил проконсульскую власть, но только за пределами Рима и на определенные сроки, поскольку при республиканском правлении звание и полномочия проконсула принимались лишь при выезде из города и терялись при возвращении. Благодаря этой проконсульской власти считалось, что в любой провинции, куда бы он ни направился, он будет обладать верховным командованием над теми, кто ею управлял в тот момент. Та же привилегия ранее была предоставлена на всем Востоке Помпею, затем Бруту и Кассию. Чтобы приобрести в городе такую же власть, какая была дана ему над провинциями, Август вскоре после этого получил право и полномочия консула, даже не занимая эту должность, и присвоил себе все связанные с ней почести: двенадцать фасций и курульное кресло среди кресел консулов.
В тех же обстоятельствах он получил трибунскую власть, которая ранее неоднократно предлагалась ему, но безрезультатно. Он не был трибуном, ибо этот титул, предназначенный исключительно для плебеев, был ниже его достоинства. Но, благодаря удобной формулировке, уже придуманной для Цезаря, он, оставляя за собой название должности, обладал всей ее властью. Эта трибунская власть была для него чрезвычайно важна. Во-первых, она давала ему право предотвращать любые действия, противоречащие его воле, будь то в сенате или на народных собраниях. Из истории республики видно, как далеко простиралась эта власть трибунов, и можно судить, что в руках императоров она ничуть не ослабла. Более того, в силу этого титула их личность становилась священной и неприкосновенной. Не только покушения на их жизнь, но малейшие оскорбления и даже проявления неуважения считались преступлением против святости. Преемники Августа злоупотребляли этой привилегией, используя ее как повод для пролития множества невинной крови.
Впрочем, хотя трибунская власть предоставлялась императорам бессрочно, они тем не менее возобновляли ее, так сказать, ежегодно, и годы их правления отсчитывались по годам их трибунской власти.
Август и его преемники также присвоили себе цензорскую власть – либо под ее истинным и древним названием (что случалось редко), либо под именем надзора за законами и нравами. В силу этой власти они проводили перепись населения, вносили в списки всадников и сенаторов или исключали из них кого угодно.
Столько титулов, сосредоточенных в одном лице, давали им всю гражданскую и военную власть. К этому они добавили власть религиозную, столь влиятельную на умы народа. Август позволил Лепиду сохранять звание великого понтифика, пока тот был жив, ибо не существовало примера, чтобы кто-либо лишался его иначе, чем со смертью. Но как только оно стало вакантным, он присвоил его себе, и все его преемники владели им после него. Этот высокий титул давал им верховный надзор над всем, что касалось религии. Однако им и этого было мало. Они желали иметь прямой и непосредственный контроль над каждой частью божественного культа и для этого возглавили все жреческие коллегии – авгуров, хранителей Сивиллиных книг и прочие, так что стали единственными вершителями как священного, так и мирского.
Хотя казалось, что столь обширной власти уже ничего не могло недоставать, законы иногда стесняли ее осуществление. Август нашел средство против этого неудобства. Во времена республики существовал обычай испрашивать и получать освобождение от соблюдения законов в определенных особых случаях. Так, второй Сципион Африканский, Помпей и сам Октавиан были назначены консулами до достижения установленного законом возраста благодаря освобождению, дарованному сенатом и народом. Август распространил на все случаи то, что до тех пор применялось лишь к ограниченным нуждам, и добился всеобщего освобождения от соблюдения всех законов. Таким образом, в государстве, которое в основе оставалось республиканским, он обеспечил себе более свободную и независимую власть, чем когда-либо имели даже самые абсолютные монархи.
Что касается титула «отца отечества», который ранее был пожалован Цицерону во время его консульства, а затем диктатору Цезарю, то если Август и принял его, как и почти все его преемники, то не столько для того, чтобы присвоить себе права отцовской власти над гражданами, сколько как имя мягкости и нежности, напоминавшее правителю о защите и любви, которые он должен проявлять к своему народу, а народу – о сыновнем послушании, которым подобало отвечать на заботу и покровительство правителя.
Обремененный столькими титулами, Август осуществлял верховную власть в республике. Император, проконсул, обладающий всеми правами консула, наделенный трибунской и цензорской властью, свободный от уз законов и, наконец, великий понтифик, он сосредоточил в своем лице все виды власти – военную, гражданскую и священную. Фактически правление изменилось, поскольку никто более не мог осуществлять какую-либо власть в государстве иначе, как в зависимости от одного правителя. Но с точки зрения права можно сказать, что правление осталось тем же, поскольку императоры имели лишь те же магистратуры и те же титулы власти, что были в ходу во времена республиканской свободы. Правда, ранее эти магистратуры были разделены между многими лицами, но, сосредоточившись в одних руках, они не изменили своей природы.
Август принял эту систему из политической осторожности. Его не заподозришь в том, что в столь деликатном и важном вопросе он руководствовался мотивом религиозного уважения к законам. Это был страх перед народной ненавистью, забота о личной безопасности, которые научили его опасаться, как подводных камней, имен царя и даже диктатора. Но в итоге из плана, которому он следовал, вытекало, что ему была передана лишь верховная исполнительная власть, тогда как суверенитет по-прежнему коренился в сенате и народе.
Это ясно видно из фактов. Август получал свои титулы и полномочия от сената и народа. Эти два сословия, следовательно, были источником власти, а то, чем обладал Август, было лишь ее производным.
Сенат настолько сохранял суть суверенитета, что нередко осуществлял его. Ведь он не предоставил Августу все титулы и права, которые я перечислил, сразу. Этот принцепс, уже будучи императором, получил от сената освобождение от всех законов, проконсульскую власть, пожизненные права консула, трибунскую власть, право исправлять старые законы и издавать новые и даже право созывать сенат, когда ему угодно, и вносить в него любые дела, какие он сочтет нужным. Все эти уступки были актами суверенитета, осуществленными по отношению к самому Августу. Я укажу их даты по мере того, как они будут встречаться в дальнейшем изложении истории.
Окончательную ясность в этот вопрос вносит возобновление всех этих полномочий по решению сената – каждые десять лет для Августа и после смерти каждого императора для его преемника. Эти неоднократно повторявшиеся акты служат свидетельством того, что после каждого – действительного или мнимого – истечения полномочий главы империи полное обладание публичной властью возвращалось к сенату как к своему источнику и через него вновь передавалось тому, кто должен был ее осуществлять.
Я счел важным, чтобы читатель составил себе ясное и точное представление о природе правления, установленного Августом, и о различии между властью цезарей и истинной и полной монархией. С помощью этой идеи можно найти ключ ко многим выражениям и действиям, которые могут удивлять нас как в хороших, так и в дурных императорах; и прежде всего можно понять, по какому праву сенат не раз выступал против памяти или даже против личности некоторых из них.
Таким образом, Август осуществлял верховную власть, опираясь на все титулы, которые были сосредоточены в его лице. Военную сферу он оставил полностью под своим исключительным контролем – это была его сила и оплот. В гражданских делах он считал необходимым щадить чувствительность римлян и во многом льстить республиканским идеям, которые ещё жили в умах. Поэтому он сохранил всю внешнюю форму прежнего правления: те же названия магистратур, заседания сената, народные собрания. Конечно, он тщательно следил, чтобы ни сенат в своих решениях, ни народ при назначении на должности, ни магистраты при исполнении своих обязанностей не делали ничего противного его воле и интересам. Именно поэтому я сказал, вслед за Тацитом, «те же названия магистратур» [8], ибо реальной власти в них уже не было. Однако в безразличных для него вопросах он оставлял им свободу; даже в тех, которые его касались, он не пользовался тоном абсолютного властителя: он скорее прибегал к увещеваниям, и то, как все государственные учреждения слушались его приказов, выглядело почти как добровольное уважение.
Внешняя форма правления почти не изменилась. В Риме по-прежнему были консулы, преторы, народные трибуны, эдилы, квесторы, обладавшие теми же почётными правами, носившие те же знаки отличия и исполнявшие почти те же функции, что и во времена Республики, с той лишь разницей, что они отчитывались перед единым правителем, который старался не слишком явно демонстрировать их зависимость.
Число консулов оставалось неизменным – их по-прежнему было не более двух одновременно. Однако со времён триумвирата установился обычай (сохранившийся и при императорах) не оставлять консулов на должности на целый год. В начале каждого года назначалось несколько человек, которые должны были поочерёдно занимать консульство – одни в течение нескольких месяцев, другие ещё меньше.
Что касается преторов, их число и при Республике не было постоянным. В последний период оно остановилось на восьми. Цезарь увеличил его до двенадцати, а затем и до шестнадцати. Август чаще всего ограничивался двенадцатью, хотя иногда их было меньше или больше. При его преемниках в этом вопросе не было строгой определённости. Число двенадцать считалось нормой, но часто от него отступали, обычно в сторону увеличения.
Чтобы смягчить для знати утрату реальной власти в занимаемых должностях и заодно привлечь большее число граждан к участию в государственном управлении [9], Август ввёл новые должности или сделал постоянными некоторые временные поручения. Так, он учредил надзирателей за разными сферами: общественными зданиями, содержанием улиц Рима и порядком в кварталах, акведуками, очисткой русла Тибра, закупкой зерна и его раздачей народу. Похоже, эти должности существовали постоянно. В случаях, когда он считал необходимым провести пересмотр состава сената или всаднического сословия, он назначал трёх комиссаров для каждой из этих задач. Сам он взял на себя ремонт и содержание Фламиниевой дороги, а остальные важные дороги распределил между консуляриями и лицами, удостоенными триумфа, выделив им на расходы средства от продажи трофеев, которые они сами захватили у врагов. Таким образом, Август старался занять знать, подменяя реальную власть, которой он их лишил, видимостью административных полномочий, возвышавших их над остальными гражданами.
Он также учредил пожизненную должность префекта (или градоначальника) Рима. Но это была важная должность, требующая доверия, и Август заботился о том, чтобы она доставалась только надёжным людям. Долгое время её занимал Меценат; затем, то ли из-за утраты его влияния, то ли потому, что эта почти деспотическая власть, свободная от обычных формальностей, казалась слишком высокой для римского всадника, её передали Статилию Тавру, человеку незнатного происхождения, но благодаря своим заслугам и милости принцепса достигшему высокого положения в сенате и империи [10].
Таков был порядок, установленный Августом в отношении магистратур. В отношении сената он придерживался той же системы, сохранив за этим высшим органом Республики весь внешний блеск его прежнего величия: регулярные заседания под председательством консулов, обсуждение государственных дел, приём послов иностранных царей и народов, отсутствие новых установлений или отмены старых без санкции сената. Август испрашивал у сената и получал от него милости для себя, своих детей и близких. Всё церемониальное великолепие прежнего управления сохранялось – но реальное содержание изменилось.
Поскольку сенат собирался регулярно лишь дважды в месяц, а императору не было выгодно увеличивать число заседаний, он создал тайный совет, состоявший из его коллеги (если он сам был консулом) или обоих консулов (если не был), одного представителя от каждой коллегии магистратов и пятнадцати сенаторов. Срок службы этих советников составлял шесть месяцев, после чего их сменяли другие. Вместе с этим советом он решал дела, требовавшие быстроты, и подготавливал те, которые должны были быть вынесены на общее собрание сената. Хотя этот порядок был весьма выгоден для монархической власти, он не был новым: ещё во времена Республики консулы часто совещались со старейшими сенаторами по неотложным вопросам, и даже на Капитолии было специальное место для таких собраний.
Август также сохранил за сенатом право назначать наместников во все провинции. Лишь Египет, по причинам, о которых уже говорилось [11], управлялся римским всадником со скромным титулом префекта. Все остальные провинции – как те, что управлялись от имени сената и народа, так и те, что находились под непосредственным контролем императора, – возглавлялись сенаторами. Однако между наместниками этих двух типов провинций была важная разница: первые обладали большим внешним блеском, но меньшей реальной властью, тогда как вторые, при менее пышном церемониале, имели гораздо больше полномочий.
Прежде всего, все наместники «провинций народа» (как их называли) носили титул проконсулов, хотя только две из них – Азия и Африка – предназначались для консуляриев, а остальные, гораздо более многочисленные, – для бывших преторов. Они имели ликторов в количестве, соответствующем их рангу: двенадцать – для консуляриев, шесть – для бывших преторов. Они облачались в знаки своего достоинства при выезде из города и слагали их лишь по возвращении, согласно древнему обычаю.
Но их власть ограничивалась одним годом. Более того, им не разрешалось сразу после исполнения магистратуры в Риме отправляться в провинцию в качестве проконсула. Август, стремясь не допускать привыкания частных лиц к длительному обладанию властью, возобновил закон, принятый Помпеем во время его третьего консульства, и постановил, что преторы и консулы могут становиться наместниками провинций лишь через пять лет после окончания своих полномочий в Риме.
В своих провинциях они были простыми гражданскими магистратами [12], без какого-либо командования войсками, без каких-либо военных функций. Поэтому они носили только мирную одежду, а не меч и не доспехи. С согласия императора они выбирали себе асессоров, советников или заместителей – как бы их ни называли; к ним также по жребию приставлялся квестор, что доказывает, что они управляли финансами в пределах своей провинции, так же как и правосудием, но не с такой полной властью, как во времена республики. Император посылал в провинции народа, как и в свои собственные, прокураторов из всаднического сословия, а иногда даже из своих вольноотпущенников; и эти прокураторы, в чьи обязанности входило управление финансами принцепса, несомненно, были надсмотрщиками, которые во многом ограничивали и стесняли власть проконсулов в вопросах сбора и использования государственных средств.
Что касается выбора самих проконсулов, то первоначально он осуществлялся по жребию, согласно древнему обычаю. Но поскольку капризы жребия иногда приводили к тому, что эти должности доставались неспособным людям, император вмешался своим авторитетом. Он выбирал для вакантных провинций равное число подходящих кандидатов, обладавших необходимыми качествами, а жребий решал между ними.
Важные дела провинций народа должны были передаваться в сенат, который, как считалось, давал полномочия их правителям. Это было одним из древних прав, сохраненных сенатом политикой Августа.
Самое существенное различие в полномочиях между наместниками императорских провинций и проконсулами заключалось в том, что первые имели командование войсками, чего не было у вторых. Они были легатами императора, единственного полководца во всей империи. Поскольку император также был единственным проконсулом в своих провинциях, его легаты носили только титул пропреторов, даже если ранее занимали должность консула. Они носили знаки военного командования – меч и доспехи. Если их власть в провинциях была больше, чем у проконсулов, то, с другой стороны, она была более зависима от императора. Их назначение и отставка не регулировались ничем, кроме его воли. Они начинали носить знаки своего достоинства только в назначенной провинции и снимали их в момент отзыва. Они должны были немедленно покинуть провинцию в качестве частных лиц, и им предписывалось не затягивать срок возвращения, а в течение трех месяцев явиться к императору в Рим, чтобы отчитаться о своем управлении.
Эти легаты, несомненно, в качестве пропреторов, стояли во главе правосудия в своей провинции. Я не могу точно определить, насколько простиралась их власть в вопросах финансов. Они не имели, подобно проконсулам, права собирать государственные налоги. Прокураторы, о которых уже говорилось, обладали в императорских провинциях более широкими полномочиями, чем в провинциях народа, и были ответственны за этот аспект управления. И хотя они стояли ниже легатов по рангу, сомнительно, чтобы они подчинялись их приказам. Императоры охотно возвышали этих подчиненных чиновников, которые никоим образом не могли представлять для них угрозы. Иногда им даже давали власть наместников в небольших областях. Пилат, простой прокуратор, управлял Иудеей, как видно из евангельской истории.
Из всего этого описания формы правления, установленной Августом, следует, что, будучи абсолютной и монархической в военной сфере, она была смешанной в гражданской. Внутри Рима все решалось совместными действиями императора и сената. Провинции были разделены: и хотя тот, кто имеет в руках силу, всегда устанавливает законы, в обычном ходе вещей сенат свободно управлял своими провинциями, как император – своими. Даже государственная казна отличалась от фиска принцепса – различие, не имевшее реального значения, поскольку император распоряжался и тем, и другим, но это был пережиток республиканского устройства и своего рода заявление, что государство не принадлежит принцепсу, который должен рассматриваться лишь как управляющий средствами, собственность на которые сохраняла республика.
Этот дух проявлялся во всем: и хотя военная власть по своей природе подчиняет гражданскую, и хотя само течение времени неизбежно вносило изменения в некоторые частные аспекты, можно утверждать, что в целом система правления сохранялась, по крайней мере в течение многих веков, на тех же основах, что заложил Август; что империя никогда не становилась полностью монархией и всегда сохраняла память о своем республиканском происхождении.
В изложенной мной системе нового управления народу отводилось мало места, потому что права этого сословия, в котором некогда заключался суверенитет, были почти сведены на нет Августом и превращены его преемниками в пустые формальности. Единоличный правитель охотнее делится властью с знатью, чем с толпой, а чудовищные злоупотребления, которые народ допускал, обладая властью, оправдывали ее у него отнятие. Тем не менее Август, всегда стремившийся сохранить хотя бы видимость древних порядков, не пожелал отменять народные собрания: он оставил народу право избирать должностных лиц и участвовать в принятии новых законов посредством голосования – разумеется, при том условии, что он направлял действия этих собраний и приводил их к желаемому результату. Народ не сумел правильно использовать даже этот жалкий остаток власти; и когда Август оказывался в отсутствии во время выборов, почти неизбежно возникали беспорядки, которые могла усмирить только власть принцепса.
Тиберий изменил этот порядок, и уже в первый год своего правления он передал проведение выборов сенату, а народ выразил свое недовольство лишь бесплодными жалобами. Единственным напоминанием о его прежнем праве участвовать в выборах стало то, что его собирали для объявления результатов после того, как сенат их определял. Призрак законодательной власти еще сохранялся за народом в течение нескольких лет: мы знаем несколько законов, принятых при Тиберии [13] консулами по старой форме; есть один, принятый таким же образом при Нероне [14]. Это последние примеры подобного рода. С тех пор вместо законов в праве встречаются только сенатусконсульты. Народ собирался лишь для соблюдения формальностей, как, например, для принятия закона о предоставлении власти новому императору, утверждения усыновлений или в других подобных случаях. Таким образом, сенат объединил права народа со своими и приобрел привилегию единолично представлять древнюю республику.
Калигула хотел вернуть проведение выборов народу, но это начинание безумного принцепса, как и многие другие его фантазии, не имело последствий.
Таким образом, народ вскоре лишился всякого реального участия в управлении, и эти гордые завоеватели вселенной, эти граждане, которые ставили себя выше величайших царей мира и перед которыми некогда заискивали первые лица государства, чтобы получить командования и должности, отныне ограничили свои амбиции и желания подачками и раздачами хлеба, вина и мяса, которыми императоры облегчали их нищету, и зрелищами, которые забавляли их легкомыслие [15].
Римский народ при новом правлении мог казаться сильно утратившим свою прежнюю славу. Действительно, он лишился осуществления суверенитета, которым все граждане считали себя совместно обладающими, и тех прав этой власти, которыми они сообща пользовались. Однако это преимущество, столь лестное для самолюбия, уже давно стало постоянным источником беспорядков и несчастий для республики в целом и для каждого гражданина в отдельности. Римляне, потеряв бурную свободу, выродившуюся в ужасный произвол, строго говоря, лишились лишь мнимого блага – и были щедро вознаграждены за это прочными и реальными преимуществами, которые обеспечила им монархия.



