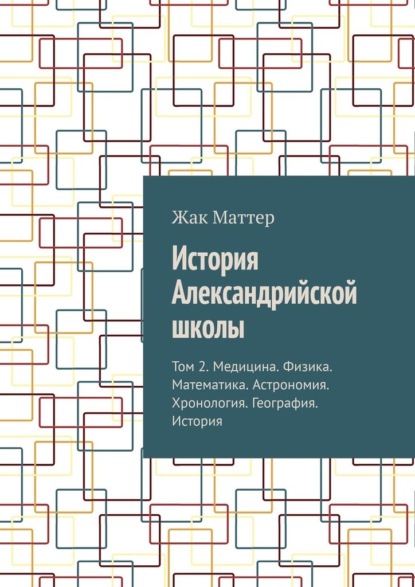
Полная версия:
История Александрийской школы. Том 2. Медицина. Физика. Математика. Астрономия. Хронология. География. История
Правда, можно усомниться в двух самых авторитетных источниках из тех, что мы привели, – в свидетельствах Платона и Аристотеля. Первый иногда вкладывает в уста Сократа сомнительные традиции, а «Эпиномис», где он говорит от себя, вероятно, ему не принадлежит. Что касается Аристотеля, чья учёность неоспорима, он, возможно, тоже не является автором трактата «О небе», на который мы ссылаемся.
Тем не менее, если Египет дал грекам основы математики, как утверждает традиция, переданная Диогеном Лаэртским (2), он также передал им астрономические практики, поскольку его работы в этой области были древними. Ко времени основания Александрийской школы, согласно этой традиции, Египет располагал наблюдениями 373 солнечных и 832 лунных затмений. Эти точные цифры, соответствующие длительному периоду времени, заслуживают внимания. Однако, хотя и возможно, что эти наблюдения проводились на протяжении двенадцати-тринадцати веков, есть обстоятельство, которое не позволяет приписать египтянам столь систематическое изучение небесных явлений.
Птолемей, живший в Египте в эпоху, когда греки уже не были столь невежественны, как во времена Евклида, и собиравший всё, что могло пролить свет на научные вопросы, не упоминает эти наблюдения. Сенека, правда, сообщает, что Конон и Архимед, жившие почти за четыре века до Птолемея, знали о них (1). Те, кто признаёт значительный прогресс египетской астрономии, справедливо указывают на точное расположение пирамид, ориентированных по четырём сторонам света, что доказывает умение точно определять меридиан.
Но как Сенека мог узнать о фактах такой важности, которые остались неизвестны Птолемею? Быть может, Созиген сообщил об этом в Риме? Но тогда эти сведения легко проверить.
Что касается второго аргумента, он, хотя и свидетельствует о несомненной способности египтян к наблюдениям, не позволяет нам принять традицию Диогена Лаэртского.
Эта традиция, возможно, та же, что дошла до Сенеки и которую мы встретим, говоря о трудах Конона, явно принадлежит эпохе, когда среди греков было принято считать, что египтяне достигли удивительных успехов во всех науках.
Если верить Святому Клименту Александрийскому, ещё одному эху этого мнения, жившему между Сенекой и Диогеном, египтяне научили греков движению планет вокруг Солнца (2). Это нельзя отрицать абсолютно, но это почти прямо опровергается слабостью теорий их учеников – Платона и Евдокса.
Тем не менее, остаётся несомненным, что египтяне точно наблюдали некоторые явления. Например, они вычислили гелиакический восход Сириуса, что подтверждается периодом Сотиса и древним календарём, начинавшимся с этого явления (1).
Но знали ли они до Фалеса наклон эклиптики и передали ли это знание греческим астрономам? Я не знаю ни одного текста или факта, который бы это подтверждал.
Как бы ни были слабы астрономические исследования в Египте ко времени греческого завоевания, наука о звёздах там уже зародилась. Правда, персидское владычество, войны и восстания отвлекли внимание от этих исследований, но храмы, хранившие эти знания, не были полностью разрушены.
Что касается вавилонян, они провели длинную серию наблюдений, и греческий мир узнал о них не только через Бероса и после походов Александра, но и раньше. Геродот утверждает, что греки научились у вавилонян пользоваться гномоном и делить день на двенадцать частей (4).
Финикийцы, предпочитавшие полезные практики теориям, также нуждались в астрономии для мореплавания. Они передали грекам часть своих знаний, например, научили капитанов ориентироваться по Малой Медведице (1).
Таким образом, греки получили астрономические знания с разных сторон. Однако их собственная астрономия была ещё молода. Гомер и Гесиод почти не упоминают о ней, не различая даже утреннюю и вечернюю звезду (2).
Но с появлением философов, изучавших математику, греки стали уделять больше внимания небу. Фалес, хотя и помещал Землю в центр Вселенной, учил о её шарообразности, знал наклон эклиптики и объяснял солнечные затмения (1). Его последователи, такие как Анаксимандр и Анаксагор, выдвигали менее точные теории, но их школа сделала важные шаги: построила сферу, измерила наклон эклиптики, усовершенствовала гномон и создала карты (4).
Пифагор и его школа пошли дальше, утверждая шарообразность Земли, Солнца и звёзд, а также движение планет. Однако многие приписываемые им идеи, например, о множестве обитаемых миров, могут быть позднейшими добавлениями (2).
Демокрит, объяснивший Млечный Путь как скопление звёзд, и Евдокс, составивший каталог звёзд, внесли значительный вклад. Но греческой астрономии не хватало систематических наблюдений.
Аристотель, хотя и ошибался, считая Землю неподвижной, способствовал популяризации астрономии. Его идеи, однако, затормозили развитие науки.
Таким образом, к моменту основания Александрийской школы основы астрономии были заложены, но многое оставалось на уровне теорий.
Примечания:
(1) Платон, «Федр»; Аристотель, «О небе».
(2) Диодор Сицилийский.
(3) Теон Александрийский.
(4) Цицерон, Плиний.
Глава VI
ХРОНОЛОГИЯ И ГНОМОНИКА.
Счастливые применения астрономии были сделаны также к хронологии и гномонике, подобно тому как арифметика и геометрия применялись к метрологии, механике и музыке.
Для хронологии движение Солнца дало год и дни, движение Луны – месяцы и недели.
Время, затрачиваемое Солнцем на прохождение интервала от одного солнцестояния до другого, делилось на дни и доли дней.
Для этих применений, как и для астрономии, вавилоняне и египтяне помогали грекам.
Кроме того, астрономическая или математическая хронология породила и усовершенствовала календарь – эту великую потребность народов, переходящих от пастушеского состояния к земледельческой жизни; и многочисленные усилия, одни более изобретательные, чем другие, были сделаны в этой области греческими астрономами.
Долгое время великая основа всей хронологии – год – была плохо установлена.
Египтяне создали свой солнечный год, который был
подвижным (1) и стал фиксированным только под греко-римским владычеством. Он состоял из двенадцати месяцев по 30 дней, всего 360 дней. Чтобы довести этот слишком короткий год до полного солнечного цикла, они добавляли пять дополнительных дней, называемых по-гречески «эпагоменными». Но этого добавления было недостаточно; не хватало ещё четверти дня, которую египтяне обнаружили позже. Однако, когда они её нашли, вместо того чтобы вставлять её каждый год для согласования годов с движением Солнца, они по религиозным соображениям сохранили свой подвижный год, чтобы иметь возможность праздновать свои религиозные праздники последовательно во всех сезонах, как они всегда делали. Это делалось, говорили они, чтобы приносить своим божествам более разнообразные дары.
Тем не менее, если египетский год, начинавшийся в месяце Тот, был подвижным, календарь основывался на неизменном астрономическом явлении – восходе Сириуса. С этим восходом они связывали эру, называемую циклом Тота (2) или сотическим периодом, длительностью 1462 года (3), начало которого было выбрано с замечательной точностью.
Действительно, трудно было найти более важное явление для египетского календаря, так как восход этой звезды совпадал с разливом Нила. Однако, раз выбрав это явление в качестве основы хронологии, нужно было, чтобы год действительно соответствовал небесному циклу. Но поскольку египетский год был короче на четверть дня, уже к четвёртому году он оказывался на целый день впереди восхода регулирующей звезды. Это расхождение составляло уже месяц через 118 лет или чуть более века (1), и достигало целого года через 1460 лет. То есть после этого цикла первый день месяца Тот снова совпадал с небесным циклом.
Такова была фиксированная точка, лежавшая в основе календаря; но эта основа подтверждалась только раз в 1460 лет и только на один год, так как со следующим восходом Сириуса начинался новый цикл расхождений.
Календарь, устроенный таким образом, был, несомненно, крайне неудобным. Пример покажет, насколько порочной была эта система, терпимая только благодаря суеверию или религиозным соображениям.
Восход Сириуса происходит 19—20 июля. Таким образом, сотический период, закончившийся, например, 20 июля 139 года нашей эры, начался 19 июля 1322 года до нашей эры, а период, закончившийся 19 июля, начался 20 июля 2782 года до нашей эры (2). То есть за почти три тысячелетия полное совпадение с Солнцем происходило только три раза. Если расхождения были малозаметны в первые и последние тридцать лет каждого 1460-летнего цикла, то в остальное время они были значительными.
Некоторые современные исследователи, более обеспокоенные, чем египтяне, трудностями, которые создавала такая подвижность, особенно в сельском хозяйстве, предположили, что в Египте было два разных года: один, называемый «гражданским», который мы описали, и к которому привязывались праздники, отмечаемые в разные сезоны; и другой, называемый «природным», который соответствовал небесному циклу и начинался с восхода Сириуса, регулируя сельскохозяйственные работы (1).
Первый из этих годов был связан с жречеством, второй – с народом.
В поддержку этой гипотезы приводятся тексты Веттия Валента (2), Порфирия (3), схолиаста Арата (4) и Гораполлона (5).
Но эти авторы принадлежат к эпохе, когда древний подвижный год египтян, называемый гражданским, уступил место фиксированному году римского владычества.
Их свидетельства имеют мало ценности, поскольку более древние авторы, такие как Геродот, Гемин и Цензорин, ясно говоря о гражданском годе, полностью умалчивают о природном годе. Однако из двух текстов Страбона можно с некоторой вероятностью заключить, что жрецы храмов, по крайней мере в Фивах, во времена Платона и Евдокса знали фиксированный год с вставками (6). Однако эта система, если она и существовала, не была общеизвестной и не входила в народный календарь, поэтому о ней не упоминалось в обычной жизни. Даже не все учёные, посещавшие Египет, знали о ней, поскольку во времена Фалеса жрецы сообщили этому философу только о подвижном годе (1).
Египетский календарь или хронология включали и другие циклы помимо сотического: цикл Аписа длительностью 25 лет, цикл Феникса – 500 лет, и ещё один цикл – 36 525 лет.
Последний представлял собой комбинацию сотического периода и цикла Аписа, созданную для согласования лунных явлений с истинным движением Солнца.
Другие видят в этом числе 36 525 лет великий мистический год, который должен был охватывать начало и конец всех вещей (2).
Эти деления времени – день и ночь как единое целое, неделя из семи дней как другой цикл, и часы, соответствующие дню и ночи, числом двадцать четыре – уже были установлены в египетском календаре.
Неделя была связана с семью планетами, имена которых носили дни и которые считались их покровителями (3).
Часы также находились под попеременным покровительством семи планет (4), так что, например, в день Сатурна первый час находился под защитой этой планеты, второй – Юпитера, третий – Марса, четвёртый – Солнца, пятый – Венеры, шестой – Меркурия, седьмой – Луны. Восьмой час снова возвращался к Сатурну, и цикл продолжался для всех 24 часов, так что первый час следующего дня приходился на Солнце.
Это были материалы, которые египтяне предоставили Александрийской школе, будь то для применения астрономии к календарю и хронологии или для астрологии.
Вавилония и Греция, в свою очередь, также предоставляли свои материалы.
Ни один автор не сообщает нам ни о годе, ни о месяцах халдеев. Считается, что деления, принятые в Халдее, были аналогичны египетским, поскольку эра Набонассара, имеющая вавилонское происхождение, считает годы по египетскому календарю, и Клавдий Птолемей, обычно приводящий сравнительные даты, указывает древнейшие наблюдения халдеев по египетским месяцам. Таким образом, предполагается идентичность египетской и халдейской хронологии. Однако среди учёных есть разногласия на этот счет (1).
Достоверно известно, что халдеи точно знали продолжительность тропического года. Они определяли её как 365 дней и 6 часов, ошибаясь всего на одну секунду в определении времени возвращения Луны в ту же точку эклиптики.
Они также установили несколько лунных циклов, включая цикл в 223 синодических месяца или 18 лет и около 11 дней (при расчёте 365¼ дня в год), называемый «сарос», который, по-видимому, послужил образцом для знаменитого цикла Метона у греков.
Этот малый сарос следует отличать от другого, большого, который вызывает больше затруднений. Берос делил свои анналы на саросы, неросы и соссосы; в этой системе сарос составлял 3600 лет, нерос – 600, а соссос – 60 (1).
Это указание Евсевия, повторённое Синкеллом, породило лишь гипотезы и бесплодные дискуссии. Действительно, от этих циклов не удалось извлечь никакой пользы, и даже не понятно, как Берос применял их в истории. Особенно много споров вызвал сарос, и чтобы связать его с циклом в 18 лет, некоторые даже предположили, что цифра 3600 обозначает дни.
Нерос был сокращён до 20 месяцев, а соссос – до 2 (2), но так и не удалось понять, какую пользу могла принести такая малая периодичность для анналов народа?
Вавилонская эра, называемая эрой Набонассара, была более полезной, хотя причины её названия неизвестны. Была ли эта эра связана с хронографической революцией (3), как считают некоторые, или с политической, как предполагали раньше, или с актом вандализма, как думают другие (4), она была лучше известна грекам, чем сарос, нерос и соссос или даже египетские циклы. Хотя греки часто посещали Египет с большим почтением к его науке, они мало использовали его астрономические работы для хронологии или календаря. Они больше интересовались математической хронологией вавилонян и астрономическими наблюдениями, которые к ней привели.
(1) Евсевий, «Хроника», I, стр. 11, изд. Венеции, перевод с армянского. – Синкелл, «Хроника», стр. 17. – «Journal des Savants», сентябрь 1760, январь 1761. – Фрере, «Mém. de l’Acad. des Inscript.», т. XVI.
(2) Де Виньоль, «Хронология священной истории», т. II, стр. 627. – Байи, «История древней астрономии», разъяснения, кн. IV, стр. 19.
(3) Иделер считает, без достаточных оснований, что эра Набонассара возникла из-за принятия этим царём египетского года, «Handbuch», т. I, 220, Берлин, 1825.
(4) См. Додвелл, «Prof. in append. ad Diss. Cyprian.», §23.
Иония, бывшая для греков колыбелью науки и находившаяся близко к центральной Азии, предпочла ли циклы и деления вавилонской хронологии египетским циклам, году и неделе?
Этот вопрос не имеет лёгкого ответа; по крайней мере, календарь и хронология, принятые у греков, не дают полезных элементов для его решения.
Греки, чей гражданский год сначала начинался зимой, 1-го числа месяца Гамелиона, позже стали начинать его летом, 1-го числа месяца Боэдромиона, то есть в июне или июле. Например, для 540 года до нашей эры это было 25 июня (1). Эта дата близка к 19 июля, началу египетского года, который, как мы уже сказали, был подвижным.
С другой стороны, греки по религиозным соображениям и в силу законодательства, основанного на храмовых традициях, сначала использовали лунные месяцы, и, в отличие от египтян, их праздники всегда были привязаны к одним и тем же фазам Луны. Поскольку они признавали только двенадцать лунных месяцев, а их годовой цикл был слишком коротким, их календарь уже к третьему году опережал солнечный цикл более чем на месяц, и поэтому они каждые два года добавляли вставной месяц (2), второй Посейдеон.
Эта система, приписываемая в Ионии Фалесу, а в Греции – Солону, который, скорее, был автором «пустых» месяцев (по 29 дней) и «полных» (по 30 дней), стала большим шагом в календарной науке. Но год, получившийся в результате, хотя и рассчитывался по Луне для месяцев, а по Солнцу для общего цикла, долгое время оставался чуждым народу. Поэтому в обыденной речи год состоял из 12 месяцев по 30 дней, всего 360 дней.
Применение этой системы, где вставной месяц добавлялся каждые два года, столкнулось с проблемой: из года, который был короче на 5¼ дня, получился год, длиннее на 9¼ часа.
Потребовалась новая система, и Клеострат из Тенедоса создал октаэтериду (1) – цикл из 8 лет с тремя вставными месяцами, добавляемыми каждые восемь лет.
Это согласовало год с движением Солнца. Затем захотели согласовать месяцы и дни с Луной. Однако каждые шестнадцать лет расхождение с лунным циклом составляло 3 дня. Поэтому эти три дня добавлялись через цикл в 16 лет.
Это было исправлением, но оно оставалось несовершенным, так как за 160 лет накапливалось 30 лишних дней.
Чтобы избежать этого, из 160-летнего цикла вычитали один месяц, взятый из последней октаэтериды, то есть вместо трёх вставных месяцев добавляли только два.
Этот двойной цикл в 16 и 160 лет, оставаясь несовершенным, был исправлен усилиями Гарпала, Навтела, Филолая, Энопида, Демокрита и Критона.
Наконец, он был полностью заменён 19-летним циклом, или эннеадекатеридой, изобретённой тремя астрономами: Метоном, Евктемоном и Филиппом (2).
Этот цикл, начатый 16 июля 433 года до нашей эры, всё ещё давал год, немного превышающий истинный, так как он составлял 365 дней и 5/19. Он был исправлен Каллиппом и заменён циклом в 76 лет, в конце которого вычитали один день, поскольку он был слишком длинным и не совпадал идеально ни с Солнцем, ни с Луной.
Каллиппов период, введённый в 331 году до нашей эры, был широко принят астрономами, как видно из примера Клавдия Птолемея. Однако, поскольку он всё ещё был немного велик, другие греческие астрономы работали над созданием лучшего, и эти усилия занимали их как раз в момент основания Александрийской школы. Естественно предположить, что первые математики этой школы, особенно те, кто вышел из школ Афин и изучал теорию цикла Метона, исправленного Каллиппом, занимались этим вопросом.
Другие учёные, воспитанные под македонским владычеством в Европе или Азии, привносили в свои работы иные взгляды и привычки. Во времена Демосфена македонцы, казалось, приблизили свой календарь к афинскому, от которого их месяцы, как и коринфские, отличались только названиями (1). Их год, как и афинский, сочетал солнечный и лунный циклы, что, по-видимому, свидетельствует о том, что они внимательно следили за улучшениями, внесёнными астрономами в греческие циклы. Однако македонцы не отказались от своей особой хронологии и, более того, распространили её вместе со своей империей на провинции Малой Азии, Сирию, Египет и даже Вавилон.
(1) Гемин, «Введение в астрономию», гл. 8. – Бёк, «Программа лекций Берлинского университета», Пасха, 1816.
(2) «Тринадцатый месяц». Цензорин, гл. 3. – Этот 25-й дополнительный месяц завершал так называемую «триэтериду», которая на деле была диэтеридой, и её установление приписывается Солону.
Монументы и тексты не оставляют сомнений в этом факте (2), поэтому естественно предположить, что учёные, родившиеся под македонским владычеством, принесли в Музей иные привычки, чем остальные греки. Более того, македонская хронология, установившись в странах, завоёванных Александром, не полностью вытеснила местные системы, которые оставались в обиходе. Это создавало трудности для народов, но давало учёным богатый материал для изучения, приводя к слияниям и модификациям, которые становились новыми элементами исследований.
Важнейшей задачей для них было создание календаря, который в то время (и впоследствии) не был просто перечнем дней, недель и месяцев, но также включал указание религиозных праздников, основных астрономических явлений Солнца, Луны и планет для данной местности, а также сельскохозяйственных работ. Однако при создании календаря для Египта, который мог бы подойти разным народам, объединённым под властью Лагидов, или хотя бы гражданским властям, управлявшим ими, разнообразие институтов, верований и обычаев добавляло новые сложности к уже существующим из-за различий в широтах и почвах, которые тоже нужно было учитывать.
Как видно, примирить такие разные элементы было непросто. Но была ли такая система установлена или хотя бы предпринята?
У нас нет ни одного памятника, который мог бы показать, как это было сделано; но вероятно, что в начале империи Лагидов и даже долгое время после этого для разных народов сохранялись разные календари, так как один и тот же календарь не мог подходить всем. Множественность этих систем была неудобна для правителей, но выгодна для народов.
Она также обогащала науку, так как чем больше календарей сохранялось, тем больше материала было для прогресса исследований и восстановления их истории.
Главная трудность заключалась в разногласиях между египтянами и греками относительно фиксированности или подвижности года: первые хотели праздновать одни и те же праздники в разные сезоны, вторые – в одни и те же даты.
Два календаря не совпадали ни в начале, ни в конце года, ни в продолжительности месяцев: у египтян было строго 12 месяцев (1) по 30 дней, не привязанных к сезонам, а у греков месяцев было то 12, то 13, то 29, то 30 дней, привязанных к неизменным праздникам и даже по названиям связанных с сезонами (2).
Было разногласие даже в определении дня: греки начинали его с захода Солнца, а египтяне – с полуночи или полудня, согласно Плинию или Клавдию Птолемею, чьи расхождения могут свидетельствовать об изменениях в египетской системе.
Наконец, египетский календарь основывался на великом сотическом цикле, а греческий – на малом цикле Метона, который этот астроном создал в соответствии со своими расчётами.
В результате, помимо прочих изменений, при согласовании двух систем приходилось отказываться от одного из этих циклов.
Вавилонский календарь предоставлял александрийским учёным дополнительные элементы, но не создавал проблем ни для народа, ни для правительства, которые им не пользовались: достаточно было согласовать Египет и Македонию, ни одну из которых нельзя было игнорировать, не нарушая устоявшихся обычаев и священных традиций. Афинский календарь с его особенностями также не учитывался, несмотря на его преобладание в греческой учёной среде.
(1) Это были Тот, Паофи, Атир, Хойак, Тиби, Мехир, Фаменот, Фармути, Пашон, Пайни, Эпифи, Месори.
(2) Гекатомбеон, Метагитнион, Боэдромион, Пианепсион, Маймактерион, Посейдеон, Гамелион, Антестерион, Элафеболион, Мунихион, Таргелион, Скирофорион.
Самой важной из этих систем был, естественно, календарь правителей страны – македонский, который стал доминировать в Египте, как и в центральной Азии, где вавилонские месяцы вскоре перестали упоминаться в официальных документах и исторических трудах, которые ограничиваются описанием делений дня и часов у вавилонян.
Похоже, этот народ не измерял время по фазам Луны. Они начинали гражданский день с восхода Солнца, делили его на двенадцать частей и различали часы на гражданские (подвижные) и астрономические (фиксированные), одни – всегда равные, другие – меняющиеся в зависимости от продолжительности дня.
Эти сведения, несомненно, достигли греков ещё до работ Александрийской школы.
Они особенно распространялись через их колонии, и у нас есть любопытные данные о попытках применения вавилонской астрономии в Ионии. Действительно, ионийцы переняли у вавилонян не только деление времени, но и инструменты для измерения дневного движения Солнца – полюсные часы (κόσμος или ὡρολόγιον) и гномон (1).
Самым чуждым элементом для греческой астрономии и календаря была неделя, происхождение которой неизвестно. Египтяне могли заимствовать её у семитских народов или, наоборот, передать им, но она так хорошо вписывалась в их религиозные представления, что, вероятно, была у них с древности. Впрочем, при рассмотрении этого вопроса следует различать использование семидневного цикла, который мог восходить к глубокой древности, и наименование дней по планетам, которые считались их управителями. Последнее, возможно, связано с астрологией более поздних времён (2), но это не противоречит древности семидневного цикла.
(1) См. выше об Анаксимандре и Анаксимене.
(2) См. Дион Кассий, кн. XXXVII, гл. 17.
То, что заставляет нас считать его древним, – это то, что каждый из двенадцати месяцев в Египте находился под особым покровительством великих божеств, и после разделения месяца на четыре цикла естественно было поставить дни под защиту планетных духов.
Во всяком случае, богатство применений астрономии, математической хронологии и календаря в разных регионах, чьи труды теперь сосредоточились в Александрии, создавало для учёных этого города одновременно большие трудности и мощные стимулы для работы.
Трудности присутствовали даже в такой малоразвитой тогда науке, как география, которую завоеватель Азии обогатил наиболее непосредственно.
Каково было состояние этой науки?
Глава VII
О ГЕОГРАФИИ



