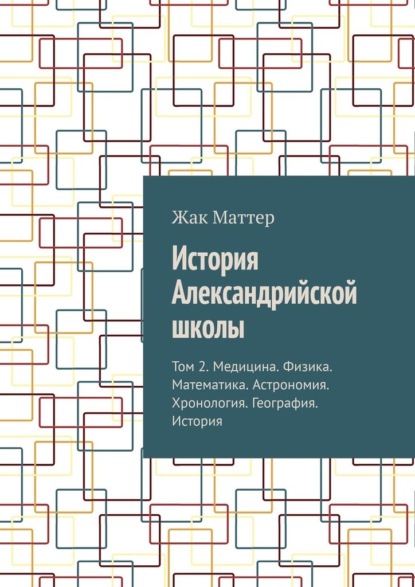
Полная версия:
История Александрийской школы. Том 2. Медицина. Физика. Математика. Астрономия. Хронология. География. История
Египет подготовил Музей к восприятию греческой науки. Египтяне давно практиковали анатомию при бальзамировании и обладали кодексом, регулирующим деятельность врачей, что отражало многовековой опыт наблюдений.
Таким образом, на берегах Нила всё было готово для утверждения науки, которая в Греции шла рука об руку с философией.
В древней Греции медицина, в отличие от теологии и юриспруденции, имела несколько школ на материке и островах. Эти школы, почти все постоянные, не только пользовались большим уважением и терпимостью властей, чем философские, но и, будучи связаны с храмами, наделяли своих руководителей высшим авторитетом, почти жреческим. Жрецы Эскулапа практиковали врачевание как в храмах, куда стекались больные, так и в городах, куда они сами приносили свои знания (1).
(1) Пример Гиппократа подтверждает это. См. у Шульце, Historia medicinae, стр. 232, противоположное мнение и объяснение мифа о Эскулапе-громовержце. Idiot. de Orig. IV, 3.
Глава II
ПРЕЕМНИКИ ГЕРОФИЛА И ЭРАСИСТРАТА ДО ИЗГНАНИЯ ГЕРОФИЛИАН ПРИ ПТОЛЕМЕЕ VII.
С 265 по 135 год до н.э.
Таковы были масштабы открытий двух анатомов, столь увлечённых прогрессом науки, что с этого времени врачебное искусство, ранее объединявшее медицину и хирургию, разделилось на две самостоятельные дисциплины, а вскоре возникла третья – диететика. Однако школы, основанные Герофилом и Эрасистратом в Александрии, не смогли удержать науку на достигнутой высоте, а их ученики, создавшие новые школы в Греции, колониях и на островах, продвинулись ещё меньше. Подобно философским школам, они погрузились в застой, слепо почитая доктрины своих основателей. В этих школах дух партийности и эрудиции вытеснил самостоятельные исследования и наблюдение природы.
В медицинских исследованиях сформировались два враждебных лагеря: догматики (теоретики) и эмпирики (практики), чьи крайние позиции порождали ошибки. Эти тенденции, свойственные ограниченному человеческому уму, проявлялись и в философии.
Теория уже господствовала однажды, но Гиппократ низверг её. Однако его сын Тессал, врач македонского царя, восстановил её. Последователи Аристотеля симпатизировали теории, и даже внук философа, Эрасистрат, невольно способствовал её развитию. В учёной Александрии большинство герофилиан стали догматиками.
Деметрий из Апамеи, считавшийся преемником Герофила, якобы основал новую школу, но его вклад оказался незначительным.
Принято считать, что герофилиане были догматиками, а эрасистратианцы – эмпириками. Однако это упрощение. Например, Филин из Коса, ученик Герофила, возглавил эмпириков, а его ученик Серапион Александрийский стал ещё более ярым противником догматизма.
Эмпирики, опиравшиеся на труды Эрасистрата, считали наблюдение главным источником знания, аналогию – второстепенным, а логику – инструментом полемики. Они доказывали, что теория бесплодна, а важна лишь практика.
Хотя эрасистратианцы склонялись к эмпиризму, не все из них были эмпириками.
Установить точную принадлежность врачей той эпохи к школам сложно из-за смешения идей и перемещений между городами: Римом, Афинами, Антиохией, Смирной.
Александрия оставалась центром медицинских теорий, но ученики, покидая её, распространяли знания по всему греческому миру. Прогресс науки от Герофила и Эрасистрата до Галена связан с александрийской школой, хотя он и не был непрерывным. Эмпиризм, пренебрегавший анатомией, возобладал, но некоторые труды заслуживают внимания.
Среди герофилиан выделялись Каллимах, Бакхий, Мантий и Андрей из Кариста. Мантий создал первый сборник лекарств, Каллимах критиковал обычай использовать цветы на пирах, Бакхий комментировал афоризмы Гиппократа, а Андрей написал трактат о преемственности медицинских школ.
Эрасистратианцы не отставали. Стратон из Берита и Аполлодор из Селевкии прославились. Стратон из Лампсака исследовал мозг как вместилище души, но его идеи позже исказили френологи.
Однако в Александрии возобладала школа Филина, эмпирики которой стали скорее софистами, чем врачами, пренебрегая анатомией. Исключением был Гераклид из Тарента, изучавший яды и растения.
Медицина превратилась в изысканную науку для элиты. Лагиды поощряли её, но придворная жизнь вредила глубине исследований. Атталиды, соперничая с Лагидами, сделали Пергамский центр конкурентом Александрии. Слава Аттала-ризотомиста и Никандра-токсиколога затмила александрийских врачей.
Один из Лагидов, сам того не желая, способствовал этому, изгнав многих учёных из Александрии (1).
(1) См. выше, т. I, стр. 207.
Глава III
От ухода герофилианцев до Галена
Действительно, герофилианцы и эразистратовцы, по-видимому, покинули Александрию при Птолемее VII, когда город был охвачен массовыми убийствами, насилием и деспотическими безумствами, которые врачи, к их чести, умели меньше скрывать и терпеть, чем другие учёные, более искусные в оправдании кровавых прихотей. Во всяком случае, последователи Герофила основали свою главную школу в храме во Фригии, между Карурой и Лаодикеей, в то время как город Смирна стал центром эразистратовцев.
Во времена Асклепиада из Прусы, когда эмпирическая школа, основанная в Александрии на принципах Филина с Коса, вновь обрела некоторый блеск, Александрия уже не была её главным центром. Ещё в 220 году до нашей эры Архигат принёс её имя и принципы в Рим. Асклепиад из Прусы, обладавший талантами скорее ритора и софиста, чем врача, тем не менее добился триумфа эмпиризма на этой сцене. Будучи сторонником анатомической системы Эпикура, он также придерживался его эвдемонизма, ведь эвдемонизм применим как к телу, так и к душе. Предпочитая приятные и лёгкие средства лечения агрессивным методам Архигата, он добился над ним огромного преимущества.
Его метод заслуживал этого. Не нарушая гармонии человеческого организма, он разумно вмешивался в борьбу природы, осуждая в лечении как излишнюю осторожность, так и излишнюю смелость, остроумно называя нейтралитет, который Гиппократ рекомендовал в наблюдении за этим процессом, «размышлениями о смерти». Асклепиад, близкий друг Цицерона и Лициния Красса, много писал. К счастью, его мало читали. Поскольку он плохо знал анатомию, он мог бы отбросить науку назад, если бы его слушали.
Глава четвёртая
От Галена до конца Александрийской школы
Гален, человек великого ума, положил конец этим бесплодным спорам, во II веке нашей эры вступив на путь наблюдения с факелом науки и поднявшись над всеми мелкими последователями великих людей, вплоть до школ Эразистрата и Герофила, а точнее – до школы Гиппократа. Действительно, Гален любил называть себя гиппократиком. Однако он был тем, кем должен был быть превосходный ум того времени – эклектиком и учёным прежде всего.
Александрийская школа, которая могла бы упрекнуть его в несправедливости, в своём восхищении Галеном пошла дальше всех. Учёность должна была привлекать её больше, и она любила её комментировать.
Орибасий, ученик Зенона, друг Юлиана и придворный врач, был лишь подражателем Галена. Он составил сокращённое изложение его трудов, а затем – обширные выдержки из основных медицинских трактатов.
После Галена Александрийская школа постепенно утратила дух исследования. Последние её представители – Иоанн Александрийский, Павел Эгинский и Палладий – были менее суеверны, но и менее склонны к открытиям. Они оставались лишь учёными теоретиками или эрудированными комментаторами.
Тем не менее, было бы крайне несправедливо не признать огромных успехов александрийцев, включая создание новых областей исследований. Школа Александрии добилась ещё большего прогресса в математике, астрономии и географии, а также в прикладных науках, которые станут предметом следующих книг.
ТРЕТЬЯ КНИГА
ИСТОРИЯ МАТЕМАТИКИ, АСТРОНОМИИ И ГЕОГРАФИИ, А ТАКЖЕ МЕХАНИКИ И МУЗЫКИ, МЕТЕОРОЛОГИИ, ХРОНОЛОГИИ И КАЛЕНДАРЯ В АЛЕКСАНДРИЙСКОЙ ШКОЛЕ. ПЛАН ИССЛЕДОВАНИЯ.
Изучение математики и астрономии начинается в Александрийской школе с Евклида; именно этот знаменитый математик предоставил учёным греческого Египта средства для придания географии научного направления.
Чтобы по достоинству оценить математические, астрономические и географические труды, выполненные самим Евклидом и его преемниками в Александрийской школе, необходимо сначала изучить состояние этих наук до появления великого геометра.
Этому будет посвящён первый раздел данной книги.
Затем мы рассмотрим прогресс, достигнутый Евклидом и его последователями в математике, астрономии и географии.
Эти вопросы будут освещены в трёх последующих разделах: первый посвящён арифметике, геометрии и прикладным наукам, связанным с ними; второй – астрономии, гномонике и хронологии; третий – различным направлениям географии.
ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ
ОБЗОР СОСТОЯНИЯ МАТЕМАТИКИ, АСТРОНОМИИ И ГЕОГРАФИИ ДО АЛЕКСАНДРИЙСКОЙ ШКОЛЫ.
Глава I
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ.
Часто утверждают, что Александрийская школа создала точные науки. Это преувеличение, но несомненно, что до её работ у древних не было целостных доктрин ни в геометрии, ни в астрономии.
Не было их даже в политической географии, изучение которой было более продвинутым. В школах Греции встречалось множество разрозненных наблюдений, некоторые общие теории и искусные практики, но в изучении звёзд не хватало точности, а измерения расстояний на Земле заслуживали мало доверия.
Таким образом, существовали элементы для создания научных систем, но не было точных доктрин. Неоспоримая заслуга знаменитой школы Птолемеев заключается в том, что она превратила эти начатки в системы и обогатила их рядом открытий, которые окончательно утвердили точные науки в греческих школах.
В этом смысле можно без преувеличения говорить о творениях александрийского гения.
Однако, чтобы точно определить вклад Александрийской школы, необходимо сначала установить, какое наследие она получила в начале своей работы, и на основе текстов выяснить, какие теории Греции или Египта были ей известны.
Если бы мы могли сравнить последние труды древних школ и первые работы Александрийской школы, это позволило бы легко составить такой перечень. Но до нас дошли лишь труды александрийцев, а работы их предшественников, особенно те, что были до Евклида, были забыты из-за трудов этого учёного и его последователей. Более того, даже история древних трудов, таких как история геометрии и астрономии, написанные Теофрастом, или аналогичные работы Евдема Родосского, почти не изучалась в Александрийской школе.
Учёное замечание г-на Азе, если оно верно, усиливает наше удивление:
«Сочинения Теофраста, упомянутые Диогеном Лаэртским под названиями „История геометрии“ и „История астрономии“, возможно, были сборниками наблюдений или исследований, а не историями в современном понимании».
Если это так, то разве не удивительно, что александрийцы не цитировали эти наблюдения или исследования?
Для описания состояния науки до Евклида мы вынуждены, на первый взгляд, даже для Греции, опираться на скудные и зачастую недостоверные сведения, разбросанные у античных историков.
Тем не менее, если бы это было абсолютно так, оценить состояние науки до александрийцев было бы невозможно. На самом деле, у нас больше ресурсов, чем кажется.
Действительно, до нас дошли некоторые трактаты по геометрии и астрономии, созданные до Александрийской школы. Кроме того, ряд научных фактов изложен так определённо – будь то указания историков, связи между науками или их практические применения, – что можно сделать точные и плодотворные выводы.
Конечно, невозможно составить абсолютно точный перечень состояния наук до Евклида, но можно оценить общую ценность наследия, переданного Александрийской школе её предшественниками. Мы постараемся сначала показать, в каком состоянии Евклид застал математику, астрономию и географию, а затем указать прогресс каждой из этих наук до конца существования школы, которую они прославили.
Под математикой мы понимаем арифметику, алгебру и геометрию, а также применение их принципов в механике, музыке и метрологии.
В астрономию мы включаем её приложения в хронологии и гномонике.
В географии мы выделяем три основных направления: математическую географию, физическую географию и политическую географию.
Излишне говорить, что наша цель – не специальная история этих наук до Александрийской школы (тема столь же обширная и сложная, как и наша), а общий обзор их состояния в момент зарождения школы Птолемеев.
Известно, где Евклид мог устанавливать связи и делать заимствования: это Греция, где он получил образование, Египет, где он преподавал, и регионы Азии, которые стали доступны грекам благодаря завоеваниям Александра – Малая Азия, Персия, Халдея и Индия.
Правда, ни в одном из этих регионов не было школ, охватывающих весь спектр научных или литературных исследований, и ничто не напоминало Мусейон, основанный в Александрии Птолемеями. Даже школы Афин были более ограниченными в своих планах и методах. Тем не менее, в каждом из этих регионов география, астрономия и математика развивались, и между ними существовали связи ещё до Александрийской школы. Действительно, выдающиеся греческие учёные посещали берега Евфрата и Нила, и даже если не считать эллинов учениками египтян или вавилонян, можно сравнить знания этих трёх народов.
Глава II
АРИФМЕТИКА.
Арифметика – одна из тех математических дисциплин, состояние которых до Евклида сложнее всего определить из-за утраты многих книг. Если бы сохранился труд Теофраста, в котором он излагал историю арифметики как раз в момент зарождения Александрийской школы, мы бы точно знали, как обстояли дела у греков. Этот труд был кратким, состоял всего из одной книги (по меркам древних, это небольшая работа), но в нём содержались бы сведения о происхождении этой науки и её развитии среди греков до времён Аристотеля. Потеряв этот источник, мы вынуждены опираться на догадки в вопросах происхождения и прогресса арифметики.
Согласно Страбону, финикийцы первыми научили арифметике. По утверждениям египтян, переданным Диогеном Лаэртским, они создали геометрию, астрологию и арифметику вместе: Тот, основатель наук и искусств, дал им всё это сразу.
Невозможно разрешить этот спор о первенстве фактами, и рискованно делать это на основе предположений. Однако несомненно, что финикийцы нуждались в вычислениях для торговли, а египтяне должны были развивать эту науку рано, в интересах своей геометрии. Поэтому можно допустить, что оба народа знали арифметику с древнейших времён.
То же самое можно сказать о вавилонянах, чьи астрономические наблюдения, хотя и не столь древние, как они утверждали, относились к периоду до VII века до нашей эры и требовали знания вычислений.
Таким образом, основатель Ионийской школы мог заимствовать арифметику у финикийцев, вавилонян или египтян, если в эпоху Фалеса Иония нуждалась в таком заимствовании. Но в этом не было необходимости, и можно лишь допустить, что Египет или Вавилония обладали более продвинутыми методами вычислений, чем греческий мир. Ничто не даёт нам оснований утверждать, что Фалес заимствовал арифметику как факт, и нельзя предполагать, что в его время такие богатые и торговые регионы, как Греция и Иония, не знали искусства вычислений. Это искусство так же древне, как и само общество, которое делает его необходимым. Греция тогда уже не была на заре развития, и очевидно, что не Фалес, несмотря на его возможные заимствования из Египта или Азии, первым научил греков основам арифметики. Этот философ мог усовершенствовать существующее, но если бы он изобрёл столь ценное искусство, его современники, несомненно, отдали бы ему должное.
Таким образом, арифметика в Греции была древнее Фалеса, но неизвестно, какими знаниями она обладала до его работ. Неизвестно также, что знал сам Фалес, но известно, что век спустя Пифагор, получивший первоначальное образование в Ионии и путешествовавший по Египту, как и Фалес, много занимался наукой о числах. Считается, что он составил таблицу умножения, носящую его имя, и создал устройство, известное как абак. Хотя Никомах Герасский и Боэций, знавшие историю арифметики у греков, не приписывают Пифагору ни того, ни другого, традиция на этот счёт не лишена оснований.
Говорят также, что Пифагор изобрёл особые знаки для составных чисел – так называемые «апики», упомянутые Боэцием. Однако доказательств этому нет, а форма этих знаков в рукописях Боэция слишком похожа на арабские цифры, чтобы не вызывать подозрений.
Арабские цифры, как известно, происходят из Индии и попали к арабам уже после начала нашей эры. Пифагор не мог их знать, если только не отправился за ними на их родину, что маловероятно. Однако гипотеза о том, что Пифагор или его ученики использовали особые знаки для некоторых чисел, отличные от букв алфавита, допустима. Римляне применяли подобные знаки, и, скорее всего, заимствовали их у Великой Греции, а не у этрусков.
Как бы то ни было, два факта остаются важными для истории арифметики. Во-первых, Пифагор и его школа занимались наукой о числах больше, чем любая другая греческая школа, и идея числа была центральной в их системе, основанной на разнообразных числовых комбинациях. Во-вторых, хотя пифагорейцы, возможно, использовали особые знаки, греки продолжали обозначать числа буквами алфавита. Если бы Пифагор изобрёл цифры, эта система не сохранилась бы.
Тем не менее, применение арифметики в музыке и спекуляции о числах подняли науку вычислений в глазах философов и математиков. Эти спекуляции были скорее мистическими, чем практичными, но привлекали внимание к этой области.
Архит и Филолай продолжили эти исследования. Платон, любивший включать мистические числовые задачи даже в «Государство», занимался арифметикой, как и они. Очевидно, что геометрия и астрономия не могли бы преподаваться в Академии так, как это делалось, если бы арифметика не продвинулась со времён Пифагора.
Аристотель внёс важное изменение в обозначение чисел, используя буквы алфавита для неопределённых величин. Тот факт, что его ученик написал историю арифметики, указывает на развитие этой науки. Однако невозможно точно оценить его масштаб, особенно учитывая несовершенство греческой системы обозначений. Хотя идея десятичной системы, основанной на числе пальцев, прослеживается, она не стала доминирующей у греков. Число десять не стало ни более распространённым, ни более священным, чем другие, в отличие от четверицы, семёрки и их кратных, игравших важную роль в мистике.
Таким образом, к моменту начала работы Александрийской школы у греков были богатые теории о числах, но они носили скорее спекулятивный, чем практический характер, и были ближе к мистике, чем к науке. Арифметика у эллинов была развита слабо.
Что касается арифметики египтян и вавилонян, доступной Евклиду, их геометрические и астрономические практики свидетельствуют о значительных успехах в вычислениях. Однако отсутствие хорошей системы обозначений подтверждается тем, что греки не заимствовали её, установив с ними более тесные связи.
Как обстояли дела с геометрией?
Глава III
ГЕОМЕТРИЯ
Состояние греческой геометрии до Евклида известно немного лучше, чем состояние арифметики. Однако утрата четырёх книг, которые Теофраст посвятил истории этой науки (1), особенно огорчительна, так как они позволили бы нам оценить её прогресс. Теофраст, желая подчеркнуть вклад своего учителя, должен был подробно изложить работы предшественников Аристотеля. Сам он участвовал в развитии геометрии, которое началось в Академии и Ликее. Этот прогресс был настолько значительным, что другой ученик Теофраста также написал историю геометрии (2).
Утрата этих трудов особенно печальна ещё и потому, что они могли пролить свет на вопрос о происхождении геометрии – было ли оно греческим или заимствованным. Согласно египтянам и даже некоторым образованным грекам, таким как Аристотель, геометрия зародилась в Египте, откуда её переняли греки, как и арифметику с астрономией (1).
Но насколько это утверждение верно?
Безусловно, Греция заимствовала у Египта некоторые элементы геометрии. Выдающиеся математики доалександрийской эпохи, такие как Фалес, Пифагор и Евдокс, посещали берега Нила. Однако, как бы тесны ни были связи между Египтом и Грецией, нет доказательств активного научного обмена между ними. Даже если греки и получили от египтян основы геометрии, они быстро развили её самостоятельно, превзойдя своих учителей.
В подтверждение этого можно привести историю о Фалесе, который, по преданию, поразил царя Амасиса, измерив высоту пирамиды по её тени (2). Если бы эта история была достоверной, она свидетельствовала бы о превосходстве греков. Однако её изложение у Диогена Лаэртского и Плутарха различается, а склонность греков приписывать себе достижения других народов заставляет относиться к ней скептически.
Тем не менее, математика существовала в Греции и до Фалеса. Уже Евфорб Фригийский, совмещавший изучение математики с философией и политикой, открыл свойства разностороннего треугольника и теорию линий (1). После Фалеса геометрия развивалась быстрее: Анаксимандр составил элементарный трактат по геометрии (2), что указывает на формирование научной дисциплины.
Пифагор, основатель знаменитой школы в Великой Греции, продолжил традиции Фалеса и сделал значительные открытия: его знаменитая теорема, теория изопериметров, учение о правильных телах и несоизмеримости некоторых линий. Другие проблемы, такие как квадратура круга (Анаксимен) и удвоение куба (Архит), также свидетельствуют о прогрессе.
Школы Ионии и Великой Греции долгое время были центрами математики. Лишь с приходом Анаксагора, ученика ионийской школы, Афины включились в этот процесс. Гиппократ Хиосский, представитель афинской школы, открыл квадратуру луночки и систематизировал геометрические знания.
Платон, ученик Филолая и Тимея, не только требовал изучения математики для поступления в Академию, но и обогатил эту науку: он разработал теорию конических сечений, трансцендентную геометрию, теорию геометрических мест и стереометрию (1). Его ученики, такие как Менехм и Ксенократ, развили эти идеи.
Аристотель, объединив знания Платона, Евдокса и Динострата, способствовал дальнейшему развитию геометрии. К моменту основания Александрийского музея греческая геометрия уже достигла значительных высот.
Глава IV
МЕТРОЛОГИЯ. МЕХАНИКА. МУЗЫКА
К началу деятельности Александрийской школы принципы арифметики и геометрии уже применялись в метрологии, механике и музыке, хотя эти области ещё не были глубоко разработаны.
Метрология, получившая развитие в Египте, распространилась среди других народов. Однако греческие авторы не создали систематических трудов по сравнительной метрологии, что затрудняло понимание мер, используемых в Азии и Египте.
Механика также вышла за рамки простой практики благодаря трудам Евдокса, Архита и Филолая. Платон критиковал Евдокса и Архита за то, что они уделяли внимание прикладным аспектам, а не чистой теории (3). Тем не менее, их работы способствовали развитию науки, особенно в военном деле.
Музыка, тесно связанная с акустикой и математикой, также стала предметом научного изучения. Пифагор открыл зависимость звуков от длины струн, что легло в основу теории музыки. Несмотря на сопротивление консерваторов (например, в Спарте), музыкальная теория развивалась, и к IV веку до н. э. Аристоксен создал всеобъемлющий трактат по гармонии (2).
Александрийская школа унаследовала эти знания и продолжила их развивать, особенно в астрономии и географии.
Примечания:
(1) Диоген Лаэртский, «О жизни философов».
(2) Прокл, «Комментарии к Евклиду».
(3) Плутарх, «Марцелл».
Глава V
Астрономия.
Уже обе области исследований, о которых мы только что говорили – изучение земного шара и небесных тел – были несколько продвинуты. Астрономия даже значительно опережала общий уровень развития математики, поскольку Азия и Египет предоставили грекам богатый материал. Уже не вызывает сомнений, что связи греков с этими странами восходят к глубокой древности и что именно они дали Греции основы космографических наук. По крайней мере, об этом говорят самые учёные писатели этой страны – Платон и Аристотель (1), а за ними повторяют многие историки (2). Это также подтверждают те, кто изучал историю греческих наук в эпоху, когда старые традиции оценивались по достоинству (3). Латинские авторы, многие из которых заслуживают доверия, поскольку опирались на лучшие источники по греческим древностям, придерживаются того же мнения (4).
Один из учёных комментаторов пророчеств Арата, Теон Александрийский, который не ограничивался общепринятыми мнениями, прямо утверждает, что греки получили свои древнейшие знания о небе от египтян и халдеев (1). Это, кажется, заслуживает определённой степени доверия.



