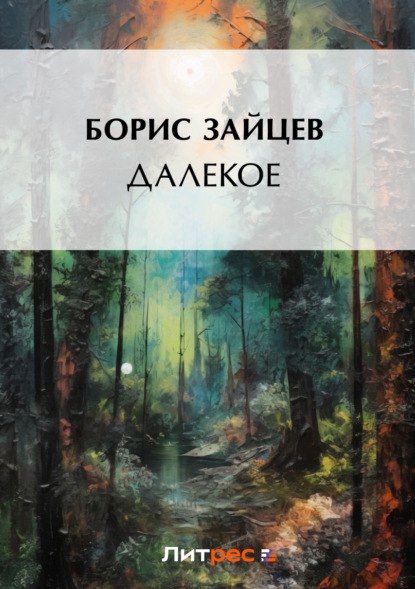 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Далекое
В конце он вдруг выпрямился, поднял голову и обычным бальмонтовским тоном заключил (из более ранней книги):
Я в этот мир пришел,Чтоб видеть Солнце,А если Свет погас,Я буду петь, я буду петьо СолнцеВ предсмертный час.* * *Случалось и опять по-иному. Вот появляется он днем, часа в четыре, с Максом Волошиным (огромная шляпа, широченная лента на пенсне, бархатная куртка – только что приехал из Парижа. Полон самоновейшими поэтами французскими, посетитель кафе Closerie de Lilas и т. п.). Бальмонт в мажоре, как бы «заявляет», что будет читать стихи. У нас состав прежний – хозяева и неизменная красавица Люба Рыбакова («Милой Любе Рыбаковой, вечно юной, вечно новой…» – в альбом от Бальмонта).
На этот раз он победоносно-капризен и властен.
– Поэт желал бы читать свои произведения не в этой будничности, но среди рощ и пальм Таити или Полинезии.
– Но откуда же нам взять рощи и пальмы, Бальмонт?
Он осматривает нехитрую обстановку нашей столовой.
– Мечта поможет нам. За мной! – И подходит к большому, старому обеденному столу. – Макс, Вера, Люба, Борис, мы расположимся под кровлей этого ветерана, создадим еще лучшие, чем в действительности, пальмы.
И он ловко нырнул под стол. Волошину было труднее, он и тогда склонен был к тучности, дамы проскочили со смехом, по-детски. Но «Борис» не пошел.
Вскоре из пальмовой рощи Спасо-Песковского раздались протяжные «нежно-напевные» и «певуче-узывчивые» строфы его стихов.
Я не запомнил, что он оттуда читал. Но что Я не полез в эти «рощи», ОН запомнил.
Много лет спустя, уже в эмиграции, сказал вдруг мне с кривой, несколько вызывающей усмешкой, в которой была и обида:
– Однако некогда в Спасо-Песковском гордый поляк не пожелал слушать Бальмонта в дебрях Полинезии.
(Он нередко называл меня поляком, находя нечто польское в облике.)
* * *Бальмонт был, конечно, настоящий поэт и один из «зачинателей» серебряного века. Бурному литературному кипению предвоенному многими чертами своими соответствовал – новизной, блеском, задором, певучестью.
Но потом времена изменились. Все эти чтения, детские чудачества, «бальмонтизм» и бальмонтистки кончились – наступили суровые, страшные годы войн, революций. Не до Бельмонта. Он отошел и до сих пор полузабыт. Написал очень много. Некий пламень двух-трех книг его возгорится. Надо думать, придет это с Родины.
В 1920 году мы провожали Бальмонта за границу. Мрачный, как скалы, Балтрушайтис, верный друг его, тогда бывший литовским посланником в Москве, устроил ему выезд законный – и спас его этим. Бальмонт нищенствовал и голодал в леденевшей Москве, на себе таскал дровишки из разобранного забора, как и все мы, питался проклятой «пшенкой» без сахару и масла. При его вольнолюбии и страстности непременно надерзил бы какой-нибудь «особе…» – мало ли чем это могло кончиться.
Но, слава Богу, осенним утром в Николо-Песковском (недалеко от нас) мы – несколько литераторов и дам – прощально махали Бальмонту с присными его, уезжавшему на вокзал в открытом грузовике литовского посольства. Бальмонт стоя махал нам ответно шляпой: это были уже не рощи Полинезии, не ребячьи выдумки, а тяжелая, горестная жизнь.
Этим ранний Бальмонт и кончается. Эмиграция прошла для него уже под знаком упадка. Как поэт он вперед не шел, хотя писал очень много. Скорее слабел – лучшие его вещи написаны в России. Продолжалась и тут бурная жизнь, расшатывавшая здоровье. Да и возраст не тот. Он горестно угасал и скончался в 1942 году под Парижем, в местечке Noisy-le-Grand, в бедности и заброшенности, после долгого пребывания в клинике, откуда вышел уже полуживым.
Но вот черта: этот, казалось бы, язычески поклонявшийся жизни, утехам ее и блескам человек, исповедуясь пред кончиной, произвел на священника глубокое впечатление искренностью и силой покаяния – считал себя неисправимым грешником, которого нельзя простить.
Некогда, на заре нашей литературы, другой поэт, тоже великий жизнелюбец, написал стихи, над которыми позже плакал Лев Толстой:
И с отвращением читая жизнь мою,Я трепещу и проклинаю,И горько жалуюсь, и горько слезы лью,Но строк печальных не смываю.Казалось бы, Пушкин мало подходящ для покаяния и написал это до дуэли, до трагедии своей, когда на смертном одре, как и Бальмонт, священнику «плакался горько».
Все христианство, все Евангелие как раз говорит, что ко грешникам, которые последними, недостойными себя считают, особо милостив Господь.
Верю, твердо надеюсь, что так же милостив будет Он и к усопшему поэту русскому Константину Бальмонту.
1963Вячеслав Иванов
Ранняя молодость, небольшая квартира в Спасо-Песковском на Арбате.
Вечер. Сижу за самоваром один, жена куда-то ушла. В передней звонок. Отворяю, застегивая студенческую тужурку. Пришел Вячеслав Иванов с дамой, очень пестро и ярко одетой. Сам он высокий, мягко-кудреватый, голубые глаза, несколько воспаленный цвет кожи на щеках. Светлая бородка. Общее впечатление: мягкости, влажности и какой-то кругловатости. Дама – его жена, поэтесса Зиновьева-Аннибал.
Смущенно и робко приветствую их – как мило со стороны старшего, уже известного поэта зайти к начинающему писателю, еще колеблющемуся, еще всё на волоске… Учишься в университете, только что начал печататься, выйдет из тебя что-нибудь или не выйдет, все еще впереди: 1905 год!
Вячеслава Иванова знал я тогда очень мало, где-то бегло встречались, не у Чулкова ли, моего приятеля, «мистического анархиста»? Оба они принадлежали тогда к течению символизма, но и с особым подразделением – «мистического анархизма» (и оба кончили христианством: Чулков православием, Иванов принял католичество).
Гость оставляет несколько старомодную крылатку и шляпу в прихожей, мы усаживаемся за самоваром – два странных гостя мои сидят в начинающихся сумерках – соединение именно некоей старомодности с самым передовым, по-теперешнему «авангардным» в искусстве. Я угощаю чем могу (чаем с притыкинским вареньем). Но тут дело не в угощении. Вячеслав Иванович из всякого стакана чаю с куском сахара мог – и устраивал – некий симпозион. Да, было нечто пышно-пиршественное в его беседе, он говорить любил, сложно, длинно и великолепно: другого такого собеседника не встречал я никогда. Словоохотливых, а то и болтунов – сколько угодно. Вячеслав же Иванов никогда не был скучен или утомителен, всегда свое, и новое, и острое. Особенно любил и понимал античность. Древнегреческие религии, разные Дионисы, философии того времени, вот где он как дома. Если уж говорить о родственности, то этот уроженец Подмосковья (был он родом, если не ошибаюсь, из Каширского уезда) – вот он-то и оказался праправнуком Платоновых диалогов.
У меня, в сумерках арбатской комнаты, сейчас же начал на тему более чем скромную: только что вышел в молодом журнале петербургском «Вопросы жизни» мой рассказ небольшой «Священник Кронид». Рассказ импрессионистический, быстрого темпа, но все дело для Вячеслава Ивановича в имени, названии. Как только наскочил он на имя Кронид, так и понесся: тут и Юпитер, Зевс, громовержец и творец – утвердитель стихий, земной жизни, природы, радости бытия здешнего и мощи… Такое, о чем я и в помыслах не имел, воспевая кряжистого и здоровенного Кронида, у которого пять сыновей, тоже здоровенных, священника благообразного, но и хозяина, отчасти даже помещика.
Нечего скрывать: ни о каких символизмах, ни о какой античности и вознбшении земной силы я не думал, когда писал эту нехитрую деревенскую поэмку (в прозе). Во всяком случае, тогда, у себя за чаем, в своей студенческой тужурке, робко поддакивал известному поэту.
Кажется, подошла потом моя жена, заговорила оживленно с многоцветной Зиновьевой-Аннибал. Но остановить Вячеслава Иванова было трудно, и, начав с моего Кронида, он прочел нам целую лекцию – да какую! Так вот и превратился скромный арбатский вечер в небогатой студенческой квартирке в настоящий словесный пир. Но, конечно, на симпозионе этом говорил он один. И слава Богу! Куда нам за ним угнаться.
* * *Жизнь же шла. Это был предвоенный предгибельный расцвет символизма, импрессионизма – немало до революции было «измов» в литературе, и сама литература кипела. По-разному можно относиться к ней, но дух Мачтетов и Баранцевичей, провинцию восьмидесятых и девяностых годов она погребла бесповоротно.
Лишь немногие чувствовали (Блок, Белый), что кипение это предсмертное. Думал ли кто о грядущем убожестве «социалистического реализма», не знаю. Я ни о чем не думал и ни от кого опасений не слыхал. А жили мы тогда литературою вовсю.
Часто ездили с женой в Петербург. Там останавливались у Георгия Чулкова. Вячеслав Иванов был тогда как раз соратником его по «мистическому анархизму».
Были у него и «соборность», и разные другие превыспренности. Писал стихи – громкозвучные, тяжеловесные и в одеждах изукрашенных пышно. Вспоминается нечто вроде парчи, в словаре – славянизмы и торжественность почти высокопарная. Нельзя сказать, чтобы стихи его тогдашние особенно прельщали. Обаяния непосредственного было в них маловато, но родитель их стоял высоко, на скале. Это не Игорь Северянин для восторженных барышень. Вячеслав Иванов был вообще для мужчин.
Он и считался больше водителем, учителем. Жил тогда в Петербурге, в квартире на верхнем этаже дома в центре города. В квартире этой был какой-то выступ наружу, вроде фонаря, но, конечно, по тогдашней моде на «особенное» считалось, что он живет «в башне», а сам он «мэтр» (сколько этих мэтров «невысокого роста» приходилось видеть потом в жизни! Но это звонко, шикарно и для невзыскательного уха звучит торжественно. Что поделать! В Москве Брюсов считался «магом» – этот маг заведовал отделом кухни в Литер, кружке). Такое было время. «Я люблю пышные декадентские наименования», – говорил мне один приятель литературный в Москве.
Слова «мэтр» я всегда не выносил, но надо сказать, что Вячеслав Иванович к облику некоего наставника в глубоком смысле действительно подходил. Человек был великой учености, ученик знаменитого Моммсена и крупнейшего филолога немецкого Вилламовиц-Меллендорфа. Знал древность насквозь, всех Дионисов, и религии тех лет, и поэзию, литературу – да и в нашей литературе был великий знаток, о Достоевском «глаголаше премудро». И главное, вкусом обладал благородным.
Жизнь он вел странную. Вставал около шести вечера, ночью бодрствовал, вечерами устраивались у него собрания на этой самой «башне» (! – тоже снобизм), и молодые поэты и писатели вроде меня смотрели ему в рот, и не зря смотрели: от него действительно можно было чему-то научиться. Да и вообще, я уже об этом упоминал – собеседник он был исключительный.
Раз, в 1908 году, был я к нему приглашен не на собрание, а как бы давалась аудиенция с глазу на глаз. Тогда только что вышла повесть моя «Аграфена», вызвавшая в печати и бурные похвалы, и бурную брань. Из-за нее он и позвал меня, через Чулкова.
Я пришел часу в седьмом вечера, он забрал меня, увел к себе в кабинет – и вот начался разбор этой «Аграфены» чуть не строчка за строчкой – спокойный, благожелательный, но и критический. Продолжалось это часа полтора. Тут и почувствовалось, насколько предан этот человек литературе, как он ею действительно живет, какая бездна у него понимания и вкуса. Отнять литературу, он бы и зачах сразу. Я был молод, но не гимназист, а уже довольно известный писатель, но чувствовал себя в этот вечер почти гимназистом. Не таким, однако, кому инспектор долдонит что-то начальственное, а как младший в руках благожелательного, много знающего, но не заискивающего и не боящегося говорить правду старшего. Трудно вспомнить больше чем через полвека, что именно он говорил, но вот это впечатление благожелательного наставничества, не обидного, сочувственного и не дифирамбического, видящего и свет и тени, так и осталось в душе.
Какая там «башня», какой «мэтр», просто замечательный Вячеслав Иванович Иванов.
* * *На вечерах его многолюдных я бывал редко. Понятно, не Горький, не Бунин и не Куприн посещали его, а совсем другие: Блок, Кузмин, Городецкий, Чулков, Ремизов, Пяст, Верховский и еще море юнцов, художники «Мира искусства». Читались стихи, разбирались – все как полагается. Но это нравилось меньше: мешала манерность и театральность. Отчасти и сам хозяин ей поддавался.
«Дни бегут за годами, годы за днями, от одной туманной бездны к другой». Быстро все это пронеслось. Войны, революция все перебуравили. Подкрашенный Кузмин со своими александрийскими песнями погибал в Петербурге в убожестве. Городецкий приспособился и проскочил, Вячеслав Иванов, Чулков перебрались в Москву, и уже там не до «башен» и снобистских собраний.
Жил Вячеслав Иванович на Зубовском бульваре, работал в каком-то литературном учреждении; кажется, «Лито» называлось. Луначарский, как более грамотный из «них», его поддерживал, покровительствовала и жена Каменева.
Как будто начинали сбываться давнишние его мечты-учения о «соборности», конце индивидуализма и замкнутости в себе – но именно только «как будто». Вот от этой самой соборности он только и мечтал куда-нибудь «утечь».
На Зубовский бульвар жена моя носила молоко его грудному тогда сыну Диме (ныне известный французский журналист) – не так просто было и доставать это молоко. Но сын, слава Богу, выжил, несмотря на соборность.
Здравый же смысл все-таки взял у «мэтра» верх: в 1921 году Вячеслав Иванов со своей семьей уехал в Баку, читал там лекции по классической филологии, но в 1924 году «утек» в Италию. Это гораздо оказалось прочнее, чем разные Азербайджаны и Баку. Да, Италия более подходящее место для Вячеслава Иванова, чем Кавказ.
В Риме он выступил с публичной лекцией по-итальянски. Слышавшие говорят, что читал превосходно, рассыпая всю роскошь старинного, даже старомодного итальянского языка. Видимо, это сразу дало точку опоры, завязались связи, и он был приглашен читать в Павии, а потом стал профессором Римского университета.
Тут долгое время никакой у меня связи с ним не было. Только раз, в тридцатых годах, я послал ему свою книжечку «Валаам». Его ответное письмо покоится теперь в архиве Колумбийского университета в Нью-Йорке. (А в отделе редких книг быв. Румянцевского музея в Москве хранятся мои книги с надписями Вячеславу Иванову.)
* * *В 1949 году наш приятель – ныне покойный А.П. Рогнедов, антрепренер, в душе артист, любитель Италии, как и мы с женой, некий конквистадор и по жизни своей «Казакова», – неожиданно явился к нам с предложением свезти меня в Италию.
– У меня там двести пятьдесят тысяч лир, выиграл в рулетку, но вывезти не могу – проживем их вместе. Со мной едет одна испанка, восходящая звезда испанского синема. Билеты берите сами, жизнь там ничего вам не будет стоить.
Предложение заманчивое. Поколебавшись, поблагодарили и согласились. Съехались в Ницце – Анита из Мадрида, мы из Парижа, Казанова в Ницце уже заседал. Нас смущало при неблестящем складе быта нашего соседство «дивы», но Анита оказалась милейшей и простой юной женщиной, сразу подружившейся с моей женой.
Началось наше blitz-tournee. Оно – смесь комедии, фарса и поэзии. Мы ураганом пронеслись по Северной Италии, были в Генуе, Милане, Венеции. Казанова то получал деньжонки из банка, раздавал их нам и Аните, то проигрывался в местных казино и занимал вновь у Аниты, но настроение было бодрое и веселое. Теперь мы летели к Риму. Там у Аниты были дела по кино.
Во Флоренции оказалось, что денег в обрез. У нас с женой были обратные билеты. Я сказал Казанове:
– Поезжайте с Анитой, а мы вернемся.
Он даже рассердился.
– Я вам сказал, что довезу до Рима. Я возил труппу лилипутов на Формозу, неужели не смогу довезти вас с Верой до Рима? Но, увы, можно будет остаться всего день.
Помчались. Да, это был всего один день! Мы успели побывать в Ватикане, а после завтрака в кабачке у Берниниевой колоннады поехали к Вячеславу Иванову, на Авентин.
Авентин моей молодости был еще таинственно-поэтическим местом Рима. Тянулись сады, огороды, заборы.
Рядом с грядками капусты попадались низины, сплошь заросшие камышом. Я любил светлые, задумчивые вечера на Авентине, когда звонят Angelus, прощально золотеют стекла Мальтийской виллы, слепые гуляют в монастырском дворике, полном апельсиновых деревьев с яркими и сочными плодами. Как на райских деревцах старинных фресок.
Тут жили некогда родители Алексея Человека Божия, отсюда и ушел он в нищету, благостность и сюда вернулся неузнанным.
Теперь известный поэт, столп русского символизма доживал дни свои на этом холме. И вот в Страстную Пятницу, в день смерти Рафаэля, с которым только что повстречались в Ватикане, мы поднялись в четвертый этаж современного безличного дома и позвонили в квартиру Вячеслава Иванова.
Время есть время. Но и Вячеслав Иванов есть Вячеслав Иванов. Да, он изменился, конечно; оба мы не такие, как были некогда на Арбате или в Петербурге на «башне», все же в этом слабом, но «значительном» старце в ермолочке, с трудом поднявшемся с кресла, был к настоящий Вячеслав Иванов, пусть с добавлением позднего Тютчева.
Мы обнялись не без волнения, расцеловались.
– Да, сил мало. Прежде в университет ездил, читал студентам, потом студенты у меня собирались, а теперь всего два-три шага сделать могу… Теперь уже не читаю.
Но велика отрава писательства. Через несколько минут он сказал мне, что хотел бы вслух прочесть новую свою поэму. «Это не длинно, час, полтора…» – «Дорогой Вячеслав Иванович, у нас минуты считаны. Мы на один день в Риме, Нас в Excelsior’e ждет импресарио». – «Ну, так я вкратце расскажу вам…»
Не помню содержания поэмы – нечто фантастическо-символическое, как будто связанное с древней Сербией – какой-то король… – но не настаиваю, боюсь ошибиться.
Для меня дело было не в поэме, а в нем самом, отчасти и в моей дальней молодости, в счастливых временах цветения, поэзии, Италии – тут же был символ расставания. Разумеется, бормотал я какие-то хвалебные слова. Как бы заря разливалась на старческом лице поэта, истомленном, полуушедшем. Все же – последний отклик былого. «Боевой конь вздрогнул от звука трубы».
Но минуты наши действительно были считаны. Ничего не поделаешь. Пробыли у него полчаса, обнялись и расцеловались. Оба, конечно, понимали, что никогда не увидимся.
Автобус мчал нас чрез Рим. Знакомые места, «там, где был счастлив», видениями промелькнули, и вот уже Quattro Fontane, Via Veneto, где жили некогда в пансионе у стены Аврелиана перед виллой Боргезе, – и тот Excelsior, где нетерпеливо ждали уже нас Казакова с Анитой.
На другой день, рано утром, поезд уносил нас обратно, на север.
Месяца через два, летом, в римской жаре, Вячеслав Иванович скончался.
1963Бердяев
Никого нет! Все ушли.
Неизвестный авторТак давно все это было, а все-таки – было. Петербург начала века, журнал «Вопросы жизни», огромная квартира, где обитал при редакции приятель мой Георгий Чулков – вроде редактора. Жил там и худенький Ремизов, в очках, уже тогда слегка горбившийся, волосы несколько взъерошенные, – секретарь редакции. Издатель журнала скромный меценат Жуковский. Главными тузами считались Булгаков (еще не священник) и Бердяев, только что начинавший, но сразу обративший на себя внимание.
Мы с женой, наезжая из Москвы, останавливались у Чулковых (недавно скончалась и Надежда Григорьевна Чулкова, супруга его, – царство небесное!).
Георгий тогда кипел, действовал, проповедовал вместе с Вячеславом Ивановым свой мистический анархизм (позже пришел просто к христианству).
Вот в этих «Вопросах жизни», где и сам я сотрудничал, встретились мы впервые с Бердяевым и его женой Лидией Юдифовной. Было это в 1906 году, в памяти удержалось первое впечатление: большая комната, вроде гостиной, в кресле сидит красивый человек с темными кудрями, горячо разглагольствует и по временам (нервный тик) широко раскрывает рот, высовывая язык. Никогда ни у кого больше не видал я такого. Очень необычно и, быть может, похоже даже на некую дантовскую казнь, но – странное дело – меня не смущал нисколько этот удивительный и равномерно-вечный жест. Позже я так привык, что и не замечал вовсе. (Не знаю, как относился к этому сам Николай Александрович: может быть, считал знаком некой кары.)
Бердяев был щеголеват, носил галстуки бабочкой, веселых цветов, говорил много, пылко, в нем сразу чувствовался южанин – это не наш орловский или калужский человек. (И в речи юг: проблэма, сэрдце, станьция.) В общем, облик выдающийся. Бурный и вечно кипящий. В молодости я немало его читал, и в развитии моем внутреннем он роль сыграл – христианский философ линии Владимира Соловьева, но другого темперамента, уж очень нервен и в какой-то мере деспотичен (хотя стоял за свободу). Странным образом деспотизм сквозил в самой фразе писания его. Фразы – заявления, почти предписания. Повторяю, имел он на меня влияние как философ. Как писатель никогда близок не был. Слишком для меня барабан. Все повелительно и однообразно. И никакого словесного своеобразия. Таких писателей легко переводить, они выходят хорошо на иностранных языках.
В нем была и французская кровь – кажется, довольно отдаленных предков. А отец его был барин южнорусских краев, от него, думаю, Николай Александрович наследовал вспыльчивость: помню, рассказывали, что отец этот вскипел раз на какого-то монаха, погнался за ним и чуть не прибил палкой. (Монахов-то и Н.А. не любил. Но не бил. И к детям был равнодушен.)
* * *Лента развертывается. И вот Бердяевы уже в Москве. В нашей Москве и оседают. Даже оказываются близкими нашими соседями. Из тех двух комнат, что снимаем мы на Сивцевом Вражке в большой квартире сестры моей жены, виден через забор дворик дома Бердяевых, а жил некогда тут Герцен, – все это недалеко от Арбата, место Москвы дворянско-литературно-художественной.
Теперь Бердяевы занимают нижний этаж дома герценовского, Николай Александрович пишет свои философии, устраивает собрания, чтения, кипятится, спорит, помахивая темными кудрями, картинно закидывает их назад, иногда заразительно и весело хохочет (смех у него был приятный, веселый и простодушный, даже нечто детское появлялось на этом бурном лице).
Иногда заходит к нам Лидия Юдифовна – редкостный профиль и по красоте редкостные глаза. Полная противоположность мужу: он православный, может быть, с некоторыми своими «уклонами», она ортодоксальнейшая католичка. Облик особенный, среди интеллигенток наших редкий, ни на кого не похожий. Католический фанатизм! Мало подходит для русской женщины (хотя примеры бывали: кн. Зинаида Волконская).
Однажды, спускаясь с нами с крыльца, вдруг остановилась, посмотрела на мою жену своими прекрасными прозрачно-зеленоватыми глазами сфинкса и сказала:
– Я за догмат непорочного зачатия на смерть пойду!
Какие мы с женой богословы? Мы и не задевали никого, и никто этого догмата не обижал, но у нее был действительно такой вид, будто вблизи разведен уже костер для сожжения верящих в непорочное зачатие.
Николай Александрович мог приходить в ярость, мог хохотать, но этого тайного, тихого фанатизма в нем не было.
Много позже, уже в начале революции, запомнилась мне сценка в его же квартире, там же. Было довольно много народу, довольно пестрого. Затесался и большевик один, Аксенов. Что-то говорили, спорили, Д. Кузьмин-Караваев и жена моя коршунами налетали на этого Аксенова, он стал отступать к выходу, но спор продолжался и в прихожей. Ругали они его ужасно. Николай Александрович стоял в дверях и весело улыбался. Когда Аксенов ухватил свою фуражку и поскорей стал удирать, Бердяев захохотал совсем радостно.
– Ты с ума сошла, – шептал я жене, – ведь он донести может. Подводишь Николая Александровича…
Но тогда можно еще было выкидывать такие штуки. Сами большевики иной раз как бы стеснялись. (У нас был знакомый большевик Вуль, мы тоже его ругали как хотели. Он терпел, даже как бы извинялся. Потом свои же его и расстреляли.)
* * *И вот в полном ходу революция. Тут мы с Бердяевым гораздо чаще встречались – и в правлении Союза писателей (некоммунистического), и в Книжной лавке писателей – это была маленькая кооперация, независимая от правительства.
Мы стояли за прилавками, торговали книгами. Осоргин, проф. Дживелегов, Бердяев, я, Грифцов.
Дело шло хорошо. Мы скупали книги у одних, продавали другим. Осоргин, Грифцов занимались коммерческой частью. Мы с Бердяевым были «так себе», в сущности мало нужные, во всяком случае, не деловые. Покорно доставали с полок книги, редко знали цену, спрашивали Палладу, красивую нашу кассиршу, она была вроде «хозяйки гостиницы», все знала и все умела. (Жива ли сейчас эта Елена Александровна или скончала дни свои в каком-нибудь концлагере, а то и просто в Москве? Если да, то мир тени ее!)
Мы жили дружно, по-товарищески. Но вот в этой самой Лавке довелось мне видеть раз огненность Бердяева.
Кроме нижнего помещения была у нас и наверху комнатка и даже нечто вроде галерейки с книгами, напоминавшей хоры в залах старых домов.



