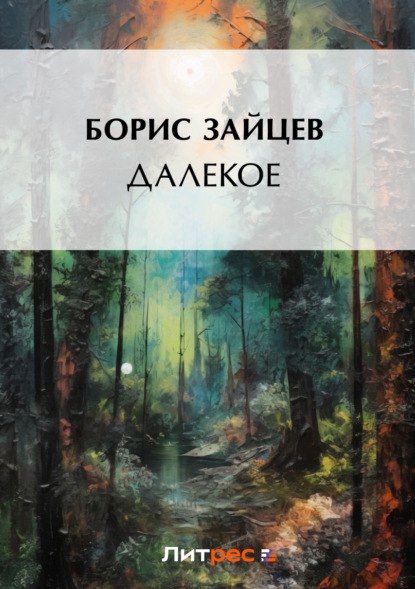 Полная версия
Полная версияДалекое
– Где я? Среди литераторов или в полицейском участке?
Можно было любить или не любить нас, но на полицейских мы не походили.
Первая же фраза задала тон. Трудно было бы сказать про свидание это, что «переговоры протекали в атмосфере сердечности и взаимного понимания».
– В таком тоне мы разговаривать не намерены. Или возьмите оскорбления назад, или же мы расходимся.
Сражение началось. Белый в тот день был весьма живописен и многоречив – кипел и клубился весь, вращался, отпрядывал, наскакивал, на бледном лице глаза в оттенении ресниц тоже метались, видно он «разил» нас «молниями» взоров. Конечно, был глубоко уязвлен моим письмом.
– Почему со мной не переговорили? Я же сотрудник, я честный литератор! Я человек. Вы не мое начальство. Я мог объясниться, это недоразумение. А меня чуть не на дуэль вызывают…
Я не уступал.
– Мы только тогда начнем с вами разговаривать, когда вы возьмете назад слова о нашем сотоварище и о нас.
Он кричал, что это возмутительно. Я не подавался ни на шаг. Наконец Белый вылетел в переднюю, я за ним. Тут вдвоем у окна мы разыграли заключительную сцену, вполне достойную кисти Айвазовского.
Мы пожимали друг другу руки и уверяли, что «лично» по-прежнему друг друга «любим», в литературной же плоскости «разошлись» и не можем, конечно, встречаться, но «в глубине души ничто не изменилось». У обоих на глазах при этом слезы.
Комедия развернулась по всем правилам. Мы расстались «друго-врагами» и долго не встречались, как будто даже раззнакомились. (Издали, после страшных прожитых лет, это кажется смешными пустяками. Но тогда переживалось всерьез.)
И уже много позже, в светлой, теплой зале Эрмитажа петербургского, около Луки Кранаха случайно столкнулись – нос с носом. Прежние глупости растаяли. Белый засиял своей очаровательной улыбкой, чуть мне в объятия не кинулся. В ту минуту зимнего неверного дня, рядом с великой живописью так, вероятно, и чувствовалось. Неправильно было бы думать, однако, что на зыбком песке можно что-нибудь строить. Нынче мог Белому человек казаться приятным, завтра – врагом.
Весь он был клубок чувств, нервов, фантазий, пристрастий, вечно подверженный магнитным бурям, всевозможнейшим токам, и разные радиоволны на разное его направление. Сопротивляемости в нем вообще не было. Отсюда одержимость, «пунктики», иногда его преследовавшие.
Одно время это были «издатели». Все зло от издателей. У них тайный союз, чтобы погубить русскую литературу. Их союзником оказался Георгий Чулков. Белому представлялся он мистическим персонажем, как таинственная птица проносившимся над Россией, воплощавшим в себе… не помню уже что, но весьма не украшавшее. Много сердился тогда этот левый человек, тут в согласии с Пуришкевичем, и на евреев.
Не знаю, была ли у него настоящая мания преследования, но вблизи нее он находился. Гораздо позже я узнал, что в 14-м году, перед войной, ему привиделось нечто на могиле Ницше, в Германии, как бы лжевидение, и он серьезно психически заболел (книга Мочульского).
* * *Вблизи Спасских ворот, наискосок вниз от памятника Александру II, была в Кремле церковка Константина и Елены. Она стояла уединенно, как-то интимно и поэтически, близ Москва-реки и стены, в осенении деревьев – к ней и добраться не так просто.
Одну пасхальную заутреню встречали мы в ней с Андреем Белым (уже после примирения). Ночь была сырая и туманная, палили пушки, толпа в Кремле, иллюминация – Иван Великий высвечивает золотым бисером, гудят «сорок сороков» торжественным, веселым гулом.
Белый был очень мил, даже почти трогателен, – мы христосовались, побродили в толпе, а потом отправились к общему нашему приятелю С.А. Соколову («Грифу», поэту, издателю раннего Блока), разговляться.
Легко можно себе представить, что такое были разговены в Москве довоенной, даже не в Замоскворечье, а в доме литературно-интеллигентском: пасхи, куличи, окорока, цветные яйца, возлияния – все в размерах внушительных, в духе того веселого беспорядка, мирной сытости, что вообще уже стало легендой, а тогда стояло на краю пропасти.
У Грифа квартира была небольшая. В длинной и узкой столовой, за пасхальным столом все мы и разместились – литературная молодежь того времени. На одном конце стола Гриф, на другом жена его, артистка Лидия Рындина. Христосовались, смеялись, ели, пили. В середине, напротив меня, сидел Белый, за ним гладкая стена.
Сначала все шло отлично. Хозяева угощали, пили за гостей, мы поздравляли друг друга, уплетали пасху, куличи… Но в некий момент тон изменился. Белого стал задирать Александр Койранский – критик, художник, острослов, – всегда он Белого не весьма чтил, а тут и вино поддержало. Белый начал волноваться, по русскому обыкновению разговор скакнул с пустяков к серьезному. Смысл бытия, назначение поэта, дело его… Койранский подзуживал, разговор обострился.
И вот Белый впал в исступление. Он вскочил, начал некую речь – исповедь-поэму:
Золотому блеску верил,А умер от солнечных стрел,Думой века измерил,А жизнь прожить не сумел.Последняя строчка стихотворения этого (ему принадлежащего) и была, собственно, главным звуком выступления. Тут уже и Койранский и все мы умолкли. Белый прекрасно, с трагической силой и пронзительностью изображал горечь, незадачливость и одиночество жизни своей. Непонимание, его окружавшее, смех, часто сопровождавший, –
Не смейтесь над мертвым поэтом,Снесите ему венок.На кресте и зимой и летомМой фарфоровый бьется венок.…………………………………,Пожалейте, придите;Навстречу венком метнусь,О, любите меня, полюбите,Я, быть может, не умер, быть может, проснусь.Вернусь…Да, то же рыдательное, что и в лучших его стихах, – будто сложная и богатая, на горестную сумятицу и неразбериху обреченная душа томилась перед нами. Что странней всего: в Святую ночь! Когда особенно дано человеку почувствовать себя в потоке мировой любви, единения братского. А он как раз тосковал в одиночестве. Пустой вихрь жизни, раны болят, – но пустынность внутренняя вообще была ему свойственна. Нечто нечеловеческое было в этом удивительном существе. И кого сам-то он любил? Кажется, никого. А груз чудачества, монструозности утомлял.
Фигура его металась на фоне стены, правда, как надгробный венок в ветре. Вдруг он раскинул руки крестом, прижался к стене спиной, совсем побледнел, воскликнул:
– Я распят! Я в жизни распят! Вот мой путь… Все радуются, а я распят…
Расходились поздно, туманным утром. Быть может, Александр Койранский и не так был доволен, что распалил Белого.
* * *Большая публика не принимала его, но восторженные поклонники у него были. Позже примкнул он к антропософскому движению – приобрел и там верных почитателей.
В те предвоенные годы вышли книги его стихов «Пепел» и «Урна». Как и «Золото в лазури» это, пожалуй, лучшее, что он написал. Некоторые звуки его стихотворений и теперь пронзают и будут пронзать. (Одно было посвящено мне: «Века текут…» – но в позднейшем берлинском издании Гржебина он это посвящение снял, несмотря на встречу в Эрмитаже.)
Дал и романы: «Серебряный голубь» – детская и лубочная вещь, и «Петербург» – безвоздушная фантасмагория. Много кипел, выступал, ссорился, ожесточался. Имя его приобрело известность, но довольно странную. Во всяком случае, боевую.
Вот небольшой образец этой «боевой» его деятельности.
Читает он в Литературно-художественном кружке. Начинаются прения, выступает среди других некий беллетрист Тищенко, тем известный, что Лев Толстой объявил его лучшим современным писателем. Этот Тищенко был человек довольно невидный, невзрачный, невоинственный. Как вышло, что он разволновал Белого, не знаю. Но спор на эстраде, перед сотнями слушателей, так обернулся, что Белый вдруг взвился и «возопиял»:
– Я оскорблю вас действием!
К нам, заседавшим наверху, в ресторане кружка, известие это дошло вроде того, как в деревне передают, что загорелась рига.
– Борис, Борис, скорей, там скандал!
Бросились тушить. Но было уже поздно. Из-за кулис вовремя задернули занавес, отделив публику (Белым возмущенную) от эстрады. Зал кипел, бурлил: «Безобразие!», «Еще поэтами называются»…
На большой лестнице картина: спускается Андрей Белый в полуобморочном состоянии. Кругом шум, гам. Бердяев и моя жена поддерживают его под руки, он поник весь, едва передвигает ноги. Одним словом, Пьеро, и сейчас, как в «Балаганчике», из него потечет клюквенный сок.
Внизу его одели и увезли. Завтра дуэль. Вернулись мы из кружка на рассвете, условившись с Сергеем Соколовым утром быть уже у Белого – секунданты не секунданты, а вроде того.
Часов в десять явились к нему в Денежный (близ Арбата, мы все жили в тех краях). Белый был действительно совсем белый, почти в истерике, не раздевался, не ложился, всю ночь бегал по кабинету.
Высокая, великолепная его мать спокойнее, чем мы и «Боря», отнеслась к происшествию. И оказалась права. Излившись перед нами как следует, Белый признал, что вчера перехватил.
Приблизительно говорилось так:
– Тищенко – ничего! Это не Тищенко. Тищенко никакого нет, это личина, маска… (Степун в блестящей статье о Белом называет самого Белого «недовоплощенным фантомом» и как бы сомневается в существовании его как человека.) Я не хотел его оскорблять. Тищенко даже симпатичный… но сквозь его черты мне просвечивает другое, вы понимаете… сила хаоса, темная сила, вы понимаете… (Белый закидывает назад голову, глаза его расширяются, он как-то клокочет горлом, издает звуки вроде «м-м-м…» – будто вот они, вокруг, эти силы.) Враги воспользовались безобидным Тищенкой… он безобидный. Карманный человек, милый карлик, да я даже люблю Тищенку, он скромный… Тищенко хороший.
Одним словом, окажись тут под рукой Тищенко, Белый кинулся бы его целовать, плакал бы на его груди. А через час мог опять возненавидеть, объявить носителем мирового зла.
По нашему настоянию Белый написал письмо-извинение, Соколов и передал его куда надо. До свинца дело не дошло. А о скандале… поговорили и забыли.
* * *В самые страшные годы России вспоминается Белый более мирно.
Как будто ни с кем не ссорился. Увлекался антропософией, в Петербурге выступал в «Вольфиле», в Москве жил одно время во Дворце искусств.
Этот «дворец» – дом гр. Соллогуба на Поварской, у Кудринской площади. Старый дом прославлен «Войной и миром». Там, где Наташа носилась резвыми своими ножками, поселился поэт Рукавишников – его избрал главой «дворца» Луначарский. Во «дворце» читались какие-то лекции, выступали товарищи, кажется, была и столовая, кое-кто поселился. Среди них – Белый, куда и позвал меня к себе в гости.
Он всегда был, с ранних лет, левого устремления. Что-то в революции ему давно нравилось. Он ее предчувствовал, ждал. Когда она пришла, очень многое в ней принял. В те годы (20–21-й), всего был ближе к левым эсерам, разным «Скифам» (как и Блок). Белый не так страдал морально от революции, как мы, и уживался с нею лучше. Все же антропософия уводила его в сторону. Духовные начала движения этого уж очень мало подходили к уровню «революционной мысли», к калмыцкому облику Ленина.
Не без волнения шел я, в сумерках зимнего дня, по старым, благородным залам, комнатам, коридорам и закоулкам соллогубовского дома. Он построен «покоем» с боковыми крыльями, обнимающими просторный двор (подводы с вещами Ростовых, бегущих от Наполеона… Раненый князь Андрей в коляске своей… Великая слава России).
В больших окнах, до полу, мелькнул этот двор. Из залы можно было выйти на балкон перед колоннами, – а там дальше опять плакаты с расписанием лекций.
Белый встретил меня очень приветливо, где-то вдали, в своей комнате, выходившей окнами в сад. Он был в ермолочке, с полуседыми из-под нее «клочковатостями» волос, такой же изящный, танцующий, приседающий.
Комната в книгах, рукописях – все в беспорядке, конечно. Почему-то стояла в ней и черная доска, как в классе.
…Не то Фауст, не то алхимик, не то астролог. Очень скоро, конечно, разговор перешел на антропософию, на революцию. Может быть, с «убийцей Мирбаха» он говорил бы иначе, но со мной стал почти на мою позицию – тут помогала ему и его антропософия.
Теперь и доска оказалась полезной. Он на ней быстро расчертил разные круги, спирали, завитушки. Мир, циклы истории поспешно располагались по волютам спирали. Он объяснял долго и вдохновенно – во всяком случае, это было редкостно, менее всего заурядно, почти увлекательно. Белый вообще был отличный оратор-импровизатор, полный образности и красок. Но постройкой не владел – вообще всегда им что-то владело, а не он владел.
Разумеется, понял я четверть, может быть – треть, самое большее. Астролог же и эуритмик вытанцовывал неутомимо и убедительно. Надо даже сказать, что в соллогубовском этом доме не было в нем обычного исступления. Скорее фантастика успокаивающая. Снег синел в саду, скоро спустится зимняя московская ночь. Граждане выйдут воровать заборы. Иногда слышны будут выстрелы. Глаза Белого сияют, он откидывается назад, взор соколиный, в горле радостное клокотание «м-м-м…». На слушателя это хорошо действует.
– Видите? Нижняя точка спирали? Это мы с вами сейчас. Это нынешний момент революции. Ниже не спустится. Спираль идет кверху и вширь, нас выносит уже из ада на простор.
Спираль долго еще выносила Россию на простор – море детских и юношеских гробов, море концлагерей, сотни тысяч погибших, раскулаченных… но мы с Белым в тот вечер искренне думали, что вот уже кончается Голгофа: наверно, потому, что хотели этого. Спираль же украшала желание.
* * *В 1921 году отъезд Белого за границу, прощальный вечер у нас в Союзе писателей на Тверском бульваре, в Доме Герцена. Некая нелепость ранней полосы революции: правительство дало нам особняк, мы устроились там довольно основательно, коммунистов же в Союз никаких не принимали. Ни одного коммуниста у нас не было.
В напутственном слове Белому можно было еще сказать:
– Дорогой Борис Николаевич, передайте эмиграции, что литература в России жива…
Много прошло лет, а и сейчас чувствую, как спазма сдавила мне горло, надо было сделать усилие над собой, чтобы докончить:
– И никогда… никому… ни за что не уступит своей свободы.
Говорил я от лица Союза, как его председатель. Белый сидел за столом напротив меня – в зале стало мертвенно тихо. Прекрасные его глаза расширились, весь он напрягался, что-то пролетело, метнулось, будто живая птицеобразная душа без слов сказалась. А потом он вскочил.
– Да, скажу, скажу…
В ту минуту, быть может, так и думал. Но сомнения нет, что, сев в вагон, все сразу же и забыл.
Через год встретились мы уже в Берлине, для нас в «новой жизни», для него это был эпизод: скоро возвратился он в Россию.
Берлинская его жизнь оказалась вполне неудачной. Берлин как бы огрубил его. По всему облику Белого прошло именно серое, берлински-будничное, от колбасников и пивнушек, где стал он завсегдатаем. Лысинка разрослась, руно волос по вискам поседело и поредело, к концу он несколько и обрюзг, от эмалевой бирюзы арбатских глаз, глаз его молодости, мало что сохранилось. Они сильно выцвели, да и выражение стало иное. Он походил теперь на незадачливого, выпивающего – не то изобретателя, не то профессора без кафедры. Характер сделался еще труднее. С одной стороны – был он антропософом и в этом направлении даже переделал (очень неудачно) свои прежние стихи, вышедшие в Берлине, строил даже в Дорнахе антропософский храм, Гетеанум. Потом вдруг накинулся на Рудольфа Штейнера с яростью:
– Я его разоблачу! Я его выведу на свежую воду!
И вот из Берлина, являвшегося ему обликом мучительной пустоты, решил опять бежать в Россию. (И опять я согласен со Степуном: что он любил, собственно? Россия для него такой же призрак, как и все вообще.)
Его пустили.
На прощанье жена моя повесила ему на грудь образок Богоматери и сказала:
– Не снимай, Борис. И помни: будешь в Москве, поклонись ей, и Родине нашей поклонись. И не вешай на нас, на эмиграцию, всех собак!
Он помахивал лысо-седой головой, бормотал:
– Да, я поклонюсь. Да, Вера, я не буду вешать на вас собак! Я уважаю берлинских друзей. Даже люблю их. Я буду держать себя прилично.
Он уехал в Россию в плохом виде, в настроении тягостном. Не знаю точно, что говорил там об эмиграции, о «берлинских друзьях» (с одним из которых, Ходасевичем, успел поссориться еще в Берлине, на прощальном обеде в русском ресторане). Кажется, говорил, что полагается. Обвинять его за это тоже нельзя. Есть, пить надо. И в концлагерь мало кому хочется.
Но в России революционной все же не преуспел. Видимо, оказался слишком диковинным и монструозным.
Золотому блеску верил,А умер от солнечных стрел…Да, в Крыму, в Коктебеле. Жарился на солнце, настиг его солнечный удар.
И лишь в самое последнее время дошла до меня весть, что на пораженном «солнечными стрелами» нашли тот образок, который Вера повесила ему на грудь в Берлине.
Богоматерь как бы не покинула его – горестного, мятушегося, всю жизнь искавшего пристани.
1938–1963Бальмонт
В поэзии серебряного века место Бальмонта немалое, вернее – большое. Я не собираюсь давать здесь облик его литературный. Всего несколько беглых черточек из далеких времен его молодости, расцвета.
* * *1902 год. В Москве только что основался Литературный кружок – клуб писателей, поэтов, журналистов. Помещение довольно скромное, в Козицком переулке, близ Тверской. (Позже – роскошный особняк Востряковых, на Большой Дмитровке.)
В то время во главе кружка находился доктор Баженов, известный в Москве врач, эстет, отчасти сноб, любитель литературы. Немолодой, но тяготел к искусству «новому», тогда только что появившемуся (веянье Запада: символизм, «декадентство», импрессионизм). Появились на горизонте и Уайльд, Метерлинк, Ибсен. Из своих – Бальмонт, Брюсов.
Первая встреча с Бальмонтом именно в этом кружке. Он читал об Уайльде. Слегка рыжеватый, с живыми быстрыми глазами, высоко поднятой головой, высокие прямые воротнички (de l’époque), бородка клинушком, вид боевой. (Портрет Серова отлично его передает.) Нечто задорное, готовое всегда вскипеть, ответить резкостью или восторженно. Если с птицами сравнивать, то это великолепный шантеклэр, приветствующий день, свет, жизнь. («Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце…»).
Читал он об Уайльде живо, даже страстно, несколько вызывающе: над высокими воротничками высокомерно возносил голову; попробуй противоречить мне!
В зале было два слоя: молодые и старые («обыватели», как мы их называли). Молодые сочувствовали, зубные врачи, пожилые дамы и учителя гимназий не одобряли. Но ничего бурного не произошло. «Мы», литературная богема того времени, аплодировали, противники шипели. Молодая дама с лицом лисички, стройная и высокая, с красавицей своей подругой яростно одобряли, я, конечно, тоже. Юноша с коком на лбу, спускавшимся до бровей, вскочил на эстраду и крикнул оттуда нечто за Уайльда. Бальмонт вскипал, противникам возражал надменно, остро и метко, друзьям приветливо кланялся. Тут мы и познакомились. И оказалось, что по Москве почти соседи: мы с женой жили в Спасо-Песковском вблизи Арбата, Бальмонт в Толстовском переулке, под прямым углом к нашему Спасо-Песковскому. Совсем близко.
Это было время начинавшейся славы Бальмонта. Первые его книжки стихов «В безбрежности», «Тишина», «Под северным небом» были еще меланхолической «пробой пера». Но «Будем как Солнце», «Только любовь» – Бальмонт в цвете силы. Жил он тогда еще вместе с женою своей, Екатериной Алексеевной, женщиной изящной, прохладной и благородной, высококультурной и не без властности. Их квартира в четвертом этаже дома в Толстовском была делом рук Екатерины Алексеевны, как и образ жизни их тоже во многом ею направлялся. Бальмонт при всей разбросанности своей, бурности и склонности к эксцессам, находился еще в верных, любящих и здоровых руках и дома вел жизнь даже просто трудовую: кроме собственных стихов много переводил – Шелли, Эдгара По. По утрам упорно сидел за письменным столом. Вечерами иногда сбегал и пропадал где-то с литературными своими друзьями из «Весов» (модернистский журнал тогдашний в Москве). Издатель его С.А. Поляков, переводчик Гамсуна, был богатый человек, мог хорошо угощать в «Метрополе» и других местах. (На бальмонтовском языке он назывался «нежный, как мимоза, Поляков».)
После нежного, как мимоза, Полякова Бальмонт возвращался домой не без нагрузки, случалось и на заре. Но был еще сравнительно молод, по натуре очень здоров, крепок. И в своем Толстовском усердно засаживался за стихи, за Шелли.
В это время бывал уже у нас запросто. Ему нравилось, видимо, шумная и веселая молодежь, толпившаяся вокруг жены моей, – нравилось, конечно, и то, что его особенно ценила женская половина (после «Будем как Солнце» появился целый разряд барышень и юных дам «бальмонтисток» – разные Зиночки, Любы, Катеньки беспрестанно толклись у нас, восхищались Бальмонтом. Он, конечно, распускал паруса и блаженно плыл по ветру).
Из некоторых окон его квартиры видны были окна нашей, выходившие во двор.
Однажды, изогнув голову по-бальмонтовски, несколько ввысь и вбок, Бальмонт сказал жене моей:
– Вера, хотите, поэт придет к вам, минуя скучные земные тропы, прямо от себя в комнату Бориса, по воздуху?
Он уже однажды, еще до Екатерины Алексеевны, попробовал такие «воздушные пути»: «вышел», после какой-то сердечной ссоры, прямо из окна. Как не раскроил себе черепа, неведомо, но ногу повредил серьезно и потом всю жизнь ходил, несколько припадая на нее. Но и это тотчас обратил в поэзию.
И семь воздушных ступенейМоих надежд не оправдали.Слава Богу, в Толстовском не осуществил намерения. Продолжал заходить к нам скучными земными тропами, по тротуару своего переулка, сворачивал в наш Спасо-Песковский, мимо церкви.
Раз пришел в час завтрака и застал меня одного. Я был студентом, скромно ел суп с вареной говядиной, изготовленный верною Матрешей.
Позвонили. Матреша кинулась отворять, потом вскочила ко мне в столовую, почесала пальцем в волосах, испуганно тряхнула огромной медной серьгой в ухе, сказала озабоченно:
– Вас спрашивають. Энтот рыжий, что у нас читает. Да сегодня строгий какой… Будто и не очень в себе они…
Бальмонт вошел, сразу заметно стало, что он не совсем «в себе». Вероятно, нынче не успел хорошенько отойти от угощений нежного, как мимоза, Полякова.
Был несколько и мрачен – Матреша права: «строг». Бальмонтисток никого не оказалось, вина тоже. Я налил ему тарелку супу с отличной говядиной.
– Где Вера? Люба Рыбакова?
Тон такой, будто я виноват в чем-то.
– Их нет.
– Вы один едите этот ничтожный суп?
– Суп неплохой, Константин Дмитриевич. Попробуйте. Матреша хорошо готовит.
Бальмонт сумрачно воткнул вилку в говядину, вынул кусок и стал водить им по скатерти. Нельзя сказать, чтобы жирные узоры украсили ее.
– Я хочу, чтобы вы читали мне вслух Верхарна. Надеюсь, у вас есть он?
Верхарн был тогда очень в моде. Бальмонт сказал внушительно. К счастью, под рукой как раз оказался томик стихов Верхарна. Если бы не было, возможно, он сказал бы мне колкость. («Поэт не думал, что в доме начинающего писателя нет моего бельгийского собрата…» – нечто в этом роде. Себя он нередко называл в третьем лице, как и все его поклонницы.)
Я начал читать – и читал очень плохо. Частью стеснялся, по молодости лет, главное же, потому, что вообще мало знал французский язык – хотя Верхарна как раз читал.
Продолжая путешествие по скатерти, Бальмонт спросил:
– Вы понимаете то, что читаете? Мне кажется, что нет…
Я все-таки протестовал. Понимать-то понимал, но читать вслух – другое дело.
Бальмонт недолго просидел у меня. Ушел явно недовольный.
* * *Но бывал он и совсем другой. К нам заходил иногда пред вечером, тихий, даже грустный. Читал свои стихи. Несмотря на присутствие поклонниц, держался просто – никакого театра. Стихи его очень тогда до нас доходили. Память об этих недолгих посещениях, чтениях осталась вот как надолго – хорошее воспоминание: под знаком поэзии, иногда даже растроганности.
Помню, в один зеленовато-сиреневый вечер, вернее, в сумерки пришел он к нам, в эту арбатскую квартиру, в настроении особо лирическом. Вынул книжку – в боковом кармане у него всегда были запасные стихи.
Нас было трое кроме него: жена моя, ее подруга Люба Рыбакова и я.
Бальмонт окинул нас задумчивым взглядом, в нем не было никакого вызова, сказал негромко:
– Я прочту вам нечто из нового моего.
Что именно, какие стихотворения он читал – не помню. Но отлично помню и даже сейчас чувствую то волнение поэтическое, которое и из него самого изливалось и из стихов его, и на юные души наши, как на светочувствительные пленки, ложилось трепетом. Кажется, это было из книги (еще не вышедшей тогда) «Только любовь».
На некоторых нежных и задумчивых строфах у него самого дрогнул голос, обычно смелый и даже надменный, ныне растроганный. Что говорить, у всех четверых глаза были влажны.



