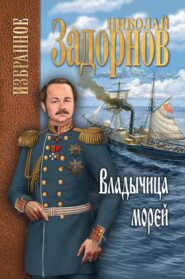скачать книгу бесплатно
В комнате сестра поставила букет на круглом столике напротив открытой в сад двери. А самой нет. Красные розы в желтой вазе. В глазах Веры радость, что не надо объясняться, все оказалось расшифрованным.
– А Наташка права… Ты же не признавал дарить цветы?
Не помолвленный, не объявленный как жених, без клятв и принятых обычаев благородства, он ушел в плаванье и оставил ее без поддержки традициями, без опоры в святости народных устоев, исчезнув в туманах морей, возложив на нее, еще не окрепшую, всю тягость одиночества и ответственности за ее положение в семье и в обществе.
И вот он явился с цветами, прозревший, обновленный, со всей силой вспыхнувшего заново стремления к ней.
Да, перед уходом не был обручен с Верой, они не обменялись кольцами, отвергая предрассудки, мешавшие, по их понятиям, развитию личностей. Они принадлежали к тому новому поколению молодежи, которых называли нигилистами. Сами они, заимствуя слово с языков западных народов, начинали называть образованный класс интеллигентами и желали к нему принадлежать.
Традиции, по их мнению, заводили людей в тупик. Вера и Алексей были чужды церковной обрядности и только из уважения к окружающим оставались терпимы к службам и к общепринятым привычкам. Каждый, кто верит, верил как хотел, и не дело лезть в чужую душу. А традиции, на которых стояло общество, были пусты. Это убеждение быстро распространялось среди молодежи, оно имело особенно сильное влияние на Наташу – пылкую сестру Веры, склонную стать сторонницей самых крайних мер. На вид она казалась моложе Веры, но старше и резче ее. Каждая новая истина была для Наташи открытием и пробуждала в ней что-то похожее на фанатизм.
В других странах мнения Алексея менялись, он креп и мужал, снес тяжкую болезнь. Цветы у многих народов – например, в Японии, Китае, да и в Англии, – имели глубокий смысл, без них ничего не делалось в жизни, как и у нас, впрочем, хотя нигилисты объявляли их символом и чадом мещанства, прутьями, напрасно срезанными кустами.
В некоторых странах цветы были вторым родным языком народа, ими выражалось то, что не всегда скажешь словами. Вера так тронута, поняла смысл перемены и приняла как признак возмужалости. Мысленно все эти годы она была в плаваньях с ним, в далеких странах.
В доме, где Алексей как свой, в столовой, когда накрывали стол, Мария Константиновна старалась говорить с ним о пустяках. Себе прощаешь, когда такая радость и волнение, в разговоре бывает, что и глупость сорвется с языка.
– Теперь и у нас говорят, что по любви к животным познается человек, – сказала Мария Константиновна – Вера всегда любила лошадей и верховую езду, да за эти годы редко ей удавалось. Отец нынче купил для нее двух молодых лошадок орловской породы. Ему кто-то сказал, что моряки любят ездить верхами. Вера трудилась всю войну в госпитале и училась как могла, и дальше хотела бы. Если у нас не дадут, то хотела бы поехать в Германию. Как она уставала, как трудилась. Стыдно сказать, что ее увлекало. Я уж не отговаривала. Пошла в госпиталь великой княгини Елены Павловны. Там и пожилые дамы, и много женской молодежи всех сословий терпеливо исполняли самую грязную работу. А вот как, Алеша, японки выходят замуж? По любви или по желанию родителей и…
Не дослушав объяснения Алексея, помянула про собачонок адмиральши Мятлевой, как много она им позволяет и какие они, как выпустят их – всякого облают.
Гостей не звали, собрались свои. Под окном стояла дядюшкина карета. Подъезжали извозчики, верховая лошадь под седлом у коновязи. Нагрянула молодежь.
За обедом Алексей красноречиво и остроумно рассказывал, все разражались взрывами смеха или замирали. У Леши как у рассказчика явно выросли усы. Смотрели на него, как на героя. Он таким и был. Вере так ясно, что в своем былом, минувшем полудетстве она не разочаруется. Она рада за мать, и мать рада, и отец здесь же, у них словно гора спала с плеч.
Нельзя сказать, что в Петербурге про Восток, особенно дальний, ничего не знали. Краем уха все кое-что слышали, а некоторые интересовались серьезно.
Алеша сегодня в ударе, к восторгу Веры, он знает все и про все умеет рассказывать. Сюрприз для нее, она получала драгоценный дар, восхищавший все общество. Дамы и сверстницы поглядывали на Веру одобрительно, мол, молодец, Верендер, здорово ты его подцепила. Но когда разговор пошел посерьезней, как Алексей учил китайский и какая прелесть иероглифы, что ведь это прелестные картинки, которые со временем будет изучать все человечество, то слушали охотно, но с недоверием, а на некоторых лицах было выражено: мол, зачем вам все это, Алеша… Ах, причуды…
Алексей на миг отлетел мыслями и, опасаясь, что не сможет быстро овладеть собой, смутился, поймал прерванную нить и пошел, как у них там говорили, «in full swing», с аффектацией артистизма, придавая себе шарм.
А показалось, что Василий Васильевич, отец Веры, молчаливый и всегда любезный, как-то с недоверием слушает. У Керженцева белое сытое лицо, выбритое, блеклое от комнатных занятий, и рыжеватый аристократизм, пролысни и красные веки. Главный винт в государственной машине Министерства финансов. Учтиво вежлив и предупредителен. При встрече сегодня накоротке, но ласково поговорил с Алексеем.
Алеше все время хочется ловить его взгляд и перепроверять себя, как по барометру. Начинает казаться, что Василь Васильевичу неловко за его успехи или он улавливает, что Алексей рисуется, и за него втайне стыдно. Проницателен, как волшебник. И безукоризненно вежлив.
Вера слегка приподняла подбородок, светлая коса стала не видна, она смотрела прямо в глаза Алексея, как бы желая что-то спросить. Но никто не заметил заминки.
– А какие англичанки? – спросила Наташа.
– Разве ты никогда не видела англичанок? – спросила Вера.
– Только в детстве, но тогда на них никто внимания не обращал.
– Такие же блондинки, как немки, – заметил кто-то из старших.
– Но ведь взглянешь на вашу петербургскую немку, – ответил Алексей, – лицо ее сразу становится злым, написано на нем, что желает дать выговор молодому человеку, проучить и воспитать.
– А англичанки? – спросила Вера. – Если взглянет на нее молодой человек?
– Англичанки очень разные, обычно, видя к себе внимание, смягчится и прояснеет, примет взгляд как вежливость, а не как безобразие.
– Так англичанки строили тебе глазки? – грозным тоном прокурора спросила Наташа.
Все расхохотались.
Этот день тянулся долго, превращаясь в праздник.
Вера сказала, что приглашает Алексея на прогулку, чтобы он не отвыкал от северных пейзажей раннего лета. Вера ушла переодеваться. Ее дядюшки насели на гостя:
– Ну про японочек! Еще про японочек!
Все нахохотались, накурились, наговорились и наслушались.
Алексей и Вера вышли. Солнце еще высоко над горизонтом. Нева спокойна, как покрыта льдом.
Попалась новенькая коляска на рессорах. Уехали на острова. Северное солнце сияло над входящей в силу листвой.
«Тут мы прощались, – подумал Алексей, выходя из экипажа, – мы отвергали пошлость обычаев, наше доверие было безгранично, ниже нашего достоинства было клясться… а я ничего не исполнил. Потоки жизни увлекли меня… и я был современен. И что же… Как мне Мусин-Пушкин сказал: “Эх вы, гонконгский пленник! Англичанка это вам не японка”. А дело, может быть, не только в моем формальном слове, которое ей-то я дал».
Вера рассказала про молодых лошадей, но что она редко выезжает. С отцом кормит их овсом и отрубями каждый вечер.
– Я ждала тебя.
Алексей знал, что она любила верховую езду. В седле, бывало, резко менялась, ее полудетское лицо становилось требовательным и сильным.
Алексей стал рассказывать, где и как выезжают лошадей, скаковых и рысистых, и как отлично они же ходят, запряженные в экипаж, в дрожки, а также под седлом и на охоте.
Она понимала толк в лошадях. Но странно, что разговор о рыжей кобылице может вдохновлять его, а в ней возбуждать неприятное чувство.
Вдруг он рассказал, как ездили верхами по горам в тропической колонии, и при этом как опьянел от воспоминаний.
Вера сказала, что у сестры тоже лошадь и она ездит чаще.
– Она увлечена новейшей немецкой философией, пренебрегает своей миловидностью, носит очки, ходит большими шагами и принимает ухаживание пожилого офицера-артиллериста, который обещает ее научить делать бомбы, зная, что она сочувствует террористам. Он учился в военном училище и знаком с революционером Бакуниным.
«А ты знаешь, не успел я приехать, как меня известили, что я должен явиться в Третье отделение…» – хотел сказать Алексей, но удержался.
Глава 9. Под весенней листвой
– Ну, сэр Алек! – воскликнула Вера, входя в тесную аллею, и ласково, но больно ущипнула щеку Алексея. – Пристало ли к тебе что-то от тех, среди кого ты прожил так долго? Стал ли ты иным?
Сегодня он рассказывал о характере людей викторианской эры, как принято называть там наше время, про самоуверенных и расчетливых, рискующих всем ради цели.
– У тебя были знакомства?
– Конечно…
– Какой же ты был в увлечениях? – с любопытством невинности спросила она. – Стал ли ты высокомерен, или твоя русская натура оставалась отзывчивой и привязчивой и подводила тебя? Ты возмужал, вернулся героем…
– Я не был героем.
– Но твоя русская душа впечатлительна – и ты так не походил там на всех вокруг. Это было ново и приятно для тех, кто бывал с тобой. Как русский ты был добр, оставил воспоминания и сам остался с ними…
Алексей явно смутился.
– Ах, Леша! Не понимать шуток. Такой смельчак и герой, который так много и стойко выдержал, но разве что-то может смутить тебя, что-то лежит на сердце…
Какой же, право, это пустяк, с кем не бывало, а он уже чувствует вину. Ведь это лишь моя шутка и ревность, не откажи мне в таком праве. Так и остался сердечен и прост. Разве не стал жестче?
Ей стало жаль Алешу. Но ее шутка попала ему не в бровь, а в глаз. Там же, право, ничего не могло быть, это все отзывчивая чувствительность, привязанность к тому, кто был мил, или потребность в привязанности?
Вера желала растормошить его, чтобы обоим не впасть в глупое самокопание.
– Ты так не похож на зверей прекрасной цивилизации, ведь я знаю их, они были у нас в госпитале, сдавшись в плен после попыток десантов под Петербургом. Они бывают сердечны, умеют улыбаться и благодарить от души и могут стать откровенными, но у них по сравнению с тобой звучит только одна октава.
Алексею были неприятны эти слова по многим причинам. Ничего подобного ему в голову не приходило.
Алексей решил, что слишком далеко зашел в своих потаенных жалобах на викторианскую пору, словно Вера была его товарищем. Конечно, она могла бы ответить: на кой черт тебе, Алеша, каяться в том, до чего нам дела нет, что бы там ни случалось.
Когда шел в Россию, ждал, что найдет здесь исцеление, что напряжение спадет и он сможет отдохнуть…
«Ты еще ребенок, Алексей. Ты забыл свои красные убеждения? Ты вспыхнул на островах южного океана, явившись для всех невидалью, со своей роскошной юностью, может быть, стал предметом страсти. Чего же ты смутился? Ах, на твоем примере я понимаю, что человек познается не в смелых приключениях, а возвратившись домой. Уж не говоря о том, что здесь ты можешь не подойти, дать повод для смущения, многие впадут в ужас, решив, что твой патриотизм запятнан, что ты рассыпал свои чувства по всему земному шару, в то время как на самом деле ты у всех учился и брал свое.
С чем же ты остался, сэр Алек?»
А в голову Алексея полезло все то же. Он не мог простить себе, что солгал. И как стоял и смотрел, когда вдоль борта проплывали форты чужой твердыни, похожей на Кронштадт.
Алексей сказал, что помнит, как Вера рассказывала, что ездила верхом в седле, а в деревне совсем без седла, не хуже деревенских мальчишек, и как ей это нравилось. Потом в деревне стоял гусарский эскадрон и гусары оставляли свое имущество притороченным к седлам и давали подросткам лошадей съездить на водопой. Она была ли наивна, рассказывая все это перед его уходом в плаванье? Женщины перед разлукой словно хотят спросить: как, мол, ты, можешь ли быть уверен во мне?
Японский сановник, дипломат и мудрец, красавец Кавадзи, объяснял молодым русским офицерам, что чувственность лечит мужчину от недугов души и помогает в служебных неприятностях, даже при полицейской слежке. Весь мир позаботился об Алексее, все вырабатывали в нем характер, свирепо и беспощадно ломая его натуру, обучая жить переменами напряжений на наслаждения и на разочарования и не чувствовать вины.
А зрелость Веры теперь пробуждала чувства, похожие на грубость.
Вера, словно понимая это и жалея – иль пытаясь его отвлечь или из пылкости, – крепко и больно поцеловала Алексея в губы.
«Так целуются у вас?» – вспомнил он ночь в саду японского храма Гекусенди, бал и танцы с американками. «Я покажу тебе, как целуются у нас в Триндаде», – сказала тогда Сиомара. Сейчас это как яд. Рассказать нельзя, да уж этого никто и не поймет и не поверит. Он уже не был прежним. Он пил этот колониальный яд с оттенком наслаждения и бахвалился перед собою, как курильщик опиума.
– Кончилась война, и ты вернулся из самого горнила мировых событий, ты один из лучших ее героев, – держа его за руку и как бы прощая ему все, оглядывая ветви, сказала Вера. Она опустила его руку, подпрыгнула высоко, схватив листок. Алексей обежал ее взглядом. Опять этот опиум. Он опять курильщик. Опиум тела, как медная чашечка с маленьким шариком яда.
Вера закрыла листком губы и приноравливала его под пищалку.
– Нет, я не герой войны. Есть одно пятно на моей совести, – сказал Алексей. Его гнала к чувственности не полицейская слежка и не террор, от которых искал лекарств Кавадзи.
– Я всю войну видела кровь и раны, – сказала она серьезно, – и я не вижу никакой разницы между тобой и героями Севастополя. Ты был под мечами самураев, ты месяцы жил под угрозой умерщвления, ты был под артиллерийским обстрелом в море, и ты болел холерой и выстоял. Ты выстрадал не меньше любого севастопольского солдата, ты исполнял свой долг, хотя на груди у тебя не будет медалей за Севастополь. Зачем же помнить какие-то мелочи чувств, невольную пылкость в интермедиях этой гигантской эпопеи? Ты сделал для будущего больше, чем любой; каждый миг тебя могли уморить, отравить, отсечь тебе голову. Окстись, Алеша!
– Но мы всю войну жили довольно сносно… Нельзя сравнить.
– Что ты на себя наговариваешь? Корабль погиб, вы были окружены… Вспомни, как вы пытались напасть на француза и бросились на абордаж на борт американского парохода. Они пушками и карабинами могли бы смести вас с лица земли.
– Но все обошлось. В меня за всю войну ни разу не выстрелили. Я чуть не погиб от тяжкой болезни.
– Это одно и то же. А тех, в кого стреляли, уже давно нет в живых, они в крымской земле.
Гордость Алексея уязвлена, в Петербурге то и дело слышишь о погибших в боях родных и товарищах.
– В Крыму было гораздо больше умерших от чумы и холеры, чем погибших в боях, – сказала Вера, – ничего не значит, что ты не был под Альмой или на Малаховом. Хотя все мы помним наши святыни и гордимся. Но тогда Герцен должен испытывать еще большие угрызения совести, он всю войну был в стане врагов. Его влияние на Россию разрастается, и никто же не упрекает, а очень многие признают своим учителем.
– Но он не был военным.
– Какая же разница!
– Я чувствую себя так, словно моя война еще впереди. Я должен идти на эту войну.
Вера смягчилась, ее горячность остыла, и казалось, она прояснела.
Алексей оглядел разросшиеся и вытянувшиеся за эти годы ветви деревьев. Он опять поник, не в силах совладать с собой. Его настроения прорывались наружу, и его воля не могла закрыть их наглухо. Вера замечала все. Он не собирался ничего скрывать.
Он стал рассказывать, как в Гонконге праздновали падение Севастополя. Но у него язык не поворачивался сказать, чем же ужасен для него тот день.
Ее огорчали не признания, суть которых, как оказалось, поверив ему, она не совсем предугадала.
Он старался не оскорбить Веру и не лгать, а получалось еще хуже. Сказал, что его знакомая обещала поехать в Японию, найти его сына. Там у дочери японского магната коммерции… Рассказал про прощание с Оюки, про ее отца, про преображенную Японию, которой предназначено развитие, и про униженную там любовь.
Вера была ошеломлена. Она могла бы спросить, как полагал Алексей: «Так вы преобразили Японию, бросив на произвол детей?» – но об этом никто и нигде его не спросил и не подумал.
Вера вслушивалась с интересом и волнением, как сила развития минувших событий его жизни бурно нарастала. Лицо ее стало сильным, как при верховой езде, щеки рдели. Ее огорчали не его признания, – это могло быть приключением, – а жаркая память о том, что он оставил. Ее тревожили перемены его настроений, которые она заметила еще за столом. То, в чем она винила его в шутку, для забавы, играя в ревность, на самом деле было ужасным. Он именно жил впечатлениями былого, боролся с ними или, может быть, что еще хуже, предполагал, что победил их, чтобы благородно поклясться и открыть ей свое сердце. Вера была убеждена, несмотря на все, что случилось, – он чист и еще сам не понимает власти минувшего.
Он стал лейтенантом, он стал взрослым, он был втянут в борьбу страстей с молодыми женщинами, такими же сильными, как он. Это оставило след, горько, конечно… иначе и быть не могло. Она наивно и романтически мечтала о нем, смутно угадывала, что ей не хватает каких-то верных мыслей об Алексее в разлуке. Она как бы предугадывала ход событий, неизбежное движение его чувств. Но она не понимала, как это будет. Она не допускала мысли, что прошлое могло исчезнуть. Прошлое не могло быть снесено никаким ветром бурь, она не смела верить в катастрофу. Но она не могла плыть по воле волн.
Обретет ли он теперь что-то подобное тому, что пережил? Она с каждым мгновением любила его все сильней, и все с большей силой пробуждалась в ней женщина. Она должна ему помочь, но не все в ее власти. Она не могла отбросить своего достоинства.
Они приостановились, лицом к лицу, как прежде. Она почувствовала скрытую в нем нежность, силу и характер. Она прикоснулась, как бывало, щекой к щеке. Он хотел поцеловать ее, как прежде. Вера мягко отстранилась и засмеялась снисходительно, как шалости капризного ребенка.
Алексею казалось, что он признался и освободился; камень свалился с души. Ему сейчас ясно, что все будет так, как он решил. И никаких былых увлечений нет, и нет никаких сомнений. Но он оставался мрачен и печален. Жалея, Вера в порыве сама поцеловала Алешу в щеку. Казалось, былое вернулось.
У Алексея не было широкого интереса к тому, что вокруг. Он бы вернулся быстрей, совладал бы с собой, как ему казалось. Но он испытал ушиб и еще не оправился. Третье отделение уже придавливало его, и мгновениями он склонен был полагать, что поэтому у него нет радости у себя на родине. Невольно прошлое казалось свободным и привлекательным. Впрочем, с английским Третьим отделением он тоже в Гонконге познакомился.
Веру опять обожгла мысль, что у Алексея там все было так ярко и страстно, на фоне живописных морей и пейзажей, в лучшую пору его роскошной молодости. Его лучшие годы… Он еще юн, но он там оставил себя. Как прожил уже жизнь. Она опять почувствовала, как это больно и как горячо его любит; желала бы обнять, и крепко целовать, но она не могла поверить в силу его отклика, и это останавливало ее.
– Передо мной предстоит выбор, Алеша, как мне жить, – сказала Вера спокойно и посмотрела в лицо Алексея.
Он насторожился. Гроза, казалось, приближается с другой стороны, он и не подозревал. Да, конечно, она же здесь жила в обществе, вокруг нее молодежь, она так хороша. Но оказалось, что суть была совсем не в том, что пришло ему на ум.
– В госпитале я трудилась с пользой для людей и ощущала свою пользу. Такая деятельность еще продолжается. И мы еще не расстались с последними из калек. Потом их отпустят, и многие сядут на паперти с протянутой рукой. Но война кончилась, скоро я почувствую себя ненужной. Благотворительная община милосердия, созданная великой княгиней, собирается по-прежнему, у дам и девиц обнаруживаются новые интересы. Но это уже собрание особ, оказывающих покровительство искусствам, помогающих бедным, сиротским приютам и тем личностям, которые ищут… Дамы находят для себя предметы забот, и на всей их деятельности есть оттенок удовлетворенности, а также стремление превзойти в милосердии друг друга. Они служат самоотверженно. Но это не по мне. Сестра говорит, что бедность надо лечить не так, не благотворительностью и не обществами светских дам. Ухаживания за израненными больными и калеками принимала как должное… Я с радостью исполняла все. Словно ты сам в это время лежал на больничной койке. Ты долго валялся в госпитале. Ты знаешь, что все это значит. Я не знала, что ты был болен, но иногда мне казалось, что ты лежишь в муках, и когда я ухаживала за тяжело раненными, то мне казалось, что я помогаю тебе… А какие слова благодарности, какие кроткие мольбы последних признаний приходилось выслушивать мне, сколько чувства и ума пробуждалось в страданиях у самых невзрачных людей.
– Ты ищешь новой деятельности?
– Да, я хочу учиться. Мне это необходимо. Хотя бы пришлось уехать. Я уже побыла в деле и не смирюсь с судьбой гувернантки.