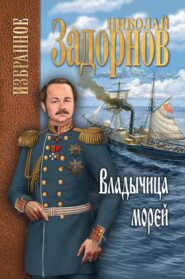скачать книгу бесплатно
– Бутаков не то что надо видел в иностранных флотах, – сказал Врангель. – Разве он не знает, каким избиениям подвергают там матросов, как там за деньги продают офицерские чины и должности…
Речь пошла о том, что на южном побережье Сибири, которое еще не разграничено, хотят найти и построить большой порт, из-за этого идут споры. И, может быть, происходит дележ шкуры неубитого медведя. Муравьев – человек дела, но у него руки не дошли. Еще не занят Амур, и неизвестно, что там будет.
– Денег на порты в Сибири нет, – ответил Рейтерн. – Все средства пойдут на коронацию. Это дело достоинства России и политики.
Врангель полагал, что вполне жизненны многонародные государства; были и в древности, и есть сейчас. Уже не говоря об Австрии – такое мощное, например, и с таким великим будущим, как Штаты.
А какой блестящий финансист получился из Мишеля! Один из столпов, на которых стоит министерство. А так молод… Немцы могут спокойно жить в России, оставаясь ей верными, превращаясь в русских или оставаясь немцами, как кому вздумается.
На Мишеля нельзя не полюбоваться. Свеж, статен, молодой лев в зеленом мундире министерства финансов. Пуговицы блестят, как золотые монеты на сукне рулетки или на ломберном столике. У нас все в чинах и все в мундирах. Так и учат унтера – воспитатели солдат и матросов: ты – нижний чин. У нас все в чинах. И ты в чине!
Министерство финансов известно своей осторожностью и деликатностью, но может поставить любому ведомству непреодолимые препятствия, заставить прыгать, как через колья.
– В Сибири у Муравьева, говорят, свои доходы, – сказал Врангель.
– Какие же доходы? Дозволить законом мыть золото? Чтобы началась золотая лихорадка. Купцы намыли ему пуды золота и пожертвовали на снаряжение первого сплава. Тогда государь-самодержец утвердил это беззаконие. Не дозволять же Муравьеву ввести собственное денежное обращение в Сибири.
Врангель смолчал. Видимо, понимал государь, что законом ничего путного в его государстве до конца довести невозможно. Считается, что надежный доход в казну идет с питейного откупа. Выясняется, что откупщики получают выгоды большие, чем казна В руках арендатора такая выгодная статья, как спаивание народа. В народе говорят – арендаторы хуже помещиков. Особенно крепки они во всем юго-западном крае. Бароны-остзейцы им в Прибалтике большого простора не дают; сами спирт гонят. Питейный откуп – старый позор России. Сладит ли с ним Мишель? В министерстве финансов сидят опытные знатоки, у которых готов давно проект замены откупов. Рейтерн должен знать, за что берется. Россия бедна деньгами, движение денег слабо у нас.
Врангель также гнал спирт на своем заводе в имении. Особенно вник он в дело, когда вернулся с Аляски и несколько лет был не у дел. Но он продавал спирт в казну, отправлял его в Аляску и на Камчатку, надеясь на своего зятя – Василия Степановича Завойко. Зять, вместо того чтобы помочь дядюшке в его трудном положении, писал, что народ на Камчатке привык брать бренди и виски у американцев, жаловался, что не может поручиться, что дядюшкин эстляндский спирт найдет здесь сбыт и что дядя получит барыши. Обидел он тогда.
А золотую лихорадку бродячие по северу американцы уже устроили раз-другой на наших землях в Аляске, и так неожиданно, что в Питере и в правлении Компании у всех волосы дыбом встали. Теперь, кажется, ждут еще худшего. Может быть, правительство ищет удобного повода, чтобы избавиться от Русской Америки. Нессельроде был пайщиком Компании. Горчаков избежит разладов со Штатами и не захочет приближения золотых и политических лихорадок. Того и гляди, Аляска сама уйдет от нас. На разгон приисков команды туда не вышлешь… А от Калифорнии до наших земель рукой подать. Одно валится у нас из рук, а другое хватаем, где не надо. Государь Николай I говорил: «Я не хочу расширения своей империи. Она и так велика. От дальнейшего ее расширения могут произойти лишь непоправимые несчастья».
Врангель рассказал, что на эскадру для плавания на восток командирами кораблей назначены будут Майдель, Астафьев, Стааль, Брюммер, Гревенс, Федорович, Мацкевич. Прекрасные офицеры. Умеют управляться и с парусами, и с матросиками, и с механиками, и с кочегарами. Рукой воспитывают.
Рейтерн спросил про Эгершельда и Шефнера. А потом вернул мысли Фердинанда Петровича к делам семейным.
– Василий Степанович о себе пишет, что он хороший мызник, – сказал Мишель, – он не для Петербурга. С уходом в отставку мог бы стать во главе одного из новых частных коммерческих предприятий, чья деятельность будет связана с морской торговлей и с перевозками грузов. Создается, как вы знаете, дядюшка, солидная компания пароходства и торговли для транспортировки между Рыбинском и Петербургом, по рекам и каналам, для чего должна быть капитально улучшена вся система каналов. Казна отпускает на это субсидии. Дело требует энергии, при расширении и углублении сооружений, и создания большого флота из барж и буксирных пароходов. Завойко мог бы быть драгоценным вкладом. С его настойчивостью он приведет в порядок весь наш гнилой болотистый север.
Чуть заметно Врангель поморщился.
Дела о путях сообщения и перевозках грузов решались с ведома военного и военно-морского ведомства, с тем чтобы на случай войны все держать наготове. Хотя формально независимые частные предприятия и деятельность директоров компании, эксплуатирующей каналы, вне компетенции Врангеля. В интересах Адмиралтейства, чтобы в числе управителей был опытный моряк.
Рейтерн сказал, что Завойко боевой адмирал с прекрасным послужным списком и в экономике ведения войны понимает больше всех петербургских экономистов и стратегов вместе взятых. Он честен, к тому же коренной русский, на каналах и болотах засилия не заведет.
– Ох, беда с этим Завойко! – воскликнул Фердинанд Петрович. – Да, мызник он отменный, что и доказал на Камчатке. И смелый воин в бою. Но он не терпит никаких возражений и на всех жалуется. Если взял себе что-то в голову, то не отступится и не согласится уступить, хоть кол ему теши на лбу.
Когда-то так мил был он Врангелю. В свое время племянницу Юленьку отдали за Василия Степановича. Он был молод, на хорошем счету, бывал в морских боях и отличился. Увлеклась им, полюбила. Племянница Юлия, дочь покойного профессора Георга Врангеля, отправилась с мужем на восток.
Надеялись, что со временем Завойко станет правителем колоний в Америке. Но Завойко ушел на службу короне. А получал Русскую Америку как в приданое, как в наследство от дядюшки. Но Муравьев его сманил. Характер Завойко стал меняться. Учившийся не в Петербурге, а в морских классах, в Николаеве, где выпускают далеко не светских моряков, он перещеголял всех петербуржцев.
– Да, он смелый моряк и хороший хозяин. На востоке пошел в гору, там не смотрят на воспитание, все сойдет, там нужны люди, умеющие работать и сражаться, знающие не паркеты и не по-французски, а хозяйство и мореплавание, в чем Завойко не откажешь. Но как поставить его во главе столичной компании? Он безграмотен!
«Все это выпалил наш дядюшка!» – подумал Мишель.
– Многие наши морские офицеры и капитаны высокого происхождения, вышедшие из Морского корпуса в Петербурге, не лучше. И всю жизнь остаются безграмотными.
– Да, бывают безграмотны и английские и французские офицеры при всем их лоске, – согласился Врангель. – Особенно у англичан – мореные дубы особой породы. Такой и не пишет и не разговаривает ни с кем, и его не узнаешь.
– Безграмотность – бич России, недостаток всех наших сословий. Вы полагаете, дядюшка, что в Петербурге редки безграмотные сановники и даже высшие государственные деятели, за которых трудится мелюзга? Сами они только расписываются. Таких гораздо больше, чем можно предполагать. Прежде чем нашим русоперам, – не удержался Рейтерн, – да тягаться с немцами, им надо научиться своей же собственной грамоте, выработать аккуратность, точность, краткость в суждениях. Но нашему бы теляти да волка съесть! Трудолюбию в скучных, но повседневных делах. Отбросить спесь, лень и зазнайство, забыть свои проекты переустройств из-за того, что лень работать. Завойко в грамоте отстал, но он аккуратен и трудолюбив, это машина, а не человек… За его детьми будущее. Немцы, как я замечаю, по-русски пишут грамотней и литературней, чем сами русопяты, которые языка своего не ценят и выработали по лени особый чиновничий язык, которым и излагают все государственные мысли, наводя даже полезным делом смертельную скуку на всех, кому приходится их слушать по долгу службы или читать их бумаги. Они внушают этим отвращение к любому государственному делу.
– Нет, и этого нельзя скрыть, – ответил Врангель, – талант и ум есть.
– Талант нуждается в обработке.
– И это есть.
– Пример выработки национального характера, которого не знает ни одно государство, подаст со временем всему миру Пруссия.
Рейтерн закусил удила.
Юля – сестра его покойного друга Вильгельма.
В минуты отчаяния и разлада с женой Завойко собственноручно писал безграмотные послания, которые читать нельзя без отвращения. Ябеды, зависть, озлобление в каждой строчке. Если же написано грамотно, без ошибок – значит, Василий Степанович не в ссоре, и в семье спокойно, и Юленька разделяла все его труды…
«Я считаю себя несчастным человеком, судьба бросила меня… Нельзя передать, какие я несу мучения… – писал он Врангелю. – Офицерство здесь на востоке ето страм, что ето за люди страм… А ежели Высокопреосвященный да поведет кляузы к которым охотник и суется не в свое дело… А население Камчатки все во власти попов, которые тут всесильны, так как здесь продолжаются времена инквизиции».
Никого не щадил. Юленька, бедняжка, все вытерпливает. Упрям, крут, суд его краток, но Юленька смягчает ему нрав. Он себя в обиду не дает, но при этом на всех жалуется. Солдаты и матросы любят его, чувствуют простой характер, а он знает, чем взять работника.
– Ныне Завойко адмирал, герой Камчатки, нанесший за всю войну единственное поражение флоту союзников.
Английский адмирал Прайс после первого штурма, видя сильный отпор и недостаточность своих средств, ожидая поражения, взял ответственность на себя и застрелился, давая возможность своей эскадре отменить штурм и уйти. Так Василию Степановичу этого мало. Он всюду пишет и уверяет, что адмирал Прайс не застрелился, а что это подлый обман, а на самом деле он убит выстрелом русского орудия, которое наводили его герои, камчатские артиллеристы, следуя указаниям самого Завойко, отстранившего в разгар боя нерасторопного офицера.
«Такие противоречия! – полагал в досаде Врангель. – Герой войны, герой труда, а иногда как кляузник и ябеда. Вдруг ему покажется, что все у него крадут славу. Мало ему своих уличать, взялся за англичан, что и они обманывают его, не могут не солгать, как наши чиновники. Достоинства и подвиги Завойко замалчивают, желая из мести за свое поражение подложить ему свинью. Я сам не любитель англичан, но что же их винить в грехе, им несвойственном. У них гибель на палубе в бою считается геройством и не скрывается, и об этом пишут, и за это оказывают почести, память таких моряков сохраняют и приучают уважать. Кому бы вздумалось скрыть гибель Нельсона на палубе в бою и объявить, что на самом деле он покончил жизнь самоубийством, только чтобы награду не дали попавшему в него французскому стрелку. Завойко долго думал и додумался, что если все ему пакостят, то англичане не отстают. Да, теперь он возвращается в Петербург с Амура. Юленька прекрасная жена и мать, образованная светская женщина. Милая Юля, племянница моя. Едут, и с ними девять детей. Юля их прекрасно воспитывает, сама им преподает. Дети владеют языками, прекрасно рисуют, учатся отлично. А вот когда у них разлад между супругами, Василий Степанович начинает рубить сплеча и бьет, как обухом по голове, и льются в его письмах потоки ошибок и нелепостей».
Немного еще посидели, пошутили и расстались. Дело не решили, казалось бы. Но ясно, что Врангель все исполнит.
В огромном кабинете с картинами, картами и знаменами Фердинанд Петрович, проводив Мишеля, некоторое время постоял молча. Вынул серебряную луковицу часов. Дома пусто. Елизаветы Васильевны больше нет. Рысаки скоро будут поданы.
Адъютант принес позднюю почту. Письмо от архиепископа Иннокентия из Якутска. Почта оттуда ходит редко.
Аляска, северное побережье Сибири, остров Кадьяк, Якутск останутся для Фердинанда Петровича навсегда краями молодости. Там он, бывало, не только делал описи, сам каюрил, сам охотился. Там он сдружился с молодым миссионером, ныне почтенным архиепископом.
«Лето был в Аяне и с неприятелями нашими десять дней жили по-приятельски. Впрочем, нельзя не отдать им справедливости за то, что они с Аяном поступили благородно».
Есть отрада в письмах Иннокентия, напоминания о славных временах, когда Фердинанд Врангель был главноуправляющим колоний в Русской Америке.
…Потому и неприятели поступили благородно и ничего не разграбили, что там оказался архиепископ. У них и у самих миссионеры в большой силе. А Иннокентий славен повсюду.
«В числе писем из Америки я нынче получил письмо от Касьяна с острова Павла… Если вы изволите помнить место Горбач, где… могли жить 20–30 холостяков[4 - Холостяки – самцы.], в прошедшем 1854 жили одних годовалых холостяков более 2000, что же сказать о прочих главных лежбищах! Касьян и все павловцы восписуют страшную благодарность за это, а кому же? Мне… Нет! Если уж следует кому-нибудь из людей благодарить за это, то Вашему Высокопревосходительству – сильно и убедительно представившему о запуске китов для размножения там, где люди гибли и откуда они собирались уходить.
Благодарность Главному Правлению – и Ему, послушавшему Вас… весьма приятно такое известие. Теперь надобно Компании искать только сбыт китов».
Врангель помнил Касьяна. Слава богу, он жив и здоров. И, видно, крепок, ходит на опасную морскую охоту. Врангель помнил остров Павла, как вели отлов зверей, завозили туда китенков, чтобы не вымерло население, как бывало там, где распоряжалось чиновничество.
Иннокентий скромничает, приятно утешает Врангеля в его петербургской жизни, а дело начато не мной, а им самим. Он с жителями острова Павла задумал все это, может быть, по их мольбе. Но сами они ничего исполнить не могли бы. Иннокентий обратился в Главное Правление. Там начались разногласия. Тогда Врангель решил все сам. Не шутка – послать корабли на отлов китят, перевезти их, выпустить. Нашлись суда и люди. Павловцы сами пошли в экспедицию. Без Врангеля и кораблей Компании им и миссионеру невозможно было обойтись.
В детстве спрашивали: «Кем же ты будешь, Фердичка?» Мальчик отвечал: «Я пойду в дальний мир с луками и стрелами».
А теперь Врангель начальник Главного морского штаба.
По секрету Иннокентий сообщал: «В полученном мной из Лондона письме пишут между прочим: “Лондонские раскольники желали бы, чтобы новые наши земли на востоке засеяны были чистым еретизмом. По крайней мере американские журналы не раз замечали это”. Просит письмо сжечь, если найду нужным, а если понадобится, то оставить и показать любому…» Видно, не хочет писать доноса, не желает обнаруживать интереса к делам политическим, как лицо духовное, а оставаться в стороне не может. Что и доказал не раз.
Но что значит еретизм? Религиозный? Политический? Или это еще один упрек за шведов и финнов, присылаемых на службу на Аляску, исповедующих лютеранскую веру? Кто же эти раскольники? Политические ли преступники, жившие в Англии во время войны? А переписка между нашими православными священниками происходит беспрепятственно по всему миру.
…Письмо из морского министерства Франции. Пишет французский адмирал, ученый, путешественник, хороший знакомый Фердинанда Петровича. «Мой дорогой друг… В Россию в скором времени предполагает отправиться директор частного депо морских карт… Морское министерство Франции просит… Возможно ли будет оказать содействие… Мы надеемся…»
Да, конечно… Врангель поднялся. За эти годы и мы и они делали открытия, производили описи; многие карты устарели…
Мир начинает оживать. Еще пленные наши от них не все вернулись, а они уж обращаются с просьбой открыть им наши депо карт, показать, какие новые открытия нами совершены. Врангель не хотел бы спешить с ответом. Но и отказать нельзя…
Глава 4. Возвращение
…увлекать с трибуны, учить с кафедры гораздо легче, чем воспитывать одного ребенка.
А. Герцен. Былое и думы
Долгим солнечным вечером инженер Николай Михайлович Сибирцев выслушивал рассказы и расспрашивал товарищей своего сына, офицеров японской экспедиции, явившихся к нему на дом при заводе под Петербургом. Сибирцев-старший крепко сшит, с гостями весел и общителен, как ровесник.
Приняв при встрече сыновье письмо, Николай Михайлович, быстро пробежав его и миг подумав, передал супруге, и она поняла мужа без слов. Кратко писал Алеша, прежде приходили письма подробней. Видно, спешит домой, надеется на скорую встречу, трогательно и жалко мальчика. Товарищи видели его в Лондоне, он не совсем оправился от недугов, после холеры еще чем-то болел, последствия дают себя знать. Из госпиталя выписан. Живет в пансионе. Но что же он задерживается? Спрашивается, на какие деньги. Ах, боже мой!
Лейтенант Александр Сергеевич Мусин-Пушкин, служивший на «Диане» старшим офицером, не состригший с переменой царствования на своих розовых тугих щеках николаевские бакенбарды, заметил про Алексея Николаевича, что, говоря по-английски, он всюду принимаем в Лондоне любезно.
Барон Николай Александрович Шиллинг благородно смолчал, зная, что сам говорит по-английски совершенней, чище и правильней Сибирцева. Алексей Николаевич ошибки делает в произношении и грамматике. Шиллинг был лучшим после Гошкевича переводчиком из всех офицеров экспедиции и посольства, если не считать самого адмирала Путятина, много лет служившего до войны морским представителем России в Лондоне.
Осип Антонович Гошкевич мило рассказывал про японца, которого вывез. Он теперь в Петербурге, остановились у Гошкевича дома, совместно составляют первый русско-японский словарь. Японец являлся в Петербургский университет и приглашен туда читать лекции.
– Так он образованный человек?
– Что же вы его с собой не привезли?! – воскликнула Анастасия Николаевна Сибирцева.
– Японец желает окреститься. Отцом крестным быть уж мне, да надобно найти крестную мать, – сказал Гошкевич и вопросительно глянул на Сибирцеву.
Анастасия Николаевна посоветовала обратиться к супруге адмирала Мятлева, урожденной графине Салтыковой, она известная благотворительница, большая охотница оказывать помощь, что и доказала не раз, и уж, верно, не откажется от чести окрестить первого в Петербурге японца; она уже крестила двух калмычат и удочерила девочку-киргизку.
С офицерами приехал Васенька Керженцев, брат Веры и Наташи, недавно закончивший военное училище, привез Анастасии Николаевне сирень из оранжереи и рукоделия – подарки сестер и приглашение Сибирцевым от родителей на обед, куда званы товарищи их сына. Вася слушал рассказы моряков об Алексее, тая дыхание, рта не смея открыть, и, верно, мечтал, как и его сестра, о встрече с ним, и, как она, был в него влюблен.
Не иначе как обед у Керженцевых – затея Веры; она тревожится и не терпится знать про Алешу что возможно. У Керженцевых всегда толпится молодежь, так и гостям будет интересно.
Гости объясняли, чертя по просьбе Сибирцева, как строился в Японии стапель и как спускали корабль. Какая была местность, бухта, глубины и как и какими своеобразными инструментами работали японские мастеровые.
– Японцы не захотят после ваших уроков завести более современный флот? – спросил Сибирцев.
– Признаются, что им нужны паровые и железные корабли, а также усовершенствованные артиллерийские орудия, – ответил Мусин-Пушкин, – как для своей безопасности, так и для будущего расширения японских владений и завоевания разных стран по примеру европейских держав. О чем осмеливаются заявить лишь, выражая приятельство и под секретом.
– В книгах одного из японских философов, еще в прошлом веке, развивались подобные идеи, – подтвердил Осип Антонович Гошкевич. – Утверждалось, что Япония должна достигнуть такого же могущества, как Англия и Франция вместе взятые, для этого надо завоевать Камчатку и построить на ней японский город, как Лондон, и завоевать земли на континенте в более удобном климате и где нет землетрясений, примерно в Приморье, и построить там город, как Париж.
Гошкевич рассказал, как японец всем интересовался на кораблях, в колониях и в Англии, что вообще всем много впечатлений дает Лондон и делает людей образованней, можно там почерпнуть много знаний.
Николай Михайлович спросил, сохранились ли еще в Трафальгарском сквере скамейки из толстых некрашеных плах, как в деревне у ворот.
– Так точно, – весело отвечал Шиллинг. Кроме него, и внимания никто не обратил на скамейки.
Николай Михайлович оставался на вид спокойным и сохранял хорошее настроение. Он не мог понять поступков сына и втайне был недоволен.
Когда начало темнеть и потянуло финским холодом, он проводил гостей через сад за ворота, куда подали экипаж, запряженный двумя рысаками, и, простившись, велел дворнику спустить цепную собаку. Анастасия Николаевна по его шагам, как он подымался на деревянное крыльцо, и по шарканью ногами слышала, что муж не в духе и теперь только станет самим собой. Засевшая забота подавлялась им, пока не запер за собой дверь в пробуждавшийся предвесенний сад.
Николай Михайлович мог полагать, что жене письмо сына еще неприятней, чем ему. Тем более нечего ее бередить. Какие-то недомолвки и намеки гостей могли показаться за столом. Николай Михайлович пробовал начисто поговорить, нет ли, мол, чего-то, какой-то причины задержки сына. Уклонились, уверяли, впрочем, что все обстоит благополучно; очень может быть, что сами всего не знают или не берутся судить. Может быть, уверены в нем, кажется, зарекомендовал себя участником предприятий и приключений, и, верно, не только по долгу службы. Николай Михайлович сам был молод. Он не поддавался увлечениям, но не раз увлекались его сверстники.
Послезавтра офицеры приглашены к Керженцевым. Николай Михайлович не сможет поехать, на заводе горячий день; на постройке нового корабля будет великий князь Константин Николаевич. Поддаст жару и мастерам и рабочим.
У Керженцевых будет, вместо родителей, Миша, младший Сибирцев, брат Алеши. Он пришел позавчера. Их корабль стоит в Неве. Предстоит взять на борт высочайшую особу и доставить в Копенгаген. Оттуда отправится она по немецким родственникам в Гессен, в Ганновер. «Довезем до первого двора в Европе, а там пусть катят на высочайших перекладных по железным дорогам и на пароходах до Неаполя к ополоумевшему королю… С окончанием войны все высочайшие персоны так и рвутся за границу, – говорил Миша. – Хороший повод для лондонского “Панча” поместить карикатуру на тему “Нашествие царских родственников на Европу!”».
В умах у нашей офицерской молодежи все смешалось, полагал отец: либеральные порывы, верность престолу, симпатии к высказываниям революционеров, надежды на коренные реформы и на карьеру. Желают реформ без потери выгод, отмены телесных наказаний, но с сохранением привычки заехать в рыло. Миша воспитывается теперь обществом либеральным по обязанности, а не отцом с матерью. Он на хорошем счету…
– На прощанье поговорили про Колокольцова, – входя в комнату жены, молвил Николай Михайлович. – Сказал им, что великий князь предполагает после возвращения из Японии послать его во Францию на заводы. И хочет также, чтобы Колокольцов изучил, как производятся телесные наказания во французском флоте… А пока дай бог ему и Посьету благополучного плавания… В Китае война… А у нас тихо…
Тихо, как в эту белесую ночь над рабочим поселком, над доками и лесом.
Барон и Гошкевич показались Сибирцеву откровенней, чем Мусин-Пушкин, редко вступавший в разговор.
– Он отдыхал у нас, – сказала Анастасия Николаевна. Она понимала его по-своему.
Конечно, может быть, он давно стремился вот так посидеть без забот, в гостях, в удобном кресле в гостиной. Жизнь как задачка: столько-то пишем, а столько в уме. Похоже, что он дело свое сделал и успокоился и молчит о подробностях, зная все то, о чем не докладывается родителям. Удобно не чувствовать обязанностей и качающейся палубы под ногами, без вечного рева в трубу, как им приходится…
Да, Мусин-Пушкин, видно, себе на уме, с характером, поэтому и выходил больного холерой Алексея, как ребенка, на своих руках, не поверил во всесилье медицины. Судьба, видно, проучила Алексея. Теперь места себе не найдет. Но что там, не девица ли какая, чем она его запутала – бог весть, да и не мое дело. Впрочем, известно, чем могла запутать, ведь он молод. Но это тайна тайн.
Теперь там такая же кутерьма, как и у нас; его никто не обвинит в задержке. Да и Алексей не без головы… Лишь бы был здоров. Но Лондон велик и полон продувных бестий, которые охотятся за кем попало, только сунь им палец в рот. Впрочем, у англичан правила строгие.
Могла вскружить голову какая-то барышнешка, француженка или лондонская леди, сострадательное создание, вроде наших госпитальных аристократок.
Мусин-Пушкин, между прочим, сказал странную фразу, что Алексей Николаевич оказался умелым адвокатом. Принят в Лондоне не как военнопленный, а как дипломат, оказавшийся случайно в английской колонии во время войны и задержанный там.
Впрочем, как добавил Мусин-Пушкин, и с ним самим, и с его товарищами обошлись так же, под конец согласились не считать пленными.
Прождав полмесяца, Николай Михайлович получил телеграмму от сына, взял отпуск и выехал в Либаву.
С черного высокого борта парового транспорта по длинному трапу, ведущему как на колокольню, сходили неторопливо и как бы не веря глазам своим освобожденные пленники войны.
– Я здоров, папа…
– Что же так долго?
– Да пока ноги еще слабоваты.
Николай Михайлович начал с оттенком долго копившейся обиды, но, когда увидел близко сыновье лицо, свежестью и глазами напоминавшее мать в юности, и Алексей поцеловал его, как в детстве, нежность охватила отца, и все тени снесло, как ветром. И он представил, как рада будет ему Вера, чувствуя сейчас, как и она не может быть не мила ему, расцветшая и выросшая за эти годы. Она труженица прекрасная…
– Ну, господи благослови тебя на родной земле.