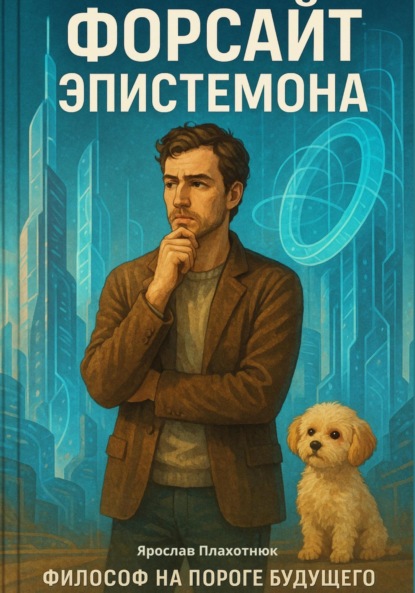
Полная версия:
Форсайт Эпистемона
Я стоял на балконе с дымящейся сигаретой и думал: даже если мы все соберемся – философы, математики, физики, нейробиологи – и создадим идеальную теорию познания, она все равно будет нашей теорией. Она не скажет ничего вне человеческого контекста. А значит – не будет объективной. Будет лишь согласованной. Убедительной. Функциональной. Но не свободной от нас.
И все же…
Я не чувствовал горечи. Не рвал на себе рубашку и не собирался сжигать книги. Это просто… констатация. Как у человека, который знает, что к вечеру в горах почти всегда туман, и все равно берет зонт. Не потому, что надеется избежать дождя. А потому что в этом – жест достоинства. Понимание границ. И согласие с ними.
Философия – это ведь не про то, чтобы победить хаос. Это про то, чтобы не сойти с ума, наблюдая, как он распространяется.
Внизу послышался легкий шум. Он и отвлек меня от размышлений. Я оперся на перила. У конюшни суетился Рамиль. Вел очередную группу туристов кататься на лошадях – кто в шортах, кто в нелепых панамках. Женщина с селфи-палкой уже пыталась обнять лошадь, которая недовольно дернула мордой.
Но внимание мое притянуло другое.
У стойла стоял Хулиган – мой старый знакомец, конь с характером и дурным взглядом. Привязанный, сердитый, он косил ушами и иногда шмыгал губой, как будто комментируя происходящее.
Я крикнул:
– Эй, Рамиль! А почему Хулигана не берешь?
Он повернулся, прищурился:
– Боятся! Он с возрастом совсем дурной стал. На днях одного туриста едва не скинул, а другой просто отказался садиться – сказал, что глаза у него как у бандита.
Я улыбнулся и затянулся.
– Ну так и должно быть. Он – с характером. Я справлюсь. Подожди меня.
Рамиль развел руками, как будто хотел сказать «твоя голова – твоя проблема», и продолжил подгонять группу.
Я затушил сигарету, откинул кофейную гущу в цветочный ящик, надел ветровку и пошел вниз, к лошадям.
***
Я спустился к конюшням. Воздух здесь был насыщен смесью запахов: сена, кожи, лошадиного пота и чего-то еще неуловимо деревенского, честного. Рамиль с группой уже ушел довольно далеко – разноцветные куртки туристов мелькали среди деревьев внизу. Я подошел к стойлу. Хулиган стоял с привычной гордой осанкой, немного нахохлившись, будто скучал или дулся.
– Ну что, старый дурень, – пробормотал я и потрепал его по гриве.
Он повел ухом, дернул головой. Мне показалось узнал. Хотя, конечно, вряд ли. Это же не кино. Но люди же тоже не каждый раз узнают себя в зеркале – особенно спустя годы.
Мальчишка, помощник Рамиля, лет шестнадцати, с торчащей из-под шапки челкой и курткой на два размера больше, лениво помог мне оседлать Хулигана.
– С ним осторожно, он нынче не в духе, – бросил парень, будто выдавал какой-то локальный фольклор.
Я кивнул и, взобравшись на седло, привычным жестом поправил стремена. Хулиган сразу рванул вперед – не сбрасывая, но давая понять: его прогулка, а не моя.
Мы шагали по знакомому маршруту. Деревья, причудливо изогнутые, будто в танце. Каменистая тропа. Пахнущий смолой воздух, который в городе теперь продавали бы в банках под названием «аромат настоящести». Я вдыхал все это, пытаясь запомнить не только картинку, но и текстуру момента.
Хулиган вел себя, как и положено его имени: дергал поводья, пытался схватить ветку зубами, подныривал вбок, как будто там была какая-то невидимая для меня тропа. Через несколько минут я догнал группу. Туристы оживились. Кто-то поздоровался, кто-то предложил сфотографировать. Я перекинулся парой слов, пошутил про «особого скакуна» и понял, что с Хулиганом лучше быть впереди. Он явно строил зубастые планы на хвосты лошадей впереди.
– Ну, понеслась, – сказал я, чуть ослабив повод.
Мы рванули галопом. Ветер хлестал по лицу, сердце стучало в ритме копыт. Мгновение – и ты уже не философ, не преподаватель, не уставший человек на грани профессионального выгорания. Ты просто тот, кто держится в седле.
И вот тогда, среди хрустящего воздуха и звона подкованных копыт, меня опять накрыло моей философской болезнью. Наверное, меня поразили слова Антона про оптимизацию в его компании, но я стал думать про искусственный интеллект. ИИ – это не инструмент в привычном смысле. Не продолжение руки, как молоток. Не орган чувств, как микроскоп. Не вместилище знаний, как книга. Все это – инструменты, полностью подчинившиеся человеку. Их функции прозрачны. Их работа – предсказуема. Их молчание – управляемо.
А ИИ – как Хулиган. Ты можешь держать поводья, но ты не управляешь каждым шагом. Ты не выбираешь, куда он поставит копыто, когда почувствует резкий запах или когда что-то мелькнет сбоку. Ты даешь сигнал, и он интерпретирует. В этом – разница. В этом – начало нового.
ИИ – не объект. Он система с внутренним состоянием, которое нам недоступно. Он откликается, но не подчиняется в строгом смысле. Его поведение не механическое, а вероятностное. Это не повторение, а вариация. Ты задаешь курс – он выбирает путь. И этот путь иногда удивляет тебя. Иногда пугает. Иногда восхищает. Но ты всегда немного не в курсе – почему именно так.
Всадник и скакун. Мысль и воплощение. Нам кажется, что мы ведем, но на самом деле просто согласуемся с движением. Стараемся держаться в седле. Черный ящик, спрятанный под кожей животного, под искрами кода, под весом миллиарда параметров. Мы его не понимаем. Мы даже себя-то, в сущности, не понимаем. Но с ИИ особенно ощутимо это чувство. И все же мы его используем. Как костер в пещере. Как электричество в первый раз.
Хотя ИИ, в сущности, такой же, как и Хулиган. Можно кормить, можно хвалить, можно бить плетью – но он все равно живет своей жизнью. Не злобной, не злой. Просто – не твоей. ИИ не зло и не добро. Не подчиненный, не бунтарь. А нечто третье. Тот, кто не станет тебя спрашивать, почему ты хочешь туда. Он просто понесет тебя – так, как умеет.
И тогда философия уступает место тактике. Познание – терпению. А мудрость, может быть, – доверию. Но не слепому, нет. Осторожному, трезвому, с рукой на поводьях и ногой в стремени.
Возможно, так выглядит будущее познания. Человек не как центр мироздания, а как всадник на черном ящике, движущийся в туман. И если он не падает – это уже победа.
Я усмехнулся.
– Вот и аналогия к лекции, – пробормотал я. – Эмпирическая, с запахом лошади.
Нужно будет записать. Может, и студенты поймут, о чем я толкую. Может, хоть кто-то усмехнется в ответ.
Хулиган немного сбросил темп – будто устал или просто надоело выделываться. Я почесал его за ухом и посмотрел на просвет между деревьями, где вдалеке синели горы. Как бы ты их ни познавал, они все равно выше тебя.
– Даа, что-то потянуло меня – заключил я шепотом.
***
К вечеру дворик начал оживать.
Сначала вышел Эльдар – растрепанный, но уже посвежевший, в худи с подписью какого-то несуществующего американского колледжа. Зевнул так, что чуть челюсть не вывихнул. Следом, как по расписанию, появился Антон: волосы расчесаны, футболка выглажена, руки в карманах. Он всегда выглядел так, будто только что вышел с фотосессии на обложку журнала «Айтишник и миллионер».
Я уже раскладывал угли в мангале, разбирая запакованное с вечера мясо. Эльдар принес хлеб, зелень, какой-то аджики. Антон поставил бутылку чачи и воду – он всегда пил в строго определенной последовательности: алкоголь, потом вода, потом маленький перерыв и снова.
Дворик, как всегда, был идеальным местом для вечера. Каменные дорожки, кованая мебель, горы за забором и тишина, звенящая, как натянутая струна. Нас было только трое, но мы знали – это оптимальный состав. Больше – уже шум. Меньше – уже тень одиночества.
– Ну что, запрещенный эмигрант, как тебе вкус свободы? – поддел я Эльдара, кидая первый шампур на мангал.
– Тихо, – фальшиво огляделся он. – Мало ли, Катя поставила прослушку. Или, что хуже, видеонаблюдение через облако.
– Ты ее боишься, как будто она силовик, – сказал Антон.
– А ты бы не боялся, если бы просыпался два года подряд от крика «где соска?!» – парировал Эльдар и уселся за стол.
– Ты ее, между прочим, сам выбрал, – сказал я. – Мы тебе говорили: не делай предложение женщине, которая на первом свидании говорит «у меня высокая планка по мужчинам».
– Это была не планка, это был тест, – устало усмехнулся Эльдар. – Я его провалил, но она почему-то все равно согласилась.
Чача уже разогревала щеки. Мы ели овощи, ждали мясо, делились историями, как будто их не рассказывали друг другу по десять раз. И вот Антон, словно вспомнив что-то важное, сказал:
– Кстати. Я начал делать новую игру.
– Неужели не про киберпанк? – фыркнул Эльдар. – В прошлой ты вшил в мозг персонажа ИИ-попутчика, который ныл хуже моей тещи.
– Нет, не киберпанк. Царская Россия. Конец девятнадцатого века. Петербург, баллы, губернии, уездные чиновники, тени Толстого и Чехова в каждом кафе. Я хочу, чтобы игрок жил там – не сражался, не спасал мир, а ходил в лавку, ждал писем, обдумывал честь.
– Ретроутопия, – сказал я. – Эстетизированное прошлое как ответ на перегрузку настоящего.
– Именно, – кивнул Антон. – Я думал, что людям интересна механика. А оказывается – антураж. Им нужно не играть, а находиться. В красивом. В выдуманном. В понятном.
Он замолчал, потом добавил:
– И я понимаю их. Сам устал от настоящего, где даже смартфоны уродливые. Хочу бакенбарды и бумажные письма.
– Только не забывай, что к письму прилагалась дизентерия, – вставил Эльдар. – И возможность умереть от ангины.
– И зубы, которые не лечили, – сказал я. – Вырывали. Или сами выпадали. А туалет был за двором. И свечи коптили, и клопы, и одежда кололась.
– А еще ты можешь быть талантливым пианистом, – продолжил Эльдар, – но останешься никем, если не родился в нужной семье.
– И все равно хочется туда, – тихо сказал Антон. – Потому что тогда у всего были и форма, и содержание. Бал – это не просто тусовка, а событие. Мундир – не просто одежда, а статус. Даже письмо – ритуал.
– А сейчас ритуалов нет, – согласился я. – Есть функционал. Мир стал удобным, но без лица. Как интерфейс. Он работает, но не трогает.
Мы замолчали. Треснул уголь. Снизу тянуло мясным ароматом. Горный воздух впитывал в себя наши фразы, как будто они были частью ландшафта.
– Может, мы просто стареем, – сказал Эльдар. – С ностальгией по эпохе, в которой не жили. Это уже диагноз.
– Возможно, – сказал я. – Но диагноз – не всегда болезнь. Иногда – просто описание. Мы хотим не в прошлое. Мы хотим в структуру. В мир, где понятно, кто ты, для чего ты, и какие у тебя выходные.
– И где ты точно знаешь, что в воскресенье тебя ждет плов, чай в самоваре и кто-то сыграет на виолончели, – добавил Антон.
В этот момент шашлык был готов. Я разложил мясо по тарелкам. Мы ели, молча, сосредоточенно. Горы за забором медленно темнели. Издалека доносились какие-то голоса – может, другие туристы, может, местные.
Было хорошо. Без лишнего пафоса, без напускного смысла. Просто три друга, вечер, запах дыма, немного философии и чуть-чуть грусти – той самой, которая делает воспоминание теплым. И, может быть, это и есть наше настоящее. Без балов, но с настоящим шашлыком. Без эполетов, но с возможностью говорить вслух то, что думаешь. И знать, что тебя поймут.
***
Утро встретило меня не рассветом, а гудящим черепом. Где-то в темени крошечный гном долбил киркой изнутри, будто добывал из мозгов кварц. Я застонал, открыл один глаз – не помогло. Второй – стало еще хуже. На третьем этапе организм прислал формальное уведомление: "Вы вчера ошиблись".
– Никогда больше… – пробормотал я, как обычно. – …никогда, – добавил я, открывая бутылку воды и делая глоток.
Бессмысленный, холодный, идеальный глоток. Ни капли спасения, но хоть иллюзия. Рамиль говорил: «чача – чистая, как слеза духа гор». Ну, если дух – это гном с киркой, то да, совпадает.
Я оделся, спустился вниз. Столовая уже ожила. Пахло жареным хлебом, вареными яйцами и кофе из турки. Жена Рамиля, как всегда, управляла всем и сразу: накрывала стол, отчитывала мальчика-помощника, ласково объясняла туристке из Екатеринбурга, что в горы надо идти в трекинговых ботинках, а не в кедах с блестками. Я взял поднос, неся его как драгоценность – голова не прощала резких движений.
– Доброе утро, Андрей Геннадьевич! – раздался знакомый голос.
Я обернулся. За столом сидела девушка с короткой стрижкой и в черной футболке с логотипом Python. Узкая, жилистая, с настороженным вниманием в глазах.
– Ого, – сказал я, – не ожидал увидеть кого-то с мехмата на отдыхе среди гуманитариев.
– А я не отдыхаю. У меня маршрут на завтра, сегодня разведка, – она улыбнулась и сделала глоток чая. – Я у Рамиля в прошлом году уже была, очень понравилось.
Я кивнул, взял кофе. Мы обменялись взглядами на пару секунд – как преподаватель и студент, встретившиеся на другой стороне карты. Немного неловко поболтали о погоде и о видах.
– Слушайте, – сказала она вдруг. – А вы знаете легенду о Бадукских озерах?
Я поставил чашку. Из-за соседнего столика донеслось:
– Кто-то говорил «легенда»? А ну, послушаем!
– Говорите тише, – сказал я, – легенду распугаете.
– Ну так что, слышали? – не отступала она.
Я вздохнул. Утренняя философия была не запланирована. Но когда тебя в полусонном состоянии спрашивают о легендах – это всегда ловушка.
– Говорят, – начала она, понизив голос, – если дойти до третьего, самого дальнего озера… и доплыть до середины… можно увидеть свое будущее. Не во сне, не в отражении, а увидеть.
Она смотрела на меня серьезно. Слишком серьезно, как для человека, который обычно оперирует интегралами и теоремами. Я усмехнулся.
– Видел я это озеро. Купался даже. Правда вода там ледяная. Так что, кроме холодного шока и легкой простуды никаких видений.
– Значит, вы не доплыли до середины, – пожала плечами она. – Или… вам просто нечего было показать.
Я прищурился. Мехмат. Фундаментальная информатика. Наука. А говорит как старая карачаевская сказительница.
– Или, может, наоборот, – сказал я. – Я знаю, что там. И не хочу туда смотреть.
Мы замолчали. В этот момент за окном проехала машина с туристами. Заиграл странный радиосигнал – восточная мелодия, прерываемая шипением. Я вдруг почувствовал легкое дежавю. Не потому, что слышал это раньше – а потому что все это было слишком сценично. Слишком хорошо совпадало. Как будто кто-то срежиссировал утро по правилам драмы.
Я снова посмотрел на девушку. Она уже переключилась на смартфон, листала маршрут, гуглила карту.
«Будущее, – подумал я, – это все, что мы боимся узнать». И еще – что уже знаем. Но не хотим признавать.
Я допил кофе, взял яблоко, пошел наверх собираться. Голова все еще гудела, но теперь – иначе.
***
Через час мы стояли полукругом у машины, как персонажи старого ролевого квеста, проверяя экипировку и перекидываясь репликами.
– Антон, ты положил второй баллон?
– Положил, – отозвался тот, не отрываясь от рюкзака. – Весит как совесть, но лежит. Не шипит.
Антон был, как всегда, до безобразия собран и опрятен: аккуратный термокостюм без единой затяжки, рюкзак по линейке, каждая вещь на своем месте. Словно собрался не на маршрут, а на встречу с фанатами.
– Эльдар, проверь спальник. Ты в прошлый раз ныл, что мерз.
– Проверил, – ответил тот, чавкая яблоком. – Теперь он с подкладкой, как у бабушкиного одеяла. Но если ты снова будешь храпеть, мне никакой спальник не поможет. Я буду согреваться злостью и проклятиями.
Он уже третий анекдот выдал за утро. Все – в жанре «за гранью дозволенного»: с обязательным участием раввина, инженера и стюардессы. Мы не особо смеялись, но ритуал был важен. Эльдар считал, что начало похода без анекдотов – это как чай без заварки. Беду позовет.
Я стоял немного в стороне, дотягивая лямки рюкзака и мысленно проходя список: спальник – есть, аптечка – на месте, дождевик – проверен. Машину мы оставляем здесь, во дворе у Рамиля. Он обещал приглядеть. И я верю – в этих краях слово еще чего-то стоит.
Маршрут у нас классический, почти обрядовый. Сначала – тропа к Бадукским озерам, потом – подъем выше, в зону, где трава уступает место камням, а лес – ветру. Там, у разрушенной сторожки, – ночевка. Главное – выбрать место, где не будет волков или чего похуже. В прошлом году мы слышали ночью вой. Тогда все обошлось. В этом надеемся на то же.
Я шагнул ближе к друзьям, остановился и, будто бы невзначай, бросил в воздух:
– Кстати, одну байку сегодня услышал. Студентка рассказала. Мол, если добраться до самого центра последнего Бадукского озера и заплыть до середины – можно увидеть свое будущее.
Молчание было секундной задержкой перед фейерверком.
– Ну ты даешь, доцент, даже в горной глухомани какую-то студентку нашел, – тут же выдал Эльдар, выбрасывая огрызок с такой точностью, что тот угодил аккурат в старое ведро.
– Знаете, когда я видел будущее? Когда случайно хлебнул из того озера в позапрошлом году, где дохлую форель даже комары облетали стороной, – добавил Антон. – Ну, вы же помните: я тогда чуть кишки не потерял. До сих пор, если воду наливаю в кастрюлю, то принюхиваюсь и прислушиваюсь.
– Будущее! – передразнил Эльдар с нарочитой мистикой в голосе. – Вижу-вижу! Вернешься домой, а у тебя жена теперь считает, что "борщ – это суп с малиновым вареньем".
Смех скатился по двору, как мячик по кафелю. Я тоже улыбнулся. Но как-то вяло. Не по-настоящему. Потому что эта история… зацепила. Не тем, что я в нее поверил. А тем, что она была точно встроена в ландшафт. В эти горы, в озера, в леса, которые уже тысячу лет молчат и смотрят. Как будто легенда не придумана людьми, а наоборот, подсунута человеку кем-то другим. Чтобы кто-то, когда-то, да и доплыл. Проверил.
Я пожал плечами, прогнал мысль и двинулся за остальными. Мы шли к началу тропы легко, словно возвращаясь домой. Мы знали каждый поворот, каждую корягу, знали, где свернуть у упавшей сосны, где проскользнуть вдоль склона, и где будет ручей, из которого вода как стекло.
Солнце медленно ползло вверх, подсвечивая верхушки деревьев. Все казалось знакомым. И в этом был подвох. Иногда самое странное начинается именно там, где ты уверен, что все под контролем.
Глава 3
До первого Бадукского озера мы добрались за пару часов – не напрягаясь, не торопясь, делая только короткие – на 2-3 минуты – привалы. Тропа была знакомая до безобразия. Мелкие камешки, попадающие в ботинки, поваленный ствол, на котором кто-то каждый раз оставляет сложенные из веточек знаки, намекая будто лесной дух освоил письменность. Влажный мох под ногами, запах хвои, редкие всполохи света сквозь листву. Все это мы знали и видели уже много раз.
Озеро встретило нас молча, как старый знакомый, который не любит обниматься. Вода – темная, неподвижная, зеркальная, немного похожая на экран монитора до включения. В ней отражались облака, еле заметные, ползущие, будто тоже устали от суеты. Мы сбросили рюкзаки, плюхнулись на плоские камни у берега, вытянули ноги. Плечи ломило от лямок, но это была приятная, знакомая боль.
– Все, привал, но недлинный, на полноценный разложимся уже у последнего озера – сказал Антон, вытаскивая термос. – Чай с бергамотом, если кто хочет просветления. Без сахара – потому что жизнь и так сладкая.
– Или горькая, – буркнул Эльдар, устроившись по-турецки на коврике. – Зависит от того, с какой стороны подойти к озеру.
Я сел чуть в стороне, ближе к кромке воды. Волн конечно же не было, только легкая рябь от ветра. И – абсолютная тишина. Такая, которая бывает только в горах и только в определенный час. Не тишина-отсутствие, а тишина-присутствие. Живая. Слушающая.
– Ну? – сказал я, не поворачивая головы. – А если бы легенда была правдой? Что бы вы хотели увидеть в своем будущем?
Повисла пауза. Как будто это был не просто вопрос, а какой-то пароль. Который открывает что-то. Или запускает.
– Я бы хотел… – начал Антон, по привычке задумчиво осматривая термос, будто ответ был написан на крышке. – Я бы хотел увидеть себя через двадцать лет. Без подробностей. Просто понять – сработало ли все. Знаешь, как в уравнении: поставил все переменные, провел расчет… и хочется узнать, решение положительное или отрицательное.
– Банально, – усмехнулся Эльдар. – Ты бы еще сказал: "Хочу дом, собаку и чтоб не болело колено по утрам".
– А ты? – спросил я, зная, что у Эльдара наготове либо ересь, либо что-то вдруг неожиданно серьезное. Он был из тех, кто шутит, пока не начинает говорить по-настоящему.
– А я бы не смотрел, – сказал он и почесал подбородок. – Потому что, если увидишь хорошее – будешь к нему стремиться и запорешь все. А если увидишь плохое – впадешь в депрессию, или наоборот, махнешь рукой и ускоришь конец. Зачем? Лучше не знать.
Мы помолчали.
– А ты? – спросил Антон, кивая в мою сторону.
Я замолчал. Солнце играло бликами на глади озера, и в этих дрожащих отблесках было что-то смутно тревожное, как будто сама вода ждала ответа.
– Знаешь… – сказал я медленно. – Наверное, не свое будущее я хотел бы видеть. Это мне не так интересно. Хотел бы увидеть, что стало с моими учениками.
– В смысле? – удивился Эльдар, уже прицеливаясь бросить камушек в воду.
– Без смысла, – ответил я, не глядя на него. – Просто хотел бы посмотреть, что с ними стало через двадцать, тридцать, сорок лет. Увидеть, как они живут. Кто из них стал собой настоящим. Кто бросил все и уехал. Кто написал книгу. Кто построил бизнес. Кто просто выжил. Хотел бы поговорить с ними. Без экзаменов, без планов, без зачеток. Просто и честно. Спросить: что из того, о чем мы спорили на семинарах, осталось с тобой? Что пригодилось, что было бесполезным? Что ты вспоминал, когда тебе было плохо? Или, может, смешно.
Я помолчал, подбирая слова, словно это был внутренний зачет, с вопросами, которые ставишь только себе самому.
– Я ведь учу людей мыслить, – продолжил я. – Сомневаться, видеть нюансы, задавать вопросы. Но часто не знаю, что происходит потом. Как будто отпускаю в мир что-то хрупкое и важное и теряю связь. А мне хотелось бы узнать, что с ними случается потом. Хоть на мгновение. Не ради гордости. Не ради тщеславия. Ради понимания.
– Романтично, – сказал Антон.
– Или просто проф. деформация, – хмыкнул Эльдар. – Все, хорош лирики. Где мой шоколадный батончик?
Мы засмеялись. Смех легкий, как ветер, беззлобный. Отгораживающий. От мыслей, которые нельзя договорить. От озера, в чьей воде, возможно, и правда отражается что-то большее, чем небо. Мы посидели еще немного. Потом поднялись, проверили ремни рюкзаков, растянулись и снова пошли вверх. Следующие озера были совсем рядом.
***
Мы добрались до последнего озера ближе к полудню. Путь был несложным, но шелся неспешно – не из-за усталости, а по какой-то внутренней договоренности с горами. Здесь никто не гнал нас вперед. Ни время, ни обстоятельства, ни даже собственные планы. В таких местах ты ощущаешь себя частью чего-то древнего и неторопливого, как будто сам стал камнем, покрытым мхом. Дышалось легко, и это чувствовалось особенно ярко – чистейший воздух, насыщенный хвоей, снегом с вершин и чем-то первозданным, почти доисторическим. Я поймал себя на том, что вот уже второй час не вспоминаю о сигаретах. Не то чтобы я был законченным курильщиком, но в городе тяга тянется за тобой, как цепь. Здесь же – она словно рассыпалась на пороге. Исчезла. Растворилась в запахах сосновой хвои и ледяной влаги, поднимающейся с тропы.
– За это я и люблю горы, – пробормотал я вслух, хотя никто и не спрашивал. – Здесь не хочется курить. Даже думать об этом не хочется.
– Потому что они тебя чистят, – сказал Антон, идя чуть позади. – Как будто ты внутрь себя соляную пещеру провел.
– Не, – усмехнулся Эльдар, – просто тебе здесь курить стыдно. Природа смотрит, а ты с сигаретой – как муравей с огнеметом.
Мы прошли по прибрежной тропе, раздвигая колючие ветки, и вышли к воде. Озеро встретило нас зеркальной гладью. Даже птиц не было слышно – тишина стояла такая, что казалось сама земля задержала дыхание. Вода лежала, как растянутое стекло, где-то на грани мира, между небом и горами. Озеро всегда производило это впечатление – будто пришел не просто к водоему, а к границе. К той точке, где кончается привычное и начинается что-то другое. Тонкое. Незаметное. Может быть, настоящее.
Но покой разрушился неожиданно. Слева, у леска, чуть пониже склона, виднелась компания. Человек пятнадцать. Они раскинули палатку, кто-то уже возился с котелком, а кто-то – прямо на каремате – разливал в пластиковые стаканчики чачу. Голоса звучали громко, расхлябанно. Один пел, другой кричал кому-то в телефон. Музыка из колонки гудела на низах, как пьяная пчела, застрявшая в кастрюле. Кто-то в шортах уже полез в воду, визжа и матерясь.
Мы остановились, не говоря ни слова. Только смотрели. Когда ты подросток, на такие компании смотришь с интересом, иногда с восхищением. Они кажутся свободными, живыми. Умеющими веселиться. Но с возрастом ты начинаешь понимать: они такие не потому, что счастливы. А потому что бегут. И если раньше ты завидовал – теперь тебе просто… неловко за них. Словно стал свидетелем чего-то слишком интимного и одновременно слишком пошлого.



