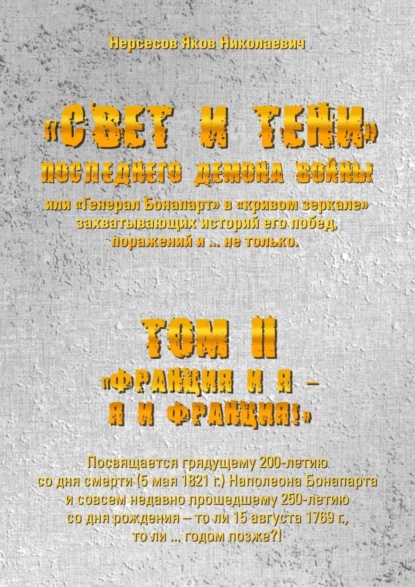
Полная версия:
«Свет и Тени» Последнего Демона Войны, или «Генерал Бонапарт» в «кривом зеркале» захватывающих историй его побед, поражений и… не только. Том II. «Франция и я – Я и Франция!»
И наконец, слева располагался корпус в 20.624 тыс. чел. еще одного старого «брата по оружию» Моро – генерала Сен-Сюзана, у которого служили генералы Суам, Легран, Делаборд и Коло.
В резерве у Моро под его личным началом имелся отборный корпус из 29.400 чел. с такими ассами своего кровавого ремесла как Дельмас, Антуан Ришпанс (1770—1802) и зять Наполеона – Леклерк. (У последнего была совершенно особая роль: ему надлежало «держать ухо востро» среди генералитета и сообщать о всем крамольном своему шурину; сразу скажем, что особо доставалось Бонапарту от ненавидевшего его Лекурба! )
Каждому корпусу согласно штатному расписанию придавался внушительный артиллерийский парк.
В кратчайшие сроки Моро привел врученную его заботам Рейнскую армию в образцовое состояние, доведя ее численность до 139.619 тыс. человек. По тем временам это было очень много для действий только на одном из направлений, правда, по задумке Бонапарта – ударном!
Объективно говоря, на тот момент в Рейнской армии были сосредоточены лучшие кадры, прошедшие «обкатку танками» за почти 10 лет революционных войн, причем, именно на этом театре военных действий. Ей отводилась главная роль в предстоявшем «блиц-крице» по-наполеоновски!
Самый мощный из ее корпусов – Лекурба – ложной демонстрацией должен был сковать австрийские силы барона Края с фронта в районе гористо-лесистого Шварцвальда (Черного леса). Тем временем все остальные стремительно и одновременно переправившись через Рейн в одном месте, обходили бы Края с левого фланга и всего за 6—7 дней выходили бы ему в тыл в районе Ульма. Освободившийся после прорыва за Рейн трех других корпусов – корпус Лекурба – двигался бы в Швейцарию, чтобы в случае острой необходимости поддержать Массену, который с силами бывшей () Итальянской армии Моро и Макдональда (всего ок. 35 тыс. чел.) сковывал бы порядка 128 тыс. австрийцев Меласа в окрестностях Генуи. Сильно уступавшая армии Моро, Резервная армия из новобранцев и ветеранов Итальянского и Египетского походов Бонапарта (не более 60 тыс.) под его собственным началом () занимала бы центральное положение между войсками Моро и Массена в Дижоне. В случае острой необходимости она поддерживала бы того или другого. Правда, к Массене ей пришлось бы прорываться в Италию через Альпийские перевалы. (Лучший австрийский полководец той поры эрцгерцог-эпилептик Карл в силу не зависящих от него причин «оказался вне игры»! ) времен неудачной для французского оружия суворовской кампании 1799 г. формально под руководством Бертье
…, в наполеоновском сценарии разгрома Австрии были свои скрытые нюансы! На каком этапе операции Резервная армия Бонапарта подключалась бы к действию!? в момент обхода левого (коммуникационного) фланга Края, связывавшего его с Веной, полного его окружения и победного марша на Вену!? , поддержанная Лекурбом, она совершала бы самостоятельный бросок через Альпы в Италию на Меласа? , то очень вовремя подключившийся «джокер» – Между прочим Наполеон по ходу успешно развивавшейся операции превращался бы в Наполеона-«козырного туза» со всеми вытекающими из этого дивидендами: он разработал операцию – он ее и завершил!? Вся слава ему – Наполеону Бонапарту! … Вполне возможно, что многоопытный Моро все просчитал и, вовсе не желая играть второстепенную роль, затеял свою собственную игру То ли То ли Если все это так
Казалось бы, все продуманно и монархическую Европу ждет образцово-показательная операция республиканских армий под началом ее талантливых полководцев, разработанная Бонапартом совместно со ставшим к тому моменту полулегендарным Лазарем Карно! Но разработчики «блиц-крига» делали его «под себя», не учтя некоторых основополагающих черт полководческого почерка того, кому предлагалась главная роль в этой операции – Жана-Виктора Моро.
Он был, безусловно, храбр и хладнокровен в бою, но, порой, которая обуславливалась особенностями его характера – . Более того, ему при всех его несомненных «плюсах», все же, – — что так выгодно выделяло его «визави» в борьбе за славу лучшего полководца революционной Франции Наполеона Бонапарта. Скорее всего, именно поэтому ему не понравилась рискованность хоть и мощного, но весьма опасного для самих исполнителей наполеоновского плана, базировавшегося в первую очередь на внезапности и секретности – важнейших элементах наполеоновской стратегии. К тому же, ему вовсе не хотелось выделять свой лучший ударный корпус Лекурба (!) для подкрепления Массены или… !? И наконец, не обошлось, вероятно, и без банального личного соперничества: ему, (!), () !? ему не хватало мгновенной, взрывной решимости, исключительной методичностью и предельной осторожностью не хватало озарений гения рискнуть в самый нужный момент, ни на минуту раньше и, ни на минуту позже повторимся, мастера – первоклассного прославленному Моро между ними была разница в шесть лет самого Бонапарта подчиняться приказам более молодого «корсиканского выскочки»
. Впрочем, это – всего лишь «оценочное суждение» и сколько людей – столько и мнений! Не так ли? В общем, это был победоносный план Наполеона для… , даже очень талантливых полководцев, в том числе, очевидно, и не для Моро самого Наполеона, полководца мыслящего «слишком» широко и рискованно для всех других
Правда, Бонапарт, все же, попытался было навязать свой план наступления, но несговорчивый Моро рьяно «оскалился»: «Я поведу в бой только ту армию, которую я сформировал лично и, которая будет действовать в соответствии с моей диспозицией, так как я считаю, что лучше всего исполняются планы, которые ты сам разработал». Проницательный авантюрист Наполеон все понял – перестал рвать и метать – предпочтя не дожидаться пока упертый республиканец Моро перейдет к более жестким действиям – «огрызнется» и… отошел в сторону! Он прекрасно понимал, что тогда он не был еще настолько могущественен, чтобы открыто конфликтовать со столь популярным в войсках и у народа генералом Моро: «Мое положение тогда было еще недостаточно прочным, чтобы идти на открытый разрыв с человеком, имевшим многочисленных сторонников в армии и которому только не хватало энергии, чтобы попытаться занять мое место. С ним необходимо было обходиться как с самостоятельной силой, какую он, собственно, и представлял в то время». Начальник штаба Моро – генерал Дессоль – на последней встрече, где в отсутствии Моро, уже бывшего в войсках, утверждались окончательные варианты действий против Австрии, стоял насмерть против навязываемого ему и его шефу наполеоновского плана! «Ну что же, пусть ваш несговорчивый шеф поступает, как знает! Возможно, со временем ему придется пожалеть о славе, которую он мне оставил…» – многозначительно-дальновидно «сдался» Первый консул. Тем более, что у Моро был свой план действий против столь же сильной как его собственная армия – армии барона Края. Он не был столь молниеносен и рискован, не обещал блестящей победы, но надежно гарантировал успех, хотя и не так быстро. (Придет время и Наполеон припомнит Моро его несговорчивость!)
…, по некоторым данным у австрийского гофкригсрата был свой план разгрома Франции, в котором именно Краю отводилась второстепенная роль: сковывать силы Моро, пока Мелас разберется в Италии с Массена и затем вместе с подоспевшими роялистами Пишегрю через Прованс вторгнется во Францию с юга… Кстати сказать
Категорически отказываясь от наполеоновского мощного удара по рейнскому выступу, Моро предлагал действовать «по-старинке» (), как это делали республиканские армии Франции в середине 90-х гг.: переправиться через Рейн не в одном месте – у Шаффенхаузене – а в четырех удаленных друг от друга пунктах, т.е. на широком фронте. Правда, с некоторым усилением правого (ударного) фланга у Шаффенхаузена. Форсированием Рейна в разных местах Моро предполагал ввести Края в заблуждение относительно истинных своих намерений и заставить его оттянуть силы туда, где форсирование реки не предполагалось, а лишь демонстрировалось. . И хотя этот ход был «своего рода» и все его хорошо знали, но, порой, это проверенное средство приносило успех. если так можно выразиться? Этот маневр делали и до Моро, и после Моро, многие полководцы всех времен и народов классикой военного искусства
Максимум отвлекающих маневров по предполагаемой переправе Моро рассчитывал «продемонстрировать» против правого крыла Края, чтобы отвлечь его от Шаффенхаузена, где планировалась переброска сразу двух корпусов. Следовательно, скрепя сердце, Жан-Виктор частично «пошел навстречу» первоначальному плану Бонапарта-Карно.
С этой целью – – он и расположил свои корпуса: 20-тысячный (18 тыс. пехоты и 2 тыс. кавалерии) корпус Сен-Сюзанна при поддержке 20 орудий; 30-тысячный (26 тыс. пехоты и 4 тыс. кавалерии) Сен-Сира с 40 пушками; свой резервный 35-тысячный (28 тыс. пехоты и 7 тыс. кавалерии) с 40 пушками; и, безусловно, лучший из них – 30-тысячный (28 тыс. пехоты и 2 тыс. кавалерии) с 40 орудиями Лекурба, у которого, как известно, было свое – – предназначение согласно плану Бонапарта. слева направо совершенно особое
Именно на него очень рассчитывал Наполеон, но все его «задумки» в отношении Лекурба натолкнутся на непоколебимую решительность старого «собрата по оружию» последнего Жана-Виктора Моро. Он согласится отпустить солдат Лекурба на помощь Резервной армии Бонапарта для его поддержки в Италии , как разобьет Края и войдет в Ульм. (отзыв сразу трех из четырех его дивизий для прикрытия коммуникаций Резервной армии Бонапарта) только после того
…, спустя пять лет Наполеон шикарно докажет всем боеспособность своего плана 1800 г. нападения на Австрию и в кратчайшие сроки окажется под все тем же… Ульмом, где пленит австрийскую армию Макка. Но все это будет потом, а пока Моро наотрез отказался воевать по-наполеоновски! Мощнейшему лобовому удару Наполеона Моро предпочел стратегию искусного маневра! В тоже время, не исключено, что, несмотря на все его незаурядные способности, был слишком осторожен как полководец и не готов был еще раз рисковать своей репутацией, совсем недавно дважды (на Адде и при Нови!) побежденный «русским Марсом» Суворовым, к тому моменту уже готовившемуся к своему последнему походу – в Бессмертие. что, так или иначе, но именно этого штриха гениальности – () – и не хватало первоклассному, выдающемуся генералу Моро для реальной конкуренции с Бонапартом на военном поприще. Впрочем, это всего лишь «заметки на полях», оставляющие за читателем право на свои выводы… Между прочим подчеркнем это еще раз (!), Повторимся, столь присущие как Суворову, так и Бонапарту опыт и хладнокровие, Моро, способности на непредсказуемые маневры
Моро начал наступать с месячным опозданием: ему пришлось потратить это время на исправление недостатков в снабжении армии. Только 25 апреля под неистовым нажимом Бонапарта Рейнская армия приходит в движение и путем целого ряда маршей и контрмаршей, когда отдельные части французской армии переходили с одного берега Дуная на другой, все же, запутала австрийцев Края. Еще бы – только одна лишь дивизия из корпуса Сен-Сюзанна трижды форсировала эту широкую реку, причем каждый раз в новом месте. В результате Моро так удачно сосредоточил всю свою армию, что она «обошла» очень удобные для обороны австрийские позиции на горном хребте Шварцвальда. В очень тяжелом бою под Энгеном 25-тысячный французский корпус, возглавляемый лично Моро, сумел-таки одержать вверх над превосходящими силами врага под началом самого Края.
… Моро в том бою сильно подвел Сен-Сир, здорово опоздавший с подмогой и Моро пришлось выкручиваться самому! Впрочем, такая «задержка в пути» была в стиле Сен-Сира и мало кто ей удивился: все уже давно знали особенности полководческой манеры Сен-Сира – «поспешать – не спеша»! Так бывает или «а la guerre – comme a la guerre»… Кстати сказать, (Примерно так же любил воевать и Бернадотт – еще один мастер-выжидала!)
После того как Лекурб захватил Штокках, пути отхода австрийцам через Швейцарию оказались отрезаны. Затем снова со знаком «минус» «отличился» Сен-Сир: он опять не поддержал Моро, когда тот в одиночку 13 часов «бодался» с упорно лезшим на рожон Краем под Месскирхом. С трудом, но французы снова взяли вверх, а о Сен-Сире его «братья по оружию» громко заговорили как об «уклонисте»: он был рядом с Моро, но откровенно бездействовал, «действуя» сугубо в рамках данного ему ранее самим Моро приказа. Зато под Биберахом, где имелись огромные запасы продовольствия, Сен-Сир показал себя в полном блеске: ловко маневрируя и мощно атакуя, он опрокинул численно превосходящего его врага. Затем Лекурб овладевает Меммингеном и неприятель откатывается в… Ульм, т.е. туда, куда и собирался загнать его по своему плану Наполеон! Но проделал это Моро, причем, сугубо «по-своему»: не стремительно проламывая в лоб, а искусно втягивая в паутину бесконечных маневров и разящих уколов – Энген, Штокках, Месскирх, Зигмаринген, Биберах и Хохштадт.
Казалось, Моро вот-вот возьмет Ульм, но тут в дело вмешался Первый консул. Сначала он написал Моро после всех его побед приторно-льстивое письмо: «Я бы с удовольствием променял пурпурную мантию первого консула на эполеты командира бригады под вашим командованием». А затем через срочно прибывшего к Моро военного министра Карно потребовал, не дожидаясь взятия/сдачи Ульма, выделить из его армии для прикрытия готовящейся перевалить через Сен-Готард в Альпах Резервной армии Бонапарта то ли 15, то ли 18, либо даже 35-тысячный корпус … все того же Клода-Жака Лекурба! (данные о его численности на тот момент сильно разнятся)
Объяснение было очень простым: почти 128 тыс. австрийцев Меласса так сильно прижали ок. 35 тыс. человек Массена в Генуе, лишив его воды, что тот вот-вот может капитулировать, если его срочно не деблокировать; именно поэтому Наполеон начал форсировать свой выход в поход в Италию. Моро, так или иначе, выкрутился, передав Бонапарту две дивизии – генералов Лоржа и Монсея, сохранил при себе ударный прекрасно обученный ветеранский корпус Лекурба, совсем недавно блестяще объегорившего под Меммингеном целую австрийскую дивизию! На бумаге Моро отправлял Бонапарту почти 20 тыс. человек (18.714 пехотинцев и 2.803 кавалеристов), но на самом деле их оказалось всего лишь 11 тыс. и это были самые худшие солдаты Рейнской армии, собранные «с бору по сосенке» из всех частей, которым было приказано избавиться от «нестроевого балласта». Правда, после этой вынужденной «чистки» численно армия Моро, все же, сократилась до 85 тыс. человек, а ведь ему еще предстояло решать проблему Края, засевшего в Ульме!
…, Моро досадовал, что Наполеон помешал ему по-своему, искусно решить «проблему» Ульма. Бонапарт, в свою очередь, никогда не забывал демарш Моро с подкинутыми ему «рейнскими» отбросами под началом не самого даровитого французского военачальника той поры – генерала Монсея вместо затребованного ударного корпуса Лекурба – генерала, повторимся в который уже раз, первоклассного дарования и, к тому же, признанного мастера горной войны! Ревность – самая сильная из страстей, а среди военных – с их совершенно особым отношением к воинской славе, густо замешанной на морях крови () и бесчисленных смертях () – и вовсе ужасна!!! За примерами, далеко ходит не надо: Суворов был крайне нетерпим в этом вопросе, Багратион – вообще не знал здесь границ, Кутузов – старательно «задвигал» всех, кто хоть как-то мог «высунуться» из-за его спины и т. д. и т.п., Бонапарт и вовсе не терпел соперничества. «На военном Олимпе – нет места для двоих!» – примерно так высказался по этому поводу победитель… Наполеона… герцог Веллингтон!!! Кстати сказать своей и чужой с обеих сторон
Наполеоновский план разгрома Меласса в Италии не был столь оригинален, как его первый замысел по разгрому силами Моро армии Края: в нем отсутствовали блеск и молниеносность. К тому же, в нем уже не возлагалось бремя главной победы на Рейнскую армию Моро. Основную нагрузку в разгроме австрийцев Бонапарту пришлось брать на себя. Сам Бонапарт по этому поводу был предельно лаконичен в разговоре с начальником штаба Рейнской армии Моро генералом Дессолем: «Я выполню этот план, который он не может понять, в другом месте театра войны. То, что он не осмеливается сделать на Рейне, я сделаю там, за Альпами».
С этой целью Наполеон использовал несколько самостоятельных разрозненных частей, которые были специально разбросаны друг от друга, но в одно и тоже время должны были быстро соединиться у швейцарской границы – всего 62—66 тыс. (данные разнятся) человек при 48 орудиях. Дезинформации ради армию назвали Резервной, ее скрытное формирование курировала особа, особо приближенная к особе Первого консула – сам Бертье. В нее зачисляли не только новобранцев, но и отборных ветеранов Итальянской и Египетской кампаний Бонапарта. Таким образом, это был своего рода сплав молодости и опыта. Причем, приводилась Резервная армия в боевую готовность в условиях максимальной секретности и в поход ей предстояло выступить по первому же приказу Первого консула.
Теперь уже Моро должен был своей активностью прикрывать от Края коммуникации Резервной армии Наполеона, идущей при поддержке отдельного корпуса отборных солдат Лекурба через Альпийские перевалы в Италию к Массена, чтобы совместно обрушиться на Меласа: Массена – с фронта и Бонапарт – с тыла. Теперь многое зависело от быстроты передвижения сил «Лекурба», которые Моро должен был оперативно направить Бонапарту, чтобы в самый нужный, ключевой момент перерезать коммуникации Меласа с Веной. Кроме того, вряд ли даже разгром второстепенных сил Меласа привел бы к быстрой и полной капитуляции Австрии. К тому же, маловероятно, чтобы Моро смог бы сам полностью разбить главные силы Австрии на Дунае под началом Края. Таким образом, этот план не исключал затягивания войны на неопределенный срок. (на самом деле – «нестроевиков» Монсея и Лоржа!) (Дальнейший ход событий это подтвердит полностью!)
И, наконец, , вместо концентрации сугубо на одном, но ударном, где «наконечником копья» должен был быть Моро с его отборной Рейнской армией. главным недостатком второго плана военной кампании против Австрии было использование двух операционных направлений
…, повторимся еще раз! Спустя несколько лет – в 1805 г. – Наполеон с блеском продемонстрирует всему миру тот вариант операции против австрийцев на германском театре войны, на который не согласился в 1800 г. Моро. Бонапарт молниеносно окружит группировку Макка под Ульмом… Между прочим
Не исключено, что именно тогда начался очередной переломный момент – – в том числе, и России, поскольку именно в этот период глобальных и масштабных конфликтов великих европейских государств определялась судьба будущего мироустройства. Порой, его называют Почти 15 лет она сотрясала всю монархическую Европу. в силу значимости событий и брожения общественных идей в истории человечества (иногда, несколько переиначивая —; в общем, кому – что нравится). войнами коалиций против наполеоновской Франции (Наполеон находился у власти с самого конца 1799 г. и до весны 1814 г., а потом еще «Сто дней» в 1815 г.) эпоха наполеоновских войн
По сути, это можно считать или на худой конец ее репетицией: несмотря на то, что основные события происходили на Европейском континенте, правда, отклик имел место во всех частях земного шара. первой мировой войной,
Впрочем, некоторые историки не без оснований склонны вести отсчет с 1805 г. – войны Наполеона в качестве императора Франции с Австрией и Россией, субсидируемых островной Англии. Сам Бонапарт так высказался на эту тему: «Я просил у судьбы двадцать лет; она дала мне тринадцать». Любопытно, что в силу ряда ментальных причин в отечественной литературе эпоху наполеоновских войн, порой, принято называть… эпохи наполеоновских войн эпоха 1812 г.! (Лишь Великобритания, отделенная от материка морскими проливами и защищенная сильнейшим флотом смогла избежать всех ее ужасов.)
Так бывает: «Умом Россию не понять… в нее можно только верить!»
Так или иначе, но наполеоновские войны явились прямым продолжением войн Французской революции, из которых республиканские армии голодранцев-санкюлотников вышли закаленными как сталь и готовы были в совершенно иных масштабах показать монархической Европе, что не зря, так долго ели свой горький солдатский хлеб, пропитанный кровью и пропахший порохом!
Глава 5. Эпоха наполеоновских войн началась с Маренго или все же, позже?
Весной 1800 г. стратегическая обстановка на итальянском театре военных действий для французов настолько обострилась, что Наполеону пришлось срочно рассекретить свою Резервную армию и быстро передвинуть ее в Швейцарию. В апреле Массена сообщили, что ему предстоит сдерживать намного численно превосходящие его Итальянскую армию вражеские силы Меласа до тех пор, пока Резервная армия Бонапарта не перевалит через Альпы и как снежная лавина не обрушится на тылы увлеченного боями с ним австрийского фельдмаршала. Но явно поднаторевший после суворовских уроков «науки побеждать» в 1799 г. Мелас проявил такую столь неприсущую австрийской полководческой школе напористость и оперативность, что после целого ряда в целом «ничейных» боев, часть небольших сил Массена в лице 10 тыс. солдат генерала Сюше, оказалась отрезана. Массена – этот гениальный самородок обороны – вынужден был укрыться за стенами Генуи с остатками своей армии (12 тыс. боеспособных солдат и 16 тыс. больных и раненых): больше активничать он уже никак не мог! Тем более, что пропитания было в обрез , а потом расторопные австрийцы перекрыли доступ воды в город! Кроме того, с моря Геную блокировал союзный австрийцам британский флот! Первому консулу следовало немедленно поторопиться, чтобы Массена с его людьми не полегли костьми, как в прямом, так и в переносном смысле. (еще отнюдь не готовую к марш-броску через Альпы) (на месяц – максимум до конца мая!)
Бонапарт не мешкал и, временно возложив на Камбасераса свои обязанности – Первого консула, 6 мая 1800 г. в 4 часа утра покинул дворец Тюильри, ставший его консульской резиденцией. На следующий день он был в Дижоне (), где провел смотр одной из дивизий «своей» всего лишь 42-тысячной, а не 62-66-тысячной, как предполагалось ранее, Резервной армии. 9 мая она была готова к походу в Италию. Формально ее возглавлял генерал Бертье, на самом деле – Первый консул, который официально лишь «сопровождал» войска. порой, в литературе эту армию называют по месту первичной дислокации – Дижонской
…, Наполеон прекрасно понимал, что в Париже после его прихода к власти не все так тихо и спокойно, как могло показаться на первый взгляд. Рассказывали, что как только он покинул Париж – тут же началась возня и суета вокруг его… власти. Все принялись гадать, кто станет наследником Бонапарта, если он потерпит поражение или погибнет на войне. Желающих «погадать на картах Таро» было предостаточно: Сьейес, Фуше, кое-кто из участников () и «неучастников» последнего переворота в пользу генерала Бонапарта и прочие роялисты, якобинцы, термидорианцы. Претендентами называли Лафайета, Карно, Бернадотта и членов семьи Бурбонов, разбросанных по Европе вокруг границ французской республики. В общем, ситуация была непростой: все ждали, что «акелла промахнется» и тогда… Между прочим поговаривали и о «колченогом черте в сутане» – Шарле-Морисе де Талейране, очевидно, самом Большом Подонке в истории французской дипломатии
Совсем недавно, в 1796 г. французская армия Наполеона вторглась в Италию, избрав сложный путь по «карнизу» – вдоль кромки Альп. Это обеспечило внезапность вторжения. Как суеверный человек, Бонапарт верил в приметы, в счастливый путь. Но как солдат, знающий законы своей профессии, он понимал, что проторенный путь не сулит успеха. Именно поэтому он решил по снежным тропам преодолеть Альпы, достигающие местами свыше трех тысяч метров высоты, через высочайшие Большой Сен-Бернарский (ок. 2.700 м над уровнем моря) и Сен-Готардский перевалы, спуститься в Ломбардскую низменность, ударить с севера в тыл австрийской армии (по некоторым данным насчитывавшей порядка 97—100 тыс. чел.: 86 тыс. штыков и 14 тыс. сабель?), отрезать ее от Австрии и снять осаду с Генуи.



