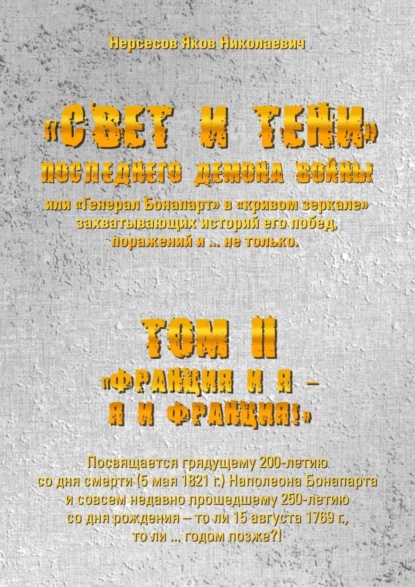
Полная версия:
«Свет и Тени» Последнего Демона Войны, или «Генерал Бонапарт» в «кривом зеркале» захватывающих историй его побед, поражений и… не только. Том II. «Франция и я – Я и Франция!»
На военном совете австрийцев было решено немедленно перейти Бормиду и, пользуясь ситуацией, неожиданно атаковать французов на равнине Маренго, которая как нельзя более соответствовала составу австрийской армии (). многочисленные и отличные кавалерия с артиллерией
На рассвете 14 июня 40 тыс. () австрийцев с многочисленной артиллерией () начали переправу по двум мостам через Бормиду, готовясь обрушиться на 15—16 тыс. с 18 орудиями () французов. Последние стояли открыто и имели только на левом фланге опорный пункт, севернее Маренго, прикрытый глубоким болотистым ручьем. Вперед был выдвинут корпус Виктора (дивизия Гарданна – у Педрабоны, дивизия Шамберлака – в Маренго). На правом фланге расположилась кавалерийская бригада Шампо, на левом – Келлерман-младший со своей конницей. Располагавшийся за правым крылом уступом назад у Форначе, Ланн возглавлял резерв. У Бураны встала Консульская гвардия. Тогда как Дезе с дивизией Буде уже двигался к Нови для соединения с армией, а другая его дивизия (Монье) направлялась от Сан-Джулиано на Кастель-Чериоле. есть и др. данные чуть ли не 200 орудий? есть и иные сведения
У австрийцев Отт действовал слева в направлении на Кастель-Чериоле, по дороге в Сале; в центре – Гаддик, а за ним сам Мелас нацеливался на Педрабону (Пиетрабону) и Маренго; справа – О’Рель по дороге на Тортону.
Утром 14 июня Бонапарт узнал, что вся австрийская армия без всяких помех переправилась через реку Бормида и идет на Маренго. Он поспешил с небольшими резервами на поле битвы, где уже сражались его отдельные части.
Из-за неожиданности удар австрийцев оказался очень серьёзным.
По началу корпус Виктора упорно отбивал их атаки, когда они пытались перебраться через ручей Фантононе. Отт, войска которого находились на левом фланге, предпринял попытки обойти французов. Его солдаты под картечным огнём навели мосты и форсировали ручей. Французы стойко оборонялись против превосходящих сил, но уже изнемогали, когда к часам утра наконец прибыл из Гарафолло Бонапарт с дивизией Монье и консульской гвардией. Стремясь усилить свой правый фланг, Наполеон выстроил из своей гвардии каре, сдерживавшее атаки австрийской конницы, и двинул дивизию Монье к Кастель-Чериоле. 10
Бой закипел с новой силой по всей линии.
Австрийцы (от 28.500 до 36 тыс. с 92 орудиями; я) обошли оба фланга французов. Правое крыло Наполеона дрогнуло и стало медленно отступать. Левый фланг (Виктор и Ланн) тоже уже был сильно расстроен и все попытки французов занять Кастель-Чериоле рушились. Мелас уже овладел Маренго. Наполеон ввёл в дело последние резервы, но это не исправило положение. Даже 800 гренадеров Консульской гвардии уже не могли изменить ситуацию. данные разнятс
Ок. французы начали отходить под прикрытием корпуса Ланна и гренадеров консульской гвардии. За три часа они прошли 4 км. Неоднократно они останавливались и под картечным огнём бросались в штыковую атаку. 24 австрийских орудия в упор расстреливали французские каре. Ядра, рикошетя от земли, пробивали целые коридоры в плотных построениях французов, куда стремительно бросалась австрийская кавалерия. Солдаты Наполеона ещё теснее сплачивали свои ряды. Однако даже такая отвага не помогала: они продолжали медленно отходить под натиском врага. 14 часов
В полдень Мелас, легкораненый, но уверенный в победе, уже уехал в Алессандрию, поручив генералу Цаху преследование французов. Тот составил авангард (два пехотных полка, усиленных гренадерами), а остальным войскам приказал уже свертываться в походные колонны. В результате они приостановились и значительно отстали от ушедшего преследовать французов авангарда.
К дня 23-тысячная французская армия, преследуемая австрийцами, отступала по всему фронту. 15 часам
По сути дела, Наполеон проиграл сражение.
Генерал Дезе, до того двигавшийся со 2-й дивизией своего корпуса к городу Нови, стремительно пошел по собственной инициативе на выстрелы к Маренго и вышел в Сан-Джулиано дня. Он быстро развернул 5-тысячную дивизию генерала Буде перед Сан-Джулиано, скрыв её от неприятеля за складками местности. Отступавшие было остатки армии Наполеона пристроились к нему по флангам: слева – Виктор, справа – Ланн, гвардия и Монье, образовав фронт от Сан-Джулиано – на Кастель-Чериоле; сзади и левее Ланна встала кавалерия Келлермана-младшего и Пьера-Клермона Шампо. () ок. 15 часов Последний бросится на врага со своей кавалерийской бригадой – 1-й и 8-й драгунские полки – получит тяжелое пулевое ранение в грудь, будет доставлен в Милан, где и умер 28 июля того в возрасте 33 лет.
Австрийцы беспечно преследовали французов, почти свернувшись в походные колонны. Как только голова колонны Цаха приблизилась, Мармон выдвинул вперед 12-орудийную батарею и ошеломил австрийцев неожиданным картечным огнём в упор. Дезе бросился вперед с пехотой и опрокинул авангард колонны, но сам был убит в первые минуты боя. Пехотному удару с фронта австрийские гренадеры сопротивлялись упорно до тех пор, пока Келлерман не налетел на них с фланга со своими кавалеристами. Рассеченные на две части гренадеры, оказались опрокинуты. В рядах австрийцев началась паника.
Ок. они бросились назад к реке Бормиде. В начавшейся давке австрийская пехота с трудом перебралась на другой берег реки и обратилась в бегство. Ок. 2 тыс. человек с генералом Цахом сдались в плен. 17 часам
Тем временем, Келлерман перебросил своих всадников на австрийскую конницу, опрокинул и её. И тут вся французская армия кинулась на врага и только мужественная оборона хорватов О’Рельи в предмостном укреплении спасла остатки австрийцев от совершенного уничтожения.
Общие потери австрийцев в битве при Маренго оцениваются в 4,5 тыс. убитыми, 4—4,5 ранеными, 7 тыс. пленными и 30 орудий. Французам победа «обошлась» примерно 2 в тыс. убитыми, ок. 3,6 тыс. раненными и 900 пленных.
На другой день, 15 июня, Мелас послал в штаб Наполеона парламентёров с предложением о перемирии. Тот согласился не препятствовать уходу австрийцев из Северной Италии. Мелас подписал Александрийскую конвенцию, по которой он мог отправиться в Австрию, причём он сдал французам Ломбардию, Пьемонт и Геную со всеми крепостями.
Позднее Бонапарт очень гордился своей победой при Маренго, ставя её в один ряд со своими другими знаковыми победами Аустерлицем, Йеной и Фридландом.
Однако решающую роль тогда сыграл генерал Дезе. Рассказывали, что дважды соратники Наполеона видели слезы на глазах императора: первый раз, когда ему сообщили о гибели Дезе и второй раз, девятью годами позже, когда ядром оторвало ноги маршалу Ланну. Вечером 14 июня 1800 г. он воскликнул: «Как хорош был бы этот день, если б сегодня я мог обнять Дезе!»
После драматичной, но случайной победы при Маренго (!) война еще продолжалась, причем, довольно долго: до начала декабря, пока битва при Гогенлиндене – на главном театре военных действий – не решит исхода войны окончательно. лишь неожиданное прибытие Дезе перевернуло естественный ход сражения
Можно сказать, что эти две знаменитые битвы – это своего рода соревнование двух прославленных генералов: одного из самых великих военных авантюристов и генерала-патриота.
Напомним, что война между Францией и Австрией в 1800—01 гг. шла на двух фронтах. Повторимся, что на южном, итальянском, фронте Первому консулу Наполеону Бонапарту невероятно подфартило и он с помощью генерала Дезе победил 14 июня 1800 г. австрийскую армию Меласа при Маренго, после чего было заключено вышеупомянутое Александрийское перемирие. После окончания срока действия перемирия военные действия в Италии возобновились.
Еще в апреле-июне 1800 г. французская армия генерала Моро (48 тыс. пехоты и 12 тыс. кавалерии при 99 орудиях; ) потеснила австрийскую армию фельдцейхмейстера Пауля Края (58.130 пехоты и 14.131 кавалерии при 214 орудиях; я) от Рейна до реки Инн, пройдя с успешными боями Штоках, Месскирх и Хёхштедт-на-Дунае. есть и др. данные имеются и иные сведени
15 июля обе стороны согласились заключить перемирие.
Понимая, что Край не справляется с задачей, император Франц II отстранил его от командования австрийской армией. Канцлер Австрийской империи Франц фон Тугут предложил эрцгерцогу Фердинанду Карлу Йозефу Австрийскому-Эсте и эрцгерцогу Иосифу, пфальцграфу Венгерскому принять командование армией, но они оба категорически отказались. Тогда император назначил своего 18-летнего брата эрцгерцога Иоанна (Иоганна). Стремясь компенсировать недостаток опыта в помощь последнему был придан Франц фон Лауэр, советами которого молодой командующий должен был пользоваться.
После «пирровой» победы, одержанной у Ампфинга 1 декабря, австрийское командование полагало, что французские войска спешно отходят на запад и настал благоприятный момент для того, чтобы войска Кинмайера, действовавшие несколько севернее главных сил, объединились с последними в окрестностях Гогенлиндена (или Хоэнлиндена) неподалеку от Мюнхена с целью дальнейшего сосредоточенного удара именно по нему.
В свою очередь, бой у Ампфинга дал Моро достаточно ценной информации о противнике. Он сделал верные выводы, куда и какими силами наступают австрийцы и разработал план решающего сражения.
Северный фланг под командованием Гренье, включая дивизию Нея, вместе с центром под командованием Груши должны были активной обороной сдерживать австрийские войска на выходе из Гаагского леса. В то время как расположенные южнее дивизии Ришпанса и Декана предназначались для нанесения поперечного удара по растянутым вдоль лесной дороги главным силам противника. Далее планировалась атака всеми наличными силами французской армии.
На рассвете 2 или 3 () декабря австрийская армия четырьмя колоннами двинулась на запад. данные разнятся
Самой северной и самостоятельно действовашей была колонна Кинмайера. Вдоль шоссе Мюнхен-Мюльдорф через лес двигалась главная колонна австрийцев Коловрата, прикрываемая авангардом Леппера. Севернее ее шла колонна Латора (Латура), южнее – колонна Риша.
Наступавшая по шоссе главная австрийская колонна вырвалась далеко вперед по сравнению с фланговыми соединениями и атаковала дозорную цепь дивизии Груши на выходе из леса. Стремясь как можно дольше задержать противника в лесу, французы, ответили мощной контратакой и завязался позиционный бой.
Это послужило сигналом для начала марша на северо-восток дивизии Ришпанса. Следом за ней шла дивизия Дека (е) на.
Тем временем к северному флангу войск Моро вышла колонна Кинмайера. Самая левая дивизия Шварценберга пыталась прорваться к югу на соединение с Коловратом, но Моро бросил в контратаку резервную кавалерию. Под ее прикрытием Гренье перестроил войска и начал изматывать атакующего Кинмайера активной обороной.
Австрийские колонны Латора (Латура) и Риша сильно отставали из-за плохих дорог. Оба военачальника, не дойдя до поля боя, остановились, заняли оборонительные позиции и отправили часть своих сил на разведку.
Коловрат понял, что неприятель отнюдь не отступает и он ведет не арьергардный бой, а по сути дела ввязался в полномасштабное сражение. Для временного прикрытия левого фланга основных сил до прибытия Риша пришлось отправить на юг два гренадерских батальона. Они столкнулись с дивизией Ришпанса, но тот прикрылся бригадой Друэ и продолжил движение в тыл австрийцев.
Выйдя на шоссе, Ришпанс встретил арьергард Коловрата. Французы опять оставили заслон, не прерывая главного движения.
Услышав звуки боя в своем тылу, Вейротер отправился на разведку с двумя баварскими батальонами, но попал под артиллерийский огонь и был ранен. Еще три батальна из колонны Коловрата двинулись к юго-востоку и ввязались в бой с бригадой Друэ.
Одновременно с атакой Ришпанса на тылы Коловрата, Дека (е) н подходил с юга к полю боя: Польский Легион атаковал артиллерийский обоз австрийцев, заслоны Ришпанса получили своевременную помощь, слабые передовые и разведовательные отряды колонны Риша были отброшены к его основной оборонительной позиции. Коловрат уже задействовал все свои силы, но помощи от Риша все не было.
Австрийское командование потеряло инициативу и перешло к обороне.
Неуверенные действия и прекращение атак со стороны основной колонны австрийцев, Моро правильно расценил как признак того, что части Ришпанса достигли шоссе Мюнхен-Мюльдорф и завязали отвлекающий бой. Груши и Ней получили приказ начать решительное наступление. Продавив слабое прикрытие северного фланга колонны Коловрата, Ней соединился с Ришпансом. К этому моменту фактически уже окруженная главная австрийская колонна была дезорганизована и потеряла боеспособность: началось ее беспорядочное бегство. Незадачливый юный эрцгерцог Иоанн спасся от плена только благодаря быстроте своего коня. Ней и Ришпанс преследовали бегущих вплоть до Гааза.
Разгром основной колонны австрийцев позволил Ришпансу отправить часть сил на юг в помощь своим войскам, оставленным для прикрытия его главного движения. Туда же повернул и Польский Легион. С такими подкреплениями Дека (е) н во второй половине дня приступил к охвату оборонительной линии Риша, которому ничего не оставалось как начать ретираду.
После решающего успеха на шоссе Мюнхен-Мюльдорф Моро отправил резерв Нея на усиление войск Гренье, которые сдерживали атаки двукратно превосходящего противника.
На северном фланге войска Кинмайера были разрезаны надвое и также отступили. К ним примкнула колонна Латора (Латура), которая начала отход после появления в лесу толп бегущих солдат из разгромленной колонны Коловрата.
Сражение при Гогенлиндене стало самым значимым в карьере генерала-республиканца Жана Моро. Принято считать, что австрийская армия тогда потеряла 7—8 тыс. чел. убитыми, 12 тыс. пленными, 71 артиллерийское орудие и более 300 фур. Победа Франции в этой битве, стоившая ей 3 тыс. убитых и раненых, оказалась решающей в войне против Второй антифранцузской коалиции европейских монархов и стала главным поводом подписания Люневильского мирного договора в 1801 г.
Порой, Гогенлинден в исполнении Моро сравнивают с Маренго Бонапарта (), но, скорее всего, Гогенлинден – важнее: во-первых потому, что по численности войск сражение в 2—3 раза масштабнее Маренго, во-вторых германское направление для Австрии было важнее, так как линия фронта была все же ближе к Вене, нежели компания в Италии, и в-третьих именно сражение при Гогенлиндене, а не битва при Маренго Первого консула Наполеона Бонапарта, дало возможность республиканской Франции заключить мир с монархической Европой после десятка лет революционных войн. Не исключено, что в историческом раскладе сражение при Гогенлиндене сопоставимо лишь с битвой при Аустерлице или как высказался биограф генерала Моро Эрнест Доде: «Снег Гогенлиндена достоин „». вернее, Дэзе без которого Наполоен терпел катастрофу! солнца Аустерлица“
После разгрома в Германии генералом Моро армии австрийского эрцгерцога Иоанна при Гогенлиндене было заключено Штейерское перемирие (25 декабря 1800 г.). Несмотря на то, что ещё продолжались военные действия в Италии, после Гогенлиндена исход войны уже был решён, поскольку дорога на Вену для армии Моро была открыта, но он предпочёл заключить перемирие, считая, что цель войны достигнута и новые жертвы бессмысленны.
После Гогенлиндена новым министром иностранных дел Австрии вместо барона Тугута был назначен граф Кобенцль, а командующим армией – эрцгерцог Карл, брат Иоанна, не без оснований считавшийся самым талантливым в то время австрийским полководцем. Ознакомившись с состоянием армии, он тут же выступил за мирные переговоры, которые не замедлили начаться.
Австро-французские переговоры начались ещё в октябре 1800 г. в Париже между Кобенцлем и Наполеоном Бонапартом вместе с Талейраном, а затем продолжались в Люневиле тем же Кобенцлем и Жозефом Бонапартом, действовавшим под диктовку Наполеона. Сперва, Кобенцль затягивал переговоры, рассчитывая, что Франция тем временем потерпит поражение. Но в ноябре 1800 г. закончилось перемирие, заключённое после битвы при Маренго, военные действия возобновились и привели к разгрому австрийцев при Гогенлиндене и к новому перемирию. После этого Кобенцль стал ускорять ход переговоров, а Наполеон, наоборот, дал Жозефу указания не спешить с подписанием мирного договора.
Кобенцль согласился на сепаратный мир без участия Англии и на подтверждение условий Кампоформийского мирного договора 1797 г. и переговоры закончились подписанием Люневильского мира, заключённого 9 февраля 1801 г. во французском городе Люневиль между Францией и Австрией. Со стороны Франции он был подписан Жозефом Бонапартом, со стороны Австрии – министром иностранных дел Кобенцлем. Этот договор явился ухудшенным (для Австрии) «изданием» (варинатом) Кампоформийского договора, положенного в основу нового договора. Австрия совершенно вытеснялась с левого берега Рейна. Эта территория полностью переходила к Франции, которая, кроме того, приобретала нидерландские владения Австрии (Бельгию) и Люксембург. Франция стала ведущей державой на континенте. Австрия окончательно потеряла своё значение как великая европейская держава, каковой она являлась с XV в.
Люневильский договор восстановил мир на континенте после почти 10 лет непрерывных войн с революционной Францией.
Заключение Люневильского мира означало конец Второй антифранцузской коалиции. Из стран, первоначально входивших в нее, войну продолжала только Великобритания, но и, она истощенная ее тяготами, вынуждена была пойти на мир. Наполеон Бонапарт также нуждался в передышке и пошёл навстречу мирным предложениям английского правительства Эддингтона, которое сменило кабинет Питта-младшего, стоявшего за продолжение войны.
1 октября 1801 г. в Лондоне были подписаны предварительные условия мира. На собравшейся в следующем году в Амьене мирной конференции уже был запротоколирован Амьенский мирный договор, ратифицированный в апреле 1802 г.
Правда, он оказался лишь кратким перемирием. Заключая его, обе стороны, естественно, действовали неискренне (в не бывает а только ), рассматривая его как перемирие, и готовились к продолжению борьбы…>> Большой Политике Клинических Идеалистов и Законченных Идиотов, Большие Подонки, не так ли!?
А вот в «развернуто-беллетризованной» версии завершения 10-летней эпохи войн революционной Франции со Второй коалицией европейских монархов есть немало интересных деталей и любопытных поворотов…
Глава 4. Моро – не Бонапарт и, наоборот…
Вместе с тем, чтобы закрепить внутреннюю победу , Первый консул решил восстановить свои завоевания в Италии, вновь отняв ее у Австрии. После по-разному объясняемой неудачи в Египте Бонапарту нужна была быстрая, полновесная и триумфальная победа. (правда, до полного порядка во Франции еще было весьма далеко)
…, на восстановление относительного порядка внутри страны генералу Бонапарту потребовалось всего лишь пара месяцев. Уже к февралю 1800 г., применяя, как уже отмечалось выше, политику кнута и пряника , он восстановил общественный порядок во Франции. Кроме того, было разрешено вернуться на родину дворянам-эмигрантам, правда, без восстановления прав владения бывшими землями. Тоже самое относилось и к духовенству, но без восстановления церковного сана… Между прочим (против одних банд были отправлены регулярные войска, иным из них предлагалась амнистия при условии добровольного сложения оружия)
Но перед этим он (повторимся) сделал очень ловкий пропагандистский шаг: обратился к своим главным европейским недругам – Англии и Австрии – с мирными инициативами. Наполеон прекрасно видел, что все французы жаждут мира. К тому же, к миру стремилась и вся Европа. Взяв на себя инициативу мирных переговоров, Бонапарт выигрывал не только в общественном мнении своей измученной революционными войнами страны, но и в глазах передовой европейской общественности. Поступая так, он перекладывал ответственность за все последствия на монархическую Европу. Несговорчивость австрийцев и англичан привела к тому, что французы снова проявили столь присущий им ранее массовый энтузиазм в поддержку Бонапарта и его лозунга «Путь к миру лежит через войну!». [в лице главы гофкригсрата Тугута и лидера партии тори (консерваторов) Питта-Младшего – виги (лейбористы) оказались в проигрыше, тщетно доказывая в парламенте никчемность династии Бурбонов во главе Франции]
Он просил у монархической Европы мира, а ему в нем презрительно отказали!
Наполеон прекрасно знал, какова будет реакция «Туманного Альбиона» и «Венских кружевниц» ( ) и загодя начал готовиться к большой войне. Французам и их первому консулу предстояла кампания против звонко бряцавшей на границе оружием монархической старушки Австрии, воодушевленной громкими суворовскими победами в Италии. последних он уже не единожды ставил на поле боя в «позу прачки»»!
… Россия тогда в силу ряда причин «вышла из Большой Европейской Войны»: неординарный русский царь Павел I наконец-то все понял «про Больших Подонков» из Просвященной Европы и потерял интерес к попыткам задушить французскую революцию, а его главный козырь в этой игре – неистовый старик Souwaroff – уже ушел непобежденным в Бессмертие. К тому же, главный вековой российский «джокер» в войнах с врагами – ее необъятные просторы и специфический климат – в той войне, в центре Европы, задействован не мог быть ну, никак… Кстати, (вечный и неодолимый)
С помощью спецпризыва Наполеону удалось поставить под ружье не много не мало – 280 тыс. человек!
У французской республики не было денег на длительную войну, да и внутриполитическое положение и престиж Первого консула не допускали затяжной войны. Повторимся, что после катастрофы в Египте Бонапарту нужна была быстрая, полновесная, триумфальная победа – смелая операция вторжения, генеральное сражение, навязанное врагу и уничтожающее его армию, и сразу же – перемирие с опрокинутым навзничь противником. Успех мог быть лишь при условии внезапности, а значит, противника нужно было дезинформировать и застигнуть врасплох.
Для этого в условиях строжайшей секретности Наполеон разработал весьма оригинальный, но довольно опасный план молниеносного разгрома в Германии Рейнской армией генерала Моро крупной (порядка 108 тыс. штыков и сабель) австрийской армии генерала-фельдмаршала-лейтенанта, барона (1735—1804), вояки сколь энергичного, столь и посредственного. . Тем самым, открывалась бы кратчайшая дорога на Вену, тогда как сам Бонапарт собирался ударить по второстепенным силам генерал-фельдцейхмейстера барона (1729—1806) в Северной Италии, блокировавшим у Генуи войска Массена. Пауля фон Края Михаила-Фридриха-Бенедикта фон Меласа (Правда, кое-кто считал в ту пору этого ветерана Семилетней войны смышленым и хватким)
Дело в том, что Наполеон, будучи Первым консулом, по новой конституции как глава государства не имел права быть верховным главнокомандующим. Кроме того, в Рейнской армии, славившейся своей верностью республиканским идеалам и наличием в ее рядах целого созвездия командиров-соратников Моро, «генерала Вандемьера», мягко говоря, недолюбливали. Они, тем более, не позволили бы Первому консулу взять в свои руки командование вопреки закону. Вот он, как бы, умышленно и отошел на второй план.
Именно Моро Наполеон предоставлял командовать главной французской армией на центрально-европейском театре военных действий. По сути дела, это была хорошо известная тому Рейнская армия, усиленная бывшими войсками Массены, так блестяще зарекомендовавшими себя в тяжелой борьбе в Альпах с неистовым стариком Souwaroff и по сути дела поставившими крест на полководческой карьере последнего.
Весной 1800 г. Моро прибыл в отданную ему под команду Рейнскую армию.
На ее правом фланге действовал самый мощный корпус в 31.797 тыс. чел. Им командовал первоклассный генерал Клод-Жак Лекурб (1758/60/69? – 1815) ( ), под началом которого были такие «звезды» «рейнцев», как генералы Лорж, Нансути, Вандамм и Монришар. Причем, первые трое со временем войдут в обойму лучших генералов Великой армии (Grande armee) Наполеона, пройдя с ним почти все его войны! умело тормозивший в Альпийских горах рвавшегося на помощь Римскому-Корсакову «русского Марса»!
Центральным корпусом в 26.356 тыс. чел. руководил дивизионный генерал Сен-Сир, не нуждавшийся в рекомендациях (), к тому же, будущий маршал Франции! Он командовал такими генералами как Ней, Тарро, Бараге д’Илье и Саюка. Правда, только первый из них станет легендой французского оружия на все времена. вполне достойно прошедший противостояние самому неистовому старику Souwaroff под Нови!



