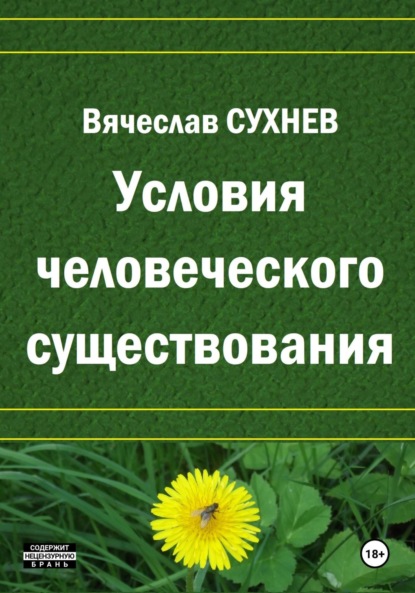
Полная версия:
Условия человеческого существования
Он не помнил, как дошёл до клуба. Забился под железную лестницу в кинобудку и заплакал. И неизвестно, сколько бы он убивался, да выдернул его из-под лестницы киномеханик Савельич, хромой, небритый и как всегда навеселе:
– Что за мудовые рыдания, дорогой товарищ? Ух, да это Серёга… Об чём горюем, сосед? Ну-ка, пойдём ко мне!
И потащил Серёжу в кинобудку, тесную глухую комнатушку с дырками в стене, куда глядели стеклянными очами проекторы. Давясь слезами, Сережа рассказал Савельичу о своем горе. Киномеханик повертел обломки короны:
– Да уж… восстановлению не подлежит. Однако из любого отстойника, куда нас, Серёга, бросает жизнь… Из любого есть выход! Вместо короны мы тебе сладим колпак.
– И кем я буду?
– Звездочётом, дорогой товарищ, звездочётом!
– А зачем тогда меч?
– Ну, спросил! Триста лет назад, когда эти самые звездочёты по звёздам шарились… Знаешь, как на улице было опасно? Все с мечами ходили, чтобы отбиваться в случае чего.
– Я принцем… хотел, – тихо сказал Сережа.
– Забудь, – вздохнул Савельич. – Конечно, должность у звездочёта пожиже, чем у принца, но тоже умственная. Сейчас я поправлюсь – и сладим. Не боись!
Савельич поправился вонючим коричневым портвейном из горлышка, крякнул и сдернул со стены афишку с какой-то красавицей. Свернул из афишки кулёк, белой стороной наверх, примерил Серёже на голове, обрезал ножиком лишнее. На белом синей гуашью нарисовал несколько корявых звезд.
– Прикинь… Вылитый звездочёт! Ну, бороды не хватает.
Тем же ножиком оттяпал от полы своего чёрного полушубка клок овчины, помазал почтовым клеем из большой бутыли и прилепил Сереже на подбородок.
– Все! Вали на игрища. Только бороду поначалу придерживай, пока не прихватит.
В клубе было шумно, просторно и холодно. Носилась по скрипучим полам совсем мелкая детвора – зайчики, ёжики и снежинки. Посреди зала стояла высоченная ёлка, щедро украшенная звёздами из фольги, разноцветными бумажными фонариками и мягкими игрушками, по большой части сшитыми девочками старших классов из подручных материалов на уроках домоводства. Венчала ёлку красная звезда из мигающих лампочек. Кроме нескольких учителей, отвечающих за мероприятие, взрослых в зале не было. И правильно – иначе тут вообще не развернуться. Взрослые кучковались под окнами клуба и заглядывали в зал. Серёжа бросил шубейку в общую кучу раздевалки, потрогал колпак. Тот сидел хорошо, плотно.
Учительница математики Земфира Христофоровна, наряженная Снегурочкой, записывала в тетрадку желающих участвовать в конкурсе костюмов. Отловила она и Серёжу:
– Ты у нас кто?
– Звездочёт.
– Понятно. А меч зачем?
– Надо, – буркнул Сережа.
Лидочка Злобина оказалась коварной девочкой: она оделась на маскарад Лисичкой-сестричкой. Её костюм составляли жёлтая меховая жилетка, цветастый сарафан с белым передником и маска с острыми ушками. Сзади на сарафан был нашит настоящий лисий хвост. Отец Лидочки, директор леспромхоза и заядлый охотник, мог себе это позволить… Вокруг Лидочки с глупыми лицами ходило несколько принцев – не одному Сереже рассказала она о своих карнавальных планах. Восьмиклассник Погожев щеголял в короне из проволоки и фольги, и Сережа мимоходом подумал: такую не сломаешь. Только на кой она теперь Погожеву?
Наконец, объявился Дед Мороз с палкой и с баяном под мышкой, стукнул в пол и сказал голосом учителя по труду:
– Ну-ка, дети, встали в круг! Новый год шагает по стране… Вот он и к нам дошагал. Встретим его весело!
И заиграл что-то бодрое. А Серёжа незаметно подсунулся поближе к Лидочке, озирая свиту из принцев. Объявят танцы, подумал, а я уже тут. Сразу всех растолкаю… Однако танцев пришлось долго дожидаться. Дед Мороз Макарихин затеял конкурсы: на лучший стишок, на лучшую песню. Дошло дело и до конкурса костюмов. Первый приз получил Долгов из седьмого класса, нарядившийся Урожаем. Костюм его состоял из бумажного зелёного рубища, подпоясанного красным кушаком и бумажного колпака, разрисованного колосьями, яблоками и прочими плодами. На груди Долгова, чтобы даже дураку было понятно, висела табличка «Урожай». Вторую премию получила Лидочка Злобина, а третью – маленькая девочка, синяя от холода в своём марлевом костюмчике Снежинки. Победителям дали красивые книжки и наборы карандашей.
Станцевать с Лидочкой у Серёжи не получилось: его постоянно оттирали принцы… В конце праздника Снегурочка Земфира Христофоровна раздала всем плотные бумажные пакеты с подарками. Серёжа заглянул: как обычно – три сморщенных мандарина, большая шоколадка «Аленушка», горсть разных конфет, пачка печенья и несколько зеленоватых мятных пряников, от которых холодило во рту.
После бала начались катанья на санях – отец Лидочки прислал к клубу розвальни, запряжённые парой смирных гнедых лошадок. Киномеханик Савельич завёл радиолу, и чёрный огромный репродуктор на крыше клуба запел на весь Красный Бор высоким щемящим голосом:
В лунном сияньи снег серебрится,
Вдоль по дороге троечка мчится.
Динь-динь-динь, динь-динь-динь! –
колокольчик звенит…
У Серёжи от этой песни горло свело. А ребятня уже набилась в розвальни, возница щёлкнул кнутом – и покатили сани в низкое солнце, в заиндевелый горизонт. Серёжа смотрел, как уплывает на санях Лидочка в рыжей шубке, как придерживает девочку за плечо восьмиклассник Погожев, смотрел во все глаза и повторял про себя:
Колокольчиком твой голос юный звенел....
Динь-динь-динь, динь-динь-динь! –
О любви сладко пел…
Домой он вернулся рано, отдал матери пакет с подарками, даже не притронувшись к конфетам. Поужинал и завалился в кровать, уткнувшись лицом в подушку, от которой тонко пахло летними травами. На душе было холодно и пусто. И он с удивлением прислушивался к этому новому странному ощущению. Он ещё не знал, что повзрослел.
– Ты не заболел? – удивилась мать, щупая Серёжин лоб.
Он не ответил.
Пришел отец:
– Ну, как у вас скачки прошли?
– Нормально, – сказал Серёжа, не поднимая глаз.
Отец помолчал, потом потрепал его по плечу:
– Премии тебе не дали, так понимаю… Ну и ладно. Все ордена не соберёшь, по себе знаю. Так что не расстраивайся.
Сережа и не расстраивался. Ему казалось, что наступил конец света. Однако наступили каникулы. И всё отболело. Только с тех пор он не мог без душевной дрожи слушать эту музыку и эти слова:
Динь-динь-динь, динь-динь-динь! –
колокольчик звенит....
Этот звон, этот звук много мне говорит!
СТЕПНЫЕ СНЫ
Ночные бдения
Сны – это осколки яви, причудливо склеенные с самыми потаёнными желаниями. Во сне я летаю. А психологи утверждают, что во сне летает тот, кто еще растёт. Странно. Расти мне некуда – разве только в ширину.
Или на мои сны так действует погода, которая меняется в последнее время, как настроение истерички?
Явь настолько тяжела и приземлёна, что иногда неохота просыпаться. Я понимаю, продрав глаза, что никогда и никуда не взлечу. А у кого-то даже кони летают, Пегасами прозываемые. Мой конь груб, плохо учен в упряжи, он жрёт овёс и любит кобылиц. Почему-то, вне всякой связи с погодой, снами и полётами, я вспоминаю словеса, выведенные огнём на стене дворца Валтасара: взвешено, измерено, сосчитано. То есть, надоело Господу нашему зрить бардак в валтасаровых хоромах. Довели Боженьку… Хотя эти древние слова не мне надо вспоминать, а нашим воеводам. Тоже довели. Довели страну до физической пропасти, как любит повторять на митингах наш местный, районный, валтасар и воевода, бывший политрук танковой части. Я вспоминаю сон, где летал над зелёной тихой долиной, но светлое и чуть грустное чувство освобождения от вериг земных ломает вой соседского кобеля. Сегодня он завывает, словно над покойником. Ничего, вроде, пёс, смирный, зря не кидается. Правда, слишком угрюмый. Хотя… Будешь тут угрюмым, сидя на цепи без прогулки и амнистии! Вот если бы у меня была винтовка, с оптическим прицелом, как у нынешних душегубов… Впрочем, темно, в собаку не попасть даже с оптическим прицелом. Нужен ещё прибор ночного видения, как у других душегубов.
Блевать иногда хочется прямо в зеркало, в тусклую рожу с погасшими глазами. Становлюсь сам себе гнусен, судари мои – с таким лицом. И с такими мыслями.
Ладно. Пришла открытка от Петухова. И затеплилась надежда. Я суеверно гоню её прочь, но помимо воли думаю, как теперь может всё сложиться… Об открытке пока молчу. Не знаю, что сказать Светлане. Но рано или поздно нужно будет затевать разговор. Забивать гвоздик в мозги. Это хороший боевой приём. Забиваешь человеку ма-аленький гвоздик – и отходишь в сторону. Через день-другой человек готов: он искренне уверен, что так и родился – с гвоздиком. Да… Сколько идей подброшено вот так тому же Бровеносцу Потёмкину: забил гвоздик – и в сторону. И он через какое-то время мне же и докладывает эту самую идею, и глазки у него светятся от вдохновения и самоуважения.
А ведь со Светланой, боюсь, разговор получится тяжёлый, ведь Бровеносец нам пообещал новую квартиру. И я сдуру поделился этой призрачной радостью с женой.
Гири отливаются не только из металла, но и из квадратных метров. В битве за эти гири Светлану непременно поддержат милые родственнички – Гришани, Мишани и Нюры. Без их драгоценных советов она с ума сбежит.
Обычно родственники – это опора, надёжа, кредит и стол с закусью. Во всяком случае, у других людей именно такие родственники. А наши ничего не приносят, кроме головной боли. Не злой ведь я человек, терпеливый, общежитейский и приветливый, как раскладушка. Но когда поздно вечером вваливается Петёк, вытолканный вон очередной женой, когда он вваливается и начинает скулить на кухне, глотая с чаем скупые и пьяные мужские слёзы… А ведь за сорок мужику! Нет, чуть что – в слёзы. У него не слёзные железы, а канализационные трубы. И вот когда он начинает завывать на кухне, пугая тараканов, мне хочется взять его за шкирку и выбросить на улицу. Но он – Петёк, брат моей половины, родной братан, он у нас на свадьбе два дня на баяне наяривал в поте лица. Как его выгонишь – такого родного, пьяного и сопливого? Простынет ведь.
Роднее всех мне Гришаня, другой шурин. Этот не плачет, состоя в вечной борьбе с материей – строит дачу, ловит рыбу, растит арбузы, торгует барахлом, хватает все, до чего руки дотянутся. А до чего не дотянется – на то плюнет, чтобы не трогали. На меня смотрит как прошлый кулак на батрака: то лес помоги распилить, то арбузы погрузить, то придумать рекламу к сапогам, которые он собрался продавать на нашем рынке.
Аве, Гришаня! Один ты – светлое пятно в сей жизни тленной. Но почему, интересно, у других родственничков моей жены всегда столько проблем и столько слёз?
Слёзы малых сего мира… Страшная сила.
Полагаю, Светлана не сразу свыкнется с тем, что обещает Петухов в своей открытке. Она просто испугается самой мысли о переезде. Во-первых, как бросить родственников? Какие ни плаксивые, а свои. Во-вторых, как бросить родину? Но разве я виноват, что эта крысиная дыра, Амельяновск, – её малая родина? Могла бы и получше где родиться! Крысиная дыра…
О названии сугубо. Так и вижу: пьяный писарь корябает – слобода, мол, Амельяновская. И остаётся сие название в простоте своей по нынешний день. Слышишь ли ты меня, писарь, слышишь ли, раздолбай, в тех пределах, где несть ни печали, ни воздыхания? Впрочем, я уверен, что ты сейчас в аду – хотя бы за название. Емельяновская надо было писать, пьянь сухорукая, Емельяновская! Может, у слободы и судьба сложилась бы по-иному. Но разве выйдет толк из населённого пункта с таким идиотским именем – Амельяновск? Да ещё в голой степи? Никогда. Тут против судьбы не попрёшь, никакая власть не поможет – ни белая, ни красная, ни серая. Предопределение, фатум. Теперь понял, что ты наделал по пьянке и неграмотности, сукин сын, писаришка?
Линии судьбы проходят не только по ладони, но и по земле. Я устал бороздить бесплодное поле, и надо думать не о том, какими я воспитаю своих учеников, а как я вытащу собственную семью из выгребной ямы, в которой мы оказались, потому что это наша родина, сынок…
Отдельно о сортире. Должно быть, старею, но все больше хочется прожить, сколько уж там ещё отпущено, в квартире с унитазом. Неужели я многого хочу? Оценить всю прелесть унитаза может только тот, кто ходит в нужник за сорок метров от дома. Особенно романтично бежать через двор ночью, по морозу, сквозь пургу, предвкушая, как этот морозный ветер сквозь щели в стенках нужника будет кусать тебя за голую задницу…
Жил, значит, на свете раздолбай-писарь, накорябавший это сакраментальное: Амельяновск. И пошло все с той поры сикось-накось. В ссылку сюда загоняли, как при царе, так и через много лет после него. До революции тут волостных старшин штабелями убивали, после революции горели – всем миром. И с голоду пухли. А в гражданскую аккуратно поделились на белых и красных и пущали друг другу кровя. Рассказывают, что уже в шестидесятых, когда началась чехарда с укрупнением да разукрупнением, трижды падала в Амельяновске советская власть – то уберут районный совет, то снова водрузят серпастый молоткастый флаг. Соответственно, все службы кочевали за райсоветом в соседний районный поселок, в Добринку, а это сотня километров, не ближний край. Кочевали, устраивались там табором и через некоторое время дружно возвращались в Амельяновск.
Езда – наше национальное развлечение. Особенно, езда в незнаемое. Вот и я приехал сюда по распределению на заре советской власти. Хочу сказать, на закатной заре. Сейчас распределения нет, и многие мои бывшие ученики, закончившие в городе техникумы и институты, мечутся в поисках работы, опускаясь и озлобляясь… Да. А я приехал в Амельяновск – и запил втихую от тоски. Благо, тогда с этим делом было замечательно просто. И с тоской, и с запоем. Запил от тоски и страха перед серым простором, который открывался из грязного окна моей комнатухи. Общежитие стояло на самом краю Амельяновска, над сухой Широкой балкой. А за ней нерушимо простиралась, наверное, до самого Китая, великая равнина. Эта равнина, серая по осени и призрачно-белая зимой, словно висела во вселенской пустоте, и только тонкие прочерки редких птиц в небе напоминали, что я ещё – на земле… Как тут было не запить? Тем более, окружение способствовало – все чего-то боялись и оттого пили. Вот и я запил, до такой степени, что мне по ночам стали являться тени порубанных в Широкой балке белочехов.
Не собирался жениться, судари мои, а пришлось. Женился от испуга, что сопьюсь окончательно. Запил со страха, женился от испуга. Светочка была тоненькая, беленькая, как свечечка. Сейчас она, прямо скажем, мало напоминает свечу. Разве что пудовую. Что делать – время, дети. И я.
Нет-нет, да и мелькала поначалу мыслишка: можно было не ехать в Амельяновск. Мои соученики в большинстве зацепились за город – и в городе хватает школ. Не верю, что у всех были папы с мохнатыми лапами. Просто ребята шевелились, суетились, не пускали будущее на самотёк. А мне было всё равно: Амельяновск так Амельяновск. Поеду, а чего там! Посмотрю свет за счёт государства, покатаюсь. Теперь-то я знаю, хоть и нет от этого знания пользы: нельзя кататься за чужой счёт, особенно, государственный. Очень дорого обходится впоследствии такое катание. Настолько дорого, что едва хватает жизни до этого додуматься.
А кое-кто из моих однокорытников смог остаться в институте. На втором или на третьем курсе я тоже мечтал, грешным делом: закончу аспирантуру, буду преподавать, женюсь на городской и заведу собаку. Любил ведь собак… А сейчас готов ухлопать несчастного соседского кобеля, которому до воя скучно в нашей богоспасаемой глуши.
Я, судари мои, платонически мечтал об аспирантуре. Застенчиво так мечтал, розовея щеками, как мечтал о сисястой и капризной курсовой красавице Оленьке Поваровой. Знал ведь, что не по губам коту сметана, а мечтал. Потом мечта стала таять. А может, я начал взрослеть, наконец. Или просто однажды меня замутило от мысли, что я в аспирантуре, высунув язык, переписываю цитатки из речей наших вождей, а затем, как попка, повторяю их студентам. Умудрялся же у нас один спец по древнерусской литературе, Павел Петрович Крестовоздвиженский, вставлять целые куски из сочинений вождей в лекции о «Повестях временных лет»! И весьма удачно вставлял.
К концу учёбы я понял, что аспиранта из меня не выйдет, придется ехать, куда пошлют. Подумаешь, всего три года! Это я сейчас с ужасом думаю: целых три года… А тогда меня посещали размышления о долге. Каково? Вот ведь как вырастили… Как вдолбили, что где-то там великий народ денно и нощно печётся обо мне, балбесе, кормит, поит, защищает! А я цитатки неточно списываю, да еще мечтаю о чужих сиськах.
Мучает ли меня сейчас чувство долга перед народом? Я ведь тоже часть народа, того самого народа, который и мне задолжал. Всем прощаю. Хотя бы ради детей надо куда-то уезжать. Конечно, трудно менять жизнь, когда тебе под пятьдесят. С другой стороны, это ещё не возраст. Совсем пацан, как считает наш Бровеносец.
А Бровеносец, не к ночи будет помянут, что-то почуял. У него хватает и ума, и звериного инстинкта, чтобы верхним нюхом чувствовать беду, несуразицу, неприятность. Может, потому и пересидел всех больших и маленьких начальников в районе. Сколько проверок и ревизий обкладывало Бровеносца, но он постоянно уходил за флажки и быстро зализывал позднюю и неопасную дробь. Вот и теперь что-то почуял, хотя, клянусь, моё поведение в школе ни в чем не изменилось, и я ещё ни с кем своими планами не делился.
– Любопытствую, Сергей Михайлович, – сказал он буквально вчера. – Сдаётся, вы уже сало раздобыли, Сергей Михайлович, золотой вы мой… И сдаётся, этим салом, Сергей Михайлович, вы собираетесь мазать лыжи.
Обсыпанный, как всегда, вонючим сигаретным пеплом и перхотью, одышливый и красноносый, он меня разглядывает исподлобья.
– Можно узнать, в каком смысле – лыжи? – спрашиваю я, наконец, довольно глупо.
– Уматывать, в смысле, надумали, – печально говорит Бровеносец, надвигая на крохотные глазки, как жалюзи, свои замечательные брови. – Коллектив, извините, Сергей Михайлович, стал пованивать? Э?
Коллектив он вспоминает для разгона. Не слыша ответа, Бровеносец прикладывает ладонь к шерстяному уху. Я пожимаю плечами и трусливо молчу, изнемогая от брезгливости к самому себе. Не решаюсь честно-благородно ответить: да-с, золотой вы мой, пованивать стал коллектив, и работа начала дерьмом припахивать!
– Ну, и куда же намылились, если не секрет? – задушевно спрашивает Бровеносец и поднимает палец. – Да не бойтесь, Сергей Михайлович, разве я зверь? Тем более, школа старая, ученики ублюдки, директор зануда… Я ничего не пропустил?
– Извините, это вы сами сказали, я за язык не тянул.
– Говоря откровенно, я вас понимаю, – гнёт свое Бровеносец. – Широбокова ушла, место свободно. Но старая зануда, ваш покорный слуга, про место завуча даже не заикается. Э?
– Абсолютно ничего не могу добавить, – я развожу руками и пытаюсь придать голосу язвительность. – Про место завуча молчу. Куда с моими, пардон, половыми признаками, взлетать на такую недостижимую высоту. Завуч обязательно должен быть женщиной.
Подножка, конечно. У Бровеносца в глазках проскальзывает обида. Он же не виноват, что жёны районных начальников, как на грех, оканчивали пединституты, что западло им в школе сидеть на обычных ставках. Не хотят, прозябать в крестьянках, все хотят быть столбовыми дворянками! Место завуча одно, а начальников в районе много.
Инженер наших душ, Бровеносец, тем ещё славен, что не может долго обижаться. Похмыкав, помусолив сигарету, он вцепляется с новыми вопросами. Как пиявка. Или отвечать надо, или убивать. А что отвечать? Бровеносец гнёт: нельзя уходить, мы на всю школу только два мужика. А физрук, вопрошаю я, разве не мужик – с такими-то мускулами? К мускулам, вздыхает Бровеносец, обязательно нужны мозги, а у физрука с этим большая напряжёнка. Вот потому, срываюсь я, наконец, надо и уходить из нашей школы, что о настоящих мужиках никто думать не хочет, а они должны в первую очередь думать о семье. Кое-кто о мужиках думает, кряхтит директор, и для этих мужиков он готов пойти на унижение, готов пасть на коленки перед главой районной администрации и не вставать, пока он не даст школе квартиру. Как же, этот мудак даст, думаю я. Глава района как-то приходил в школу, и Бровеносец представлял меня. Знаю, знаю, разулыбался мудак, читал ваши замечательные статьи в нашей газете. Очень полезно для воспитания подрастающего поколения. Особенно полезно в то время, когда нашу страну подвели к физической пропасти… Так что квартира будет, и достанется она настоящим мужикам, стучит себя в пухлую грудь Бровеносец. Но вы должны, Сергей Михайлович, золотой вы мой, сказать, собираетесь ли мазать лыжи. Да с чего вы вообще об этом затеяли разговор, Николай Сидорович, удивляюсь я. С того, отвечает Бровеносец, что у вас во взоре, золотой вы мой, появилось в последнее время этакое мечтательное выражение. Нездешнее. Так вы медиум, значит, откровенно нахальничаю я. Тут закончился урок, и в дверь директорского кабинета стали заглядывать мои дорогие коллеги. Чем и избавили от дальнейшего допроса. То есть, наступило утро, петел проорал и Шахразада, слава аллаху, заткнулась.
Согласен, велеречив я иногда, спасу нет. Не по чину велеречив. Хотя это понятно – влияние классики. Сколько же можно долбить: в своем гениальном романе в стихах Пушкин хотел показать… Да ни хрена он ничего не хотел, ваш Пушкин! Он просто взял и показал.
А ещё надо добавить, что высокомерен я стал. Не по чину. Не виноват Бровеносец, что таким уродился. И коллектив не виноват, что воняет. И напрасно я желчью пышу, как Змей-Горыныч полымем. Поэтому надо отдохнуть. И поучиться у современной прозы скромности, лапидарности и сухости изложения. Вышли мы все из гоголевской «Шинели», чтобы облачиться в пиджачную пару дежурного докладчика товарища Огурцова. Потому и получается коротенечко, минут на сорок. Какие времена, такие и песни.
Пря о правде и истине
На исходе осени степь печальна. Выгоревшая сухая трава поникает, небо немеет – исчезают жаворонки, горизонт теряет текучесть, отвердевает и становится острым, словно обломок стекла. Вздыбленные плугом поля зябнут на медленном ветру, и древнее слово – зябь – получает овеществлённое значение. Ветер дует мощно и ровно, так что закладывает уши и ничего из звуков не остаётся, кроме этого сильного мерного шороха. Пусто и холодно в степи, словно в доме с выбитыми окнами.
А все же, пока сухо, пока ходит низко над степью неяркое солнышко, не хочется верить в умирание природы, и можно мириться с необъятной глухой пустотой, хоть и накатывает от неё беспричинная тоска. Молчащие просёлки, где впала в спячку холодная пыль, ещё хранят отпечатки колёс, и эти длинные полосы недавно потревоженного праха напоминают о движении. Провода одинокой электролинии увешены неподвижными воронами, но и птицы изредка тяжело и бесцельно взмывают в сгустившийся до видимости воздух, и это осеннее кружение мрачных, отливающих жестью, крыл тоже пробуждает неясную надежду, что степь вот-вот очнётся от оцепенения.
С первыми туманами, когда подбираются к горизонту тихие вкрадчивые дождики, когда ветер смолкает и небо провисает до самой клёклой стылой земли, – исчезают и эти редкие проблески движения, пропадают окончательно звуки и даже грязь совсем бесшумно ворочается под ногами. Последняя надежда тонет в серой мгле, в которую обращается воздух. От сырости начинают скрипеть суставы и барахлить бронхи. Мокрая голая степь настолько печальна, настолько бесприютна, что нельзя и помыслить о живой душе, блуждающей в её холодных вязких пространствах.
Ломило спину. Сергей Михайлович медленно тащился по скользкой тропе, пробитой на недавней пашне. Он жалел уже, что пошёл напрямик – комья цепкой сырой земли налипали на сапоги. Иногда он поёживался от прикосновений влажного, наждачной шершавости, воротника плаща. Он шёл уже больше часа. Со всех сторон Сергея Михайловича окружало бесконечное поле, поделённое на квадраты невесомыми пунктирами облетевших лесополос. Посадки едва проглядывали сквозь серую мглу мелкого, как порох, дождя и первые робкие сумерки.
Ему до наступления темноты нужно было выйти к шоссе. Ноги дрожали от напряжения, потому что сапоги разъезжались, и каждую минуту можно было упасть в хлябь. Приходилось делать мелкие куриные шажки, держась не столько тропы, сколько редкого ёжика стерни на обочине. Мокрые короткие охвостья соломы кое-как удерживали раскисшую почву.
Здесь, в холодной степи, Сергей Михайлович, забыв свое филологическое образование, неудержимо матерился. Громко, с вариациями, уточнениями и дополнениями. Не однажды он вспомнил дорогого шурина Григория Петровича Забазнова и всю его родню, вспомнил банки с огурцами и капустные головы в багажнике забазновской легковушки, а заодно досталось и этой растырканной машине, и всему заводу, её собравшему.



