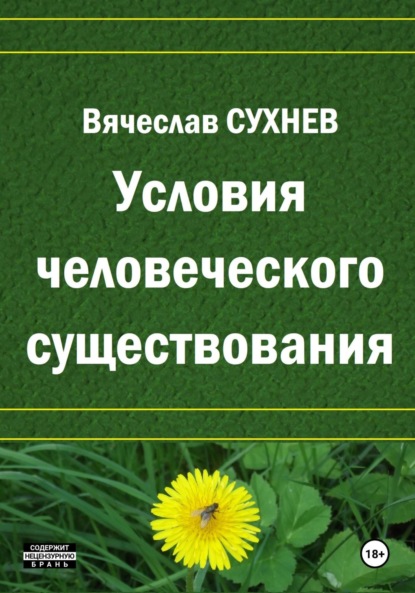
Полная версия:
Условия человеческого существования
– Так, ага…
Кошкин пододвинул телефон и включил громкую трансляцию – чтобы свита слышала.
– Здорово, Александр Павлович! Не разбудил?
– Я еще и не ложился, Александр Иванович.
– Ага… Хорошо, что не ложился. Ты в курсе, что у нас тут?
– В курсе. Авария, как понимаю.
– Правильно понимаешь. Мы тут посовещались и решили… Надо к твоей подстанции подключаться. Ты не возражаешь? Тем более, что подстанция и не твоя.
– Возражаю, Александр Иванович! Подстанция не резиновая, она не рассчитана на авральные нагрузки. Если выйдет из строя, у меня накроется инкубатор. Это выльется в огромные убытки. Ты их мне возместишь? Сомневаюсь.
– Значит, про цыпляток беспокоишься? – подёргал себя за усы Кошкин. – А люди, значит… это самое? А ты не забыл, что подстанция… это самое? Народное имущество? У нас в Амельяновске капитализма нет. И пока я в районе сижу – не будет!
– Конечно, не будет, – вздохнул Ткаченко. – Тут я совершенно спокоен. А на подстанцию не пущу. Только со скандалом. Хочешь скандала – добро пожаловать. Это раз. Если подстанция выйдет из строя, и я понесу убытки – переведу производство в другой район. Это два. Будь здоров, Александр Иванович, береги себя. Сейчас такой грипп, говорят, ходит – нос на хрен отваливается от соплей…
Кошкин, яростно вращая глазами, подержал трубку и брякнул её на стол:
– Что ж это выходит… это самое? – заорал он. – Выходит, мы тут и не власть? Вот это дожили… демократы! И этот куриный царь… это самое… ещё издевается? А ну, давай сюда начальника милиции!
– Погоди, Александр Иванович, – рассудительно сказал Парамонов. – Не кипятись. Ты же знаешь, сколько народу работает на птицефабрике. Да и курятина наша – во всех магазинах области… Ну, а если и правда, что случится? Если цыплята передохнут? Ведь уйдёт Ткаченко из района.
– Я этого так не оставлю! – не унимался Кошкин. – Уйдёт он… Понятно, что градообразующее… это самое… предприятие. Бюджетообразующее, понятно. Но наглеть же нельзя! Пора прижать кулака. Зажрался вконец!
– Правильно, – кивнул Парамонов. – Однако мы его в другом месте прижмём и в другое время. Ничего страшного не произошло. Посидит народ без света сутки-другие, не помрёт. Не мы же виноваты. Надо ремонтировать подстанцию, звонить в область. А пока… Поручим районной газете статейку напечатать, пусть расскажет, как господа демократы из нашего антинародного правительства на ремонт электрического хозяйства денег не дают, хоть и поднимают тарифы каждый месяц.
– Хорошее решение, – поддержал коллегу Валерий Макарович. – А пока будут ремонтировать, можно запустить дизельный энергоблок. Он законсервирован на чрезвычайный случай… Война и всё такое. Думаю, такой случай и наступил.
– Ну, иди, включай свои дизеля! Чего мы тут рассусоливаем… это самое? У него, оказывается, целая электростанция в кармане, а он тут… это самое!
– Сразу включить не получится, – помялся Валерий Макарович. – Генераторы давно не эксплуатировались. Надо бы специалиста пригласить, проверить сначала.
– Ну, так проверяй. Кругом – марш! Чтобы через час все фурычило. А специалисты у нас есть?
– Есть… Григорий Петрович такой, Забазнов. Только он без денег не пойдёт.
– Значит, дай ему денег! Это самое… нашёл вопрос!
– Я поднимаю этот скромный бокал, – Григорий Петрович кокетливо оттопырил мизинчик на стопке с водкой, – за наших педагогов и учителей, за дорогую сестрицу Светлану Петровну и за дорогого зятя Сергея Михайловича! Хочу обратить маленькое внимание… В нашей трудовой семье целых два учителя, ёклмн! Если вы помните, как нам всем доставалась учёба Светочки в институте…
– Да уж, – покивал лысиной глава рода Забазновых, Петр Павлович. – Хороший был кабанчик, просто замечательный, почти полтора центнера чистого мяса. Мы его, помнится, вчетвером еле держали, пока Гришаня горло…
– Папаня! – оборвал отца Григорий Петрович. – Не к тому столу песня.
– … ему перепиливал, – продолжал Петр Павлович. – Хороший кабанчик. Ну, продали и Светке пальто справили. Хорошее пальто – на всю учёбу хватило.
– Папаня! – постучал Григорий Петрович вилкой по отцовской стопке.
– Га?
– Дай мне закончить. И в кого ты такой говорун… В общем, продолжаю. Сегодня мы чествуем наших дорогих учителей и желаем им здоровья, успехов в нелёгком труде и счастья в личной жизни. Ура, товарищи!
В горнице большого дома Григория Петровича, тесной от разнокалиберной мебели, полыхали четыре мощных керосиновых лампы, от которых поднимались струйки дрожащего накалённого воздуха и летучей копоти. Лампы стояли на комоде, на подоконнике и на длинном столе. А уж стол был заставлен огромными мисками с помидорчиками, солёными огурчиками, холодцом, маринованной рыбой, салатами и прочей снедью. За таким столом можно было накормить роту с марша. И глядя на этот стол, плохо верилось в обнищание народа, о котором неустанно писала малотиражная газета «Правда».
Собрались только свои. Глава рода Забазновых Петр Павлович, лысый пень, не закрывал рта – ему казалось, что так он лучше слышит. Старик с грустью поглядывал в красный угол, где на тумбе стоял большой японский телевизор, слепой и глухой без электричества. Маманя Галина Ивановна, улыбчивая круглая старушка в платке с розанами и тяжёлыми руками вечной труженицы, накладывала в тарелки. Григорий Петрович с золотыми зубами, орлиным профилем и чёрными кудрями, припорошенными ранней сединой, отвечал за выпивку. Его супруга Клавдя, мощная женщина с крутыми плечами, которая коня на скаку остановит, а не остановит, так хвост напрочь оторвёт, металась из кухни в горницу и наоборот с тарелками и банками. Младшенький отпрыск старых Забазновых, Петёк, меланхоличный сорокалетний оболтус, в очередной раз холостой, но при баяне, изредка начинал одну и ту же развесёлую мелодию, которую бросал на полутакте. Виновники торжества Сергей Михайлович со Светланой Петровной усиленно улыбались. А две красавицы, две родительских утехи, Любанька с Веркой, сидели в конце стола, кушали и прыскали со смеху. Не хватало во пиру только старшей дочери Петра Павловича и Галины Ивановны, Нюры – женщины разведённой и крепко выпивающей. В родственные застолья Нюра редко попадала. Как и сынок её, допризывник Мишаня.
Итак, Григорий Петрович предложил тост, все, кроме девушек, дружно выпили.
– Не налегай на водку! – с опозданием прошипела Светлана Петровна Сергею Михайловичу. – Нам ещё домой добираться, а завтра – на работу.
– Отстань, сестра, от человека! – засмеялся Григорий Петрович. – Что ж ты под руку-то гунькаешь! В дыхательное горло может попасть… И не волнуйся – всем завтра на работу. Окромя, конечно, папани с маманей, они своё отработали. Всех домой доставлю в лучшем виде.
– С тобой, пьяным, не поеду, – сказала Светлана Петровна.
– Ладно, – легко согласился Григорий Петрович. – Пойдёшь пешком. Тут и ходьбы-то двадцать минут. Ну, по грязи чуть больше. А мы с Михалычем поедем. Как всё выпьем и съедим, так и поедем. Я что хочу сказать, дорогие родственнички…
Что хотел сказать Забазнов, осталось во мраке несбывшегося, потому что в ворота забухали, и все за столом застыли.
– Кого там несёт? – первой спросила Клавдя.
– Смекаю, Нюра, – предположил Петр Павлович. – Поди, Гришаня, стрень сестру!
Григорий Петрович, дожёвывая на ходу, отправился на улицу, остальные прильнули к мокрым окнам, сквозь которые всё равно не было видно ни черта.
– Это не Нюра, – сказал Петр Павлович, прищуриваясь на скрип двери и со свистом высасывая мякоть помидора.
В горницу вошел Григорий Петрович, держа под локоток мелкого мужичка.
– Клавдя! Давай посуду. А ты, Любанька, табуретку из своей комнаты тащи. Гость у нас!
– Григорий Петрович, – вздохнул гость и осторожно вытер платочком жидкие усишки. – Некогда гостевать, мы же договорились. Здравствуйте, Сергей Михайлович, здравствуйте, товарищи… Извините, что помешал, но я по делу.
– Садись, садись, Валерий Макарович! – Забазнов придавил гостя на поднесённую табуретку, тут же налил водки и сунул на вилке здоровенный огурец. – К нам не каждый день начальство приходит. Постоит дело, ёклмн! У всех налито?
– Что празднуем? – обречённо спросил Валерий Макарович, принюхиваясь к огурцу.
– То, что всем обществом не допраздновали – День учителя. За этот праздник грех не выпить. Каждый рождается дурак-дураком, бессмысленной деревяшкой, а учитель из него выстругивает умного человека. Выходит, учитель – главный специалист по нашей местности. Правда, дураки всё равно не переводятся. Но тут виноват не плотник, а доска.
– Отлично сказано! – кивнул Сергей Михайлович. – Такая доска иногда попадается, что все руки собьёшь на сучках…
– Пьём до дна! – подытожил Забазнов.
Все выпили, закусили, и Григорий Петрович сказал родственникам:
– А теперь мы с Макарычем удаляемся. Народ дожидается, пока наладим свет. Как в песне поётся, без меня тут ничего бы не стояло, ёклмн… Клавдя, собери того-сего, чтобы отметить потом трудовую победу.
– Когда взад ждать, Гришаня? – спросил Петр Павлович.
– Когда свет загорится, папаня. Отсчитай с того момента пару стопок – тут я и нарисуюсь. Не скучайте!
Не дождались гости хозяина. Решили расходиться, как ни уговаривала Клавдя остаться – время ещё, мол, детское, только десять часов. На улице по-прежнему властвовал мрак, усугубляемый плотным мелким дождём.
Петёк отправился со стариками в одну сторону, а Сергей Михайлович, уравновешенный с двух боков женой и дочерью, в другую. Шли они по проезжей части улицы, потому что здесь колдобин с холодной водой было меньше, чем на тротуарах. От дома Григория Петровича, который стоял у Широкой балки в старой части Амельяновска под названием Первая остановка, до дома Сергея Михайловича на углу Октябрьской и Колхозной – а это уже центр, Вторая остановка – летним днём было пятнадцать минут неспешного хода. Но осенью, да под дождём…
Непривычное для чужого уха деление Амельяновска на остановки произошло лет пятьдесят назад, когда тут появился общественный транспорт. Посёлок издавна застраивался в линию, потому что с одной стороны был зажат Широкой балкой, а с другой – республиканским шоссе. Передвигался народ из конца в конец Амельяновска пешим порядком или на велосипедах. С большим энтузиазмом восприняли тут появление автобусов. Однако ходили они редко, пассажиров набивалось под завязку, и если амельяновец торопился, то по-прежнему гнал пешком или налегал на педали. Тогда-то и прижились названия: Первая, Вторая, Третья остановки, Промзона. Так и говорили: я живу на Второй остановке. Или – около Промзоны.
Вообще, в географии Амельяновска наблюдались разнообразные чудеса и катаклизмы. Широкую улицу, например, именовали в разное время улицей Троцкого, Коминтерна и Кагановича. В новейшие времена вернулись к прежнему исконному названию. А Прогонная в двадцатом веке была улицей Пятакова, Индустриальной, Сталина и Республиканской. Остановились на Республиканской.
С Широкой улицы по Пионерской семья педагогов вышла на Октябрьскую. Двигаться стало легче – тротуары здесь недавно отремонтировали, залатали ямы бетонными нашлепками. К тому же впереди обнадёживающе светили огоньки на площади и поднимали настроение.
– Радуйтесь, девушки, – сказал Сергей Михайлович. – Самая гадкая часть дороги – позади.
– Нашёл, чему радоваться, – сказала Светлана Петровна. – Нам праздник испортили. И вообще… Ты обратил внимание, отличник народного просвещения, что Кошкин тебя даже не упомянул? Про Жабину сказал, про Жабину! А про тебя – нет.
– Наверное, не успел. Ведь свет погас.
– Господи, как же мне всё надоело… Придём домой, а там – холодильник потёк. Придется мясо сварить, чтобы не пропало. За что такая жизнь?
– Не нравится – надо уезжать.
– Правильно! – сказала Верка из-под локтя Сергея Михайловича. – Валька Щербина рассказывала, что в Волгограде…
– Заткнись! – непедагогично сказала дочери Светлана Петровна. – Валька Щербина… Эта проститутка тебе нарассказывает. Таким везде хорошо!
– Светлана Петровна! – укоризненно протянул Сергей Михайлович.
– И ты заткнись! Куда ехать собираешься? Кто тебя и где ждёт? Раньше надо было думать. Пенсия на носу… И никаких лишних денег про запас! Бесплатно собираешься переезжать?
В отчуждённом молчании добрели они до своего дома на углу Октябрьской и Колхозной и только вошли во двор, как Верка сказала:
– В туалет хочу. А как же… по темноте?
– Поднимемся домой, возьмёшь фонарик.
– Всё равно боюсь…
Сергей Михайлович со вздохом посмотрел в чёрный угол двора. Было так темно, что не просматривалась даже дверь общего сортира.
– Ладно, провожу и покараулю.
И тут в окнах старого двухэтажного дома и на фонаре посреди двора вспыхнул свет. Сортир оказался на месте.
– Слава мозолистым рукам Григория Петровича Забазнова! – шумнул на всю улицу Сергей Михайлович.
– Да здравствует дядя Гриша! – поддержала Верка.
– Вот придурки, – вздохнула Светлана Петровна, но уже без недавнего раздражения.
Ночные бдения
Несмотря на обильное застолье у шурина, спал плохо. Среди ночи проснулся, поворочался, послушал храп Светланы и пошёл на кухню. Сидел почти до утра, листал альбом с фотографиями учеников. Это у меня, так сказать, традиция: в День учителя посмотреть в глаза ученикам.
Удивительно, как быстро меняется человек в юном возрасте! В младших классах – такие чистые открытые лица и такие ясные глаза. А уже в восьмом-девятом грубеют черты, в лице проступают упрямство и безволие, ум и хитрость, доброта и жестокость. Сравниваю фотографии, между которыми несколько лет. Вот светловолосый улыбчивый ангелочек с ямочками на щеках – пятый класс. Вот он же в десятом – угрюмая бесцветная личность с колючим взглядом. Сейчас сидит в тюрьме. Куда улетел ангелочек? Кто виноват?
Я почти всех помню по именам… Вот Вася – убит в Афганистане. Серёжа – погиб в Чечне. Толя – разбился на машине. Федя – спился.
Конечно, не только потери… Не только. Вот Саша Ткаченко – экономист, хозяин птицефабрики. А вот Платоша Королёв из моего первого выпуска. Писатель. Присылает новые книжки и открытки на праздники. Тексты пишет сложные, с заумью, темы берёт непростые и поэтому, полагаю, читателей у него немного. Однако критики считают Платошу одним из лучших современных писателей. Наверное, я, воспитанный на реализме, многого у Платоши просто не понимаю. Или отстал от ученика, что есть замечательно. Когда ученик идёт дальше учителя, наступает прогресс. А вот Валера Задорожный, паренёк из очень бедной семьи, учился на медные деньги, но цепкий как чертополох. Сейчас заместитель главы района. Когда у нас в доме прорвало водопровод – моментально прислал ремонтников. Хорошо иметь учеников, которые не только пишут романы, но и командуют жилкомхозом… Вот Лариса. Прекрасно училась, особенно успевала по химии и биологии. Ей прочили учёную карьеру. Вышла замуж, нарожала кучу детей, работает у Ткаченко на птицефабрике, собирает и упаковывает яйца. И все дела. Может, и этого немало? А вот красавица Люба Непокрытая. Мечтала о сцене. Сейчас работает в областном театре юного зрителя. Сегодня Снегурочка, завтра Баба-Яга. Вот Фастов… Добродушный облом со средней успеваемостью. Капитан первого ранга, командир подводного крейсера, вся грудь в крестах… Какая все-таки извилистая штука – жизнь!
Закрыл альбом и начал думать о жизни. В основном, о собственной. Светлана не совсем права – пенсия пока не на носу… Но всё же, всё же… Старость наступает тогда, когда в доме больше лекарств, чем книг или спиртного. Я открыл аптечку на стене и полюбовался кучей облаток, пузырьков и коробочек. Один пузырёк шлепнулся на пол, загремел и разбудил жену.
– Сергей Михайлович! Между прочим, праздник кончился – завтра всем на работу. А тут свет в лицо!
В голосе Светланы сарказм. И если уж ночью она навеличивает по отчеству, надо срочно ложиться спать.
Колокольчиком твой голос юный звенел…
Сергей Михайлович не всегда был взрослым и учителем. Как большинство нормальных людей, одно время он был маленьким и учеником. Звали его тогда в зависимости от обстоятельств то Серёгой, то Сергунькой.
Рабочий поселок Красный Бор, где он родился и рос, стоял над речкой с непереводимым зырянским именем Важа. О том, что имя у речки зырянское, Сергей Михайлович узнал в институте. В Красном Бору никаких зырян не водилось, фамилии были чисто русскими: Ивановы, Погожевы, Макарихины, Сухневы, Злобины. Взрослые работали в леспромхозе, на узловой станции железной дороги, в совхозе и на маслозаводе, где делали знаменитое масло, которое из-за его чистоты и вкуса даже в Кремль отправляли. Устраивались земляки также в городах поблизости и в областном центре. А некоторые, вроде Сухневых, и до Москвы добирались. Вербовались на траловый флот и на стройки Урала. Красноборцы славились как хорошие плотники, и хаживали в другие области на заработки.
Вокруг Красного Бора лежали густые леса и болота. В лесах собирали грибы и ягоды, добывали зайчишек и боровую дичь. В Важе ловили рыбу. На лесных опушках устраивали огороды, сажали картошку. Жили в деревянных рубленых домах, которые топили печами. По субботам смотрели в клубе кино. После сеансов молодёжь устраивала здесь танцы, убрав к стенам низки лёгких деревянных кресел. Жизнь в Красном Бору текла медленно, размеренно и тихо. Через много лет Сергей Михайлович как-то увидел фильм про маленький городок на американском севере и с тёплой грустью удивился: до чего же этот городок был похож на Красный Бор его детства…
Дети в Красном Бору жили неплохо. Можно сказать, хорошо жили, в здоровой обстановке. Зимой учились в единственной средней школе, катались на коньках и санках, летом пропадали в лесу и на Важе. Помогали взрослым сено ворошить, дрова возить да ягоды с грибами собирать.
В шестом классе Серёжа смертельно влюбился в соседку по парте. Звали её Лида Злобина. Однажды, слушая скучный рассказ учительницы математики Земфиры Христофоровны про какую-то теорему, покосился он на Лиду, и на фоне убранного морозными разводами окна, подсвеченными низким зимним солнышком, увидел над ухом девочки светлую кудрявую прядку – такую одинокую, такую беззащитную… Очень захотелось ему пригладить эту летучую прядку, не выдержал и прижал пальцем – с дрожью и замиранием сердца.
– Ты чего, дурак? – сердито спросила Лида и дала Сергуньке подзатыльник, от треска которого Земфира Христофоровна сбилась с математической мысли.
Не выгнала из класса – и на том спасибо.
У красноборских школьников было два главных праздника – Новый год и последний перед летними каникулами день занятий. Новогоднюю ёлку обычно устраивали в поселковом клубе, потому что в тесном актовом зальце школы развернуться было негде.
Лида сказала Серёже, что собирается нарядиться на ёлку принцессой. И он отправился в свободный вечер к учителю истории Валентину Ананьевичу Скоробогатову. Тот как всегда возился в пристройке, где у него была небольшая мастерская. Зимой учитель от скуки делал полочки, этажерки, табуретки и дарил их всем красноборским. Редко в каком доме не держали неуклюжих, но прочных произведений историка-столяра.
– Спросить хочу, Валентин Ананьевич, – замялся на пороге Сергунька.
– Валяй, – сказал учитель. – И дверь прикрой, не лето.
Он был огромен, толст, в мохнатом свитере до колен, в солдатских стёганых штанах, в валенках, при сивой бороде, и смахивал на деда Мороза, не успевшего нарядиться к выходу на сцену. В бороде и на рукавах свитера желтели мелкие кудрявые стружки.
– Вы не знаете, как принцы одевались?
– Вот это вопрос, – улыбнулся Скоробогатов и присел на верстак. – Вообще-то по-разному одевались. Скажем, французский престолонаследник носил не такую одежду, как принц, допустим, японский.
– Про японских не надо, – отмахнулся Сергей. – Лучше про французских расскажите.
Битый час, постепенно увлекаясь, повествовал учитель о нравах и привычках французских королевских домов. Знал он чудовищно много, выписывал кучу журналов и газет. Недаром красноборские ходили к нему советоваться по самым разным житейским вопросам. И убеждены были, что если Скоробогатов чего-то не знает, то этого не знает никто на свете. Наконец Валентин Ананьевич спохватился:
– Тебе-то зачем знать, как принцы одевались?
– Нарядиться… на ёлку, – застенчиво ответил Сергунька.
– Понятно… Ракетой или там урожаем наряжаться уже неприлично, не маленький. Так, что ли? Ладно, смотри сюда!
Скоробогатов взял толстый плотницкий карандаш и принялся рисовать на клочке бумаги:
– Вот это камзольчик… Это короткие штаны – кюлоты по-ихнему. Сапожки и берет с пером. Знаешь, что такое берет?
Вернулся Серёжа домой задумчивый, свесив голову. Не представлял он, где взять камзольчик или эти… кюлоты. Не говоря уж про берет. Такой одежды в Красном Бору сроду не водилось. Мать с тёткой Анфисой заметили непривычную рассеянность Сергея и выведали, о чём у парня душа болит.
– Нашёл докуку! – засмеялась тётка. – Ты сначала расскажи, на что это похоже, а уж мы постараемся.
Сергей протянул бумажку с художеством учителя.
Две ночи все семейство готовило маскарадный костюм. Взяли синюю рубаху, в которой старший двоюродный брат Серёжи до армии щеголял, нашили эполеты из верёвочек и большие пуговицы от тулупа. Получился камзол. Из ветхой простыни соорудили короткий плащ и выкрасили киноварью – аж больно было смотреть. Кюлоты чудесно образовались из коротких штанов, в которых Сережа летом ходил. Они, правда, были полосатыми, но, как сказала тётка Анфиса, по сельской местности сойдёт. Дядька Фёдор вырезал из крышки консервной банки шпоры и привязал чёрными нитками к Сергунькиным сапожкам. Всеобщим энтузиазмом заразился даже отец, неразговорчивый и угрюмый, потому что был в эти дни трезвым. Он поранил ногу на лесосеке и сидел дома. Отец лично выстругал из сосновой дощечки красивый меч и выкрасил его краской-серебрянкой. А потом начал препираться с шурином по поводу головного убора принца.
– Это ж бабская шляпа! – сказал он про берет. – В таких колпачках, помню, все немки ходили. Без перьев, правда, но всё равно… Нет, принцу нужна корона.
– А это… не того? – спросил осторожный дядька Фёдор, мастер маслозавода. – Пионер – и в короне. У нас государство рабочих и крестьян. А тут, значит, пионер…
– Ты политику не шей! – завёлся отец. – Ты в окно иногда поглядывай – там давно времена переменились. Чего ты всё трясёшься, чего боишься, Федьша?
– Ничего я не боюсь… До Будапешта дошёл!
– Знаем, как вы в интендантстве своем до Будапешта шли, как героически сражались с каждым куском колбасы и с каждым стаканом!
– А вот этого не надо… Михаил Кузьмич! Не надо. Каждый воевал на том участке, куда его, значит, Родина определяла.
– Какая Родина! – в голос заорал отец.
Две семьи жили в одном доме довольно дружно, однако отец время от времени вносил разлад в мирное существование, потому что был человеком горячим, скорым на руку и возражений не терпел. Дядька Фёдор отступился. Отец снял с головы Сергуньки мерку и вырезал из обувной коробки корону. Однако картон оказался тонким и хлипким, зубцы короны клонились в разные стороны. Тогда отец в несколько слоёв промазал картон столярным клеем, и корона стала просто костяной. На концы зубцов он наклеил ещё небольшие осколки зелёного бутылочного стекла, сверкавшие как настоящие изумруды. С помощью все той же краски-серебрянки отец довершил превращение желтого картона в королевский венец.
Утром, перед походом в клуб, Сергунька в последний раз примерил карнавальный костюм. Под короткие штанцы, чтобы ноги не мерзли, серые треники поддел. А когда нацепил корону перед зеркалом – онемел. Таким красивым он себя ещё никогда не видел. Подумал о Лидочке Злобиной, и сердце тяжело и сладко забухало под самым горлом.
– Ну, брат, все пряники твои! – высказался дядька Фёдор.
– То-то же, – сказал довольный отец. – Ты только, сына, не вздумай в короне по улице идти… Во-первых, простудишься, во-вторых засмеют. Заверни в газеточку, да и неси.
На маскарадный костюм Серёжа набросил овчинную шубейку, на голову – шапку. Красавицу-корону завернул в старый номер «Красноборского знамени» и побежал в клуб, в центр посёлка, по кривой, просевшей посредине, улице. Солнышко хоть и стояло низко, но светило весело, мороз держался не сильный, только щеки пощипывал, с деревьев сыпался пушистый иней, на затишной стороне улицы с крыш свисали толстые нарядные сосульки. По накатанной сверкающей дороге народ шёл в одну сторону – в клуб. Серёжа представил Лидочку в наряде принцессы – и опять ёкнуло сердце. Она принцесса, а я принц… Все заметят!
И тут на дороге попалось под ноги замершее лошадиное яблоко. Споткнулся Серёжа, поскользнулся в сапожках и упал. Да так, что хрустнуло в груди. И только через минуту понял: не в груди хрустнуло, а в руках. Похолодев, он медленно развернул газету… Хрупкая корона превратилась в несколько обломков, и солнце весело играло на бутылочных изумрудах. Конечно, некоторые люди больше теряют: у кого дом сгорит, у кого машину разобьют… Но Сергунька шёл на праздник и чувствовал себя ещё несколько мгновений назад настоящим принцем – душа пела.



