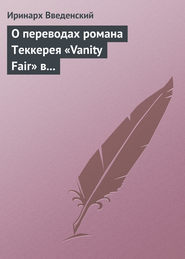 Полная версия
Полная версияО переводах романа Теккерея «Vanity Fair» в «Отечественных записках» и «Современнике»
Из всего этого следует, что при художественном воссоздании писателя даровитый переводчик прежде и главнее всего обращает внимание на дух этого писателя, сущность его идей и потом на соответствующий образ выражения этих идей. Сбираясь переводить, вы должны вчитаться в вашего автора, вдуматься в него, жить его идеями, мыслить его умом, чувствовать его сердцем и отказаться на это время от своего индивидуального образа мыслей. Перенесите этого писателя под то небо, под которым вы дышите, и в то общество, среди которого развиваетесь, перенесите и предложите себе вопрос: какую бы форму он сообщил своим идеям, если б жил и действовал при одинаковых с вами обстоятельствах? Это дело нелегкое, и не каждый в состоянии представить себе удовлетворительный ответ на этот вопрос «De tous les livres à faire, le plus difficile, à mon avis, c'est une traduction».[9] Это сказал Ламартин в своем «Voyage en Orient»,[10] и на авторитет его в этом случае можно совершенно положиться.
Чего ж вы от меня хотите, милостивые государи? Да, мои переводы не буквальны, и я готов, к вашему удовольствию, признаться, что в «Базаре житейской суеты» есть места, принадлежащие моему перу, но перу – прошу заметить это, – настроенному под теккереевский образ выражения мыслей. Я готов даже сам указать вам на некоторые из этих мест и объяснить, почему я переделал их против оригинала. Прошу вас, на первый случай, припомнить, что в числе действующих лиц «Базара» есть некто мистер Бинни, которого переводчики «Ярмарки» весьма неосторожно возвели в достоинство обожателя Амелии, каким он не был никогда. Достопочтенный мистер Бинни – содержатель пансиона, названного «Афинами». Человек он добрый и умный, но педант, и в этом вся сила. Чем же автор определяет его педантизм? Тем, что он, быв природным англичанином, беспрестанно, однако ж, употребляет в разговоре длинные слова, противные духу английского языка. Почему и прозвали его длиннохвостым. Видите ли, речь идет исключительно о длинных словах. Но такие слова – не диковинка дли русских читателей. Можете употреблять их сколько угодно в разговоре или на письме, и вы все-таки ни для кого не покажетесь педантом. Как же теперь, по мысли автора, познакомить русских читателей с достопочтенным мистером Бинни? Передавать разговор его буквально – значит уничтожить весь колорит и вовсе не сказать того, что имел в виду автор. К счастью, мистер Бинни большой латинист и любит выражаться высоким слогом. Вот это – педантизм и по-русски. На этом основании я заставляю мистера Бинни произнести перед своими учениками следующую речь:
Возвращаясь вчера ночью с учено-литературного вечера у превосходнейшего друга моего, доктора Больдерса – это великий археолог, милостивые государи, прошу вас заметить, – я вдруг, ex improvise[11] или, правильнее, ex abrupto[12] должен был, проходя по Россель-скверу, обратить внимание на то, что окна в истинно джентльменских чертогах вашего высокочтимого и глубокоуважаемого мною деда (обращение к маленькому Осборну) были иллюминованы великолепно, как будто для некоего торжества или, правильнее, пиршества. Итак, мастер Джордж, справедлива ли моя ипотеза, что мистер Осборн принимал в своем палацце великолепное общество гостей, magnificentissimam spirituum, ingeniorumque societatem?.[13] («Отеч. записки», т. LXXII, стр. 328).
Всех латинских слов и некоторых эпитетов, прибавленных к отдельным словам, нет в оригинале; но я смею думать, что без этих прибавок было бы невозможно выразить по-русски основную идею Теккерея. Если мистер Бинни в оригинале не произносит здесь латинских фраз, зато он щеголяет ими в других подобных случаях, а это все равно. И если читатель согласится, что тут выражена идея педантизма, то переводчик вправе надеяться, что цель его достигнута.
Еще случай. В VI главе третьей части «Базара» идет аукционная распродажа вещей старика Джона Седли. Автор по этому поводу задумывается над непостоянством судьбы, и я заставляю его говорить таким образом:
Умер милорд Лукулл, и бренные его останки покоятся в могильном склепе: монументальный художник вырезывает на памятнике эпитафию с правдивым исчислением добродетелей покойника и красноречивым изображением скорби в душе наследника, владельца всех его сокровищ. Какой гость за столом Лукулла может теперь без сердечного сокрушения проходить мимо этого знакомого дома?
«Ярмарка тщеславия» выражает это место в таком тоне:
Бренные останки милорда Дэйвиса лежат уже в фамильном склепе, и резчик выбивает на камне последние слова надгробной надписи, упоминающей со всею подробностью о его добродетелях и о горести его наследников. Кто из присутствовавших за столом Дэйвиса пройдет мимо его гостеприимного дома без глубокого вздоха?
Таким образом, в двух переводах одного и того же места встречаются два различные лица: Лукулл и Дэйвис. Которое из них принадлежит Теккерею? Ни то, ни другое. Вместо Дэйвиса и Лукулла в английском тексте стоит латинское слово Dives, богатый, которое или должно перевести по-русски, или, оставляя без перевода, написать и произнести по-латыни. Переводчик «Ярмарки» счел его английским словом и произнес на английской манер – Дэйвис. Но у меня нарицательное Dives превратилось в собственное имя Лукулла, с которым каждый из русских читателей, без сомнения, соединяет идею богача. Смею думать, что тут я ничего не сочинил, а старался только выразить настоящую мысль Теккерея. В этой же главе и по той же причине выступил у меня на сцену Молотков вместо Гаммера[14] «Ярмарки тщеславия».
Остров Формоза вызван у меня точно такою же необходимостью. В III главе «Vanity Fair» Теккерей счел нужным оправдать перед английскими ригористами появление в своем романе такого лица, как Ребекка Шарп. Автор говорит по этому поводу, что, живя с людьми и вращаясь в их кругу, он обязан изображать их такими, какими они существуют в природе, то есть добрыми и злыми. Иначе, разумеется, и не должно быть. Вот иное дело, если бы он жил на каком-нибудь фантастическом острове, например Формозе, тогда, вероятно, все лица литературных произведений были бы проникнуты чистейшею нравственностью. Ведь еще в старину, за две тысячи с лишком лет, муж ученый и премудрый, некто Диодор Сицилийский, уверял весьма серьезно, что он открыл остров Панхайю, жилище вполне блаженных и вполне добродетельных людей, где нет ни литературных журналов, ни литературной полемики, ни джентльменов, способных терять хладнокровие из-за каких-нибудь тридцати ошибок, находимых в какой-нибудь «Ярмарке тщеславия». Там рецензенты критикуют добросовестно смиренных переводчиков, и если находят в их труде какие-нибудь отступления от оригинала, то спрашивают прежде всего: сообразны ли эти отступления с духом переводимого автора? И если сообразны, то переводчик удостаивается похвалы, а не порицаний. Так поступают на острове Панхайя.
Впрочем, я имею самые основательные причины думать, что «литературный журнал» находит мои переделки в высшей степени сообразными с духом английских оригиналов, до того сообразными, что даже не отличает их от английского текста. Это требует некоторых объяснений.
Предлагая мне совет, как должно переводить Теккерея, «Современник» заметил, что бесхитростный Теккерей есть писатель простой до наивности. Вскоре, однако ж – не далее, как через месяц, – он увидел, что это уж чересчур и что никак нельзя предполагать детской наивности в таком сатирическом писателе, как Теккерей. На этом основании «Современник» воскликнул в порыве поэтического воодушевления: «О, Теккерей! Теккерей! наизлобнейшее из всех бесхитростных существ!» И вслед за этим восклицанием «литературный журнал» делает такую выписку:
Маркиз Осборн написал billet-doux[15] и отправил к леди Амелии своего жокея.
Красавица получила душистую записку из рук своей femme de chambre, Mademoiselle Anastasie.[16]
– Милый маркиз! Как он любезен!
В записке было приглашение на бал к милорду Бумбумбуму.
– Кто эта прелестная девушка? – спросил в тот же вечер индийский принц Моггичунгук, прикативший из Пиккадилли на шестерке вороных коней.
– Имя ее – мисс Седли, Monseigneur! – сказал лорд Джозеф многозначительным тоном.
– Vous avez alors un beau mon,[17] – отвечал Моггичунгук, отступая назад с озабоченным видом. В эту минуту он наступил на ногу старого джентльмена, который стоял позади и любовался на очаровательные прелести леди Амелии.
– Trente mille tonnerres![18] – закричал старый джентльмен, скорчившись под влиянием agonie du moment.[19]
– Ах, это вы, Monseigneur! Mille pardons![20]
– Какими судьбами, mon cher? – вскричал Моггичунгук, увидев своего банкира. – Пару слов, mon cher:[21] намерены ли вы теперь расстаться с вашим жемчужным ожерельем?
– Mille pardons! Я уже продал его за двести пятьдесят тысяч фунтов князю Эстергази.
– Und das ist nicht teuer![22] – воскликнул Моггичунгук, – и проч. и проч. («Совр.», т. XXI, стр. 193 в «Современных заметках».)
Чтобы понять сущность этой выписки, надобно припомнить, что «литературный журнал» объявил выше за несколько строк, что он читал Теккерея в оригинале; следовательно, думаете вы, он сделал выписку прямо из «Vanity Fair»? Ничуть не бывало. Откуда же? Из «Ярмарки тщеславия», уже переводившейся на листах «литературного журнала»? Опять нет. «Современник» выписал целиком это место из «Базара житейской суеты». Это бы еще ничего; но беда в том, что я сам имел честь сочинить это место. Смею уверить «литературный журнал», что в английском тексте нет ни милорда Бумбумбума, ни индийского принца Моггичунгука. Эти лица, выдуманные мною, суть неотъемлемые произведения моей собственной фантазии, и разноязычный способ их разговора принадлежит не одному Теккерею. Не служит ли это ясным доказательством, что «литературный журнал» ставит мои переделки в уровень с английским текстом? И не ясно ли отсюда, что переделка может иногда быть вполне сообразна с духом оригинала? «Литературный журнал» должен это знать, – он, который так недавно сам читал по-английски «Vanity Fair»!
Должен он знать это и потому, что еще так недавно был у него особый отдел, посвященный разбору английских романистов от Фильдинга и Ричардсона до романа Коррер-Белля «Дженни…», нет, извините, «Джен Эйр» – так надобно произносить, как уверяет «литературный журнал». Читатели, вероятно, помнят этот роман. Я имел честь перевесть его для «Отечественных записок»; и когда труд мой был приведен к концу, «Современник» заметил мне, что я не умел озаглавить английского оригинала. Джен, видите ли, должно говорить, но никак не Дженни. Затем «литературный журнал» в отделе «Английская литература» приступил к ученому анализу «Джен Эйр».[23] О переводе моем не сказал он ничего. Зачем? Он и не читает английских романов в русских переводах, и уже само собой разумеется, что оригинал всегда лучше перевода. Анализ «литературного журнала» начался, как водится у него, изложением содержания «Джен Эйр».
Есть (говорит «Современник» в XXI томе, на странице 31, отделения английской литературы), есть над одним высоким зданием, серым и ветхим с одной стороны и совершенно новым с другой, следующая надпись:
«Ловудский благотворительный институт. Сие здание сооружено усердием и старанием Наума Броккельгерста, да служит оное на вечные времена рассадником истинного любомудрия в юных умах и сердцах».
Mille pardons, potztausend![24] Откуда «Современник» взял эту надпись? В оригинале она читается совсем иначе. Там вовсе нет ни рассадника, ни истинного любомудрия, ни юных умов и сердец. Кто бы мог подумать, что «литературный журнал», читающий знаменитых европейских писателей не иначе, как на их собственном языке, взял эту надпись из того самого перевода, где даже не умели и назвать переводимого романа? Однако ж это не подлежит ни малейшему сомнению. Я сочинил эту надпись, и рассадник с его истинным любомудрием и юными умами есть плод моей собственной фантазии. В оригинале – другие слова и другая идея – какая именно, я не намерен объяснять «литературному журналу».
Пойдем далее. «Современник» продолжает:
Здесь она (Дженни… прошу извинить: Джен Эйр) невольно подчиняется влиянию мистера Сен-Джона Риверса, квакера и кальвиниста…
Постойте. Кто сказал вам, что Сен-Джон Риверс – квакер и кальвинист? Уж никак не Коррер-Белль, могу вас уверить. Эти подробности вы могли вычитать опять не иначе, как в моем переводе. Я, именно я, а не Коррер-Белль, возвел мистера Риверса в достоинство квакера и кальвиниста; а почему я сообщил ему эти титулы, это I dare say,[25] моя тайна, которую я намерен тщательно скрывать от редакторов «литературного журнала», читающих британских писателей не иначе, как на родном их диалекте.
Продолжая свой ученый разбор английского романа, «литературный журнал» беспрестанно делает из меня выписки и объясняется до конца статьи моими словами и выражениями, которых большую часть он не нашел бы в оригинале…
Он даже позаимствовался здесь моимъ «простонародьем», за которое в том же самом номере сделал мне замечание. И само собою разумеется, что он сохранил глубочайшее молчание насчетъ источника этих заимствований, оставляя своихъ читателей въ приятномъ заблуждении, что онъ «журналъ литературный», следитъ неусыпным оком за всеми замкчательными явлениями европейских литератур вообще и в частности британской – потому-то самому он и называется журналом, по реимуществу «литературным». Мало этого. Представив такой великолепный разбор британского произведения, «литературный журнал», не далее как месяца через два, сделал упрек «Отечественным Запискам» – упрек в том, почему они (Отечественные Записки), не дают своим читателям таких разборов. Вы, дескать, «Отечественные Записки», только переводите иностранные произведения – да и как переводите? великий Аллах! – вы не умеете даже и называть съ удовлетворительною правильностью переводимых вами романов; a вот мы, «литературный журнал», стоим на страже современной образованности, au niveau du siècle, и не только читаем оригиналы всех знаменитых произведений, но и пишем на них критические статьи въ особом отделении, посвященном исключительно анализу Иностранной Литературы. Дженъ, a не Дженни, да! Вот мол что! – А мне очень жаль, что я сделался невинною причиною заблуждения «литературного журнала». Роман «Дженни Эйр», действительно, не переведен, а переделан мною, и это я готов теперь объявить, по секрету, одним только ученым редакторам «литературного журнала». Стараясь по мере сил воспроизводить как можно вернее Диккенса и Теккерея, которых люблю и уважаю от всего моего сердца, я в то же время считал для себя совершенно позволительным не церемониться с английской гувернанткой (написавшей роман «Дженни…», извините, «Джен Эйр», под псевдонимом Коррер-Белль), которой, говоря по секрету, я вовсе не люблю и не уважаю по причинам, очевидно неизвестным «литературному журналу»… Да и кто в нынешнем веке церемонится с какими-нибудь английскими гувернантками? Вот хоть бы, например, «Библ. для Чтения» недавно переводила «Ширлин, роман автора „Дженни Эйр“». В первых же строкахъ этого перевода выступают на сцену какие-то ЛЕСНИЧИЕ, которых, смею сказать, совершешю нет въ оригинал. Предупреждаю об этомъ «литературный журналъ» на всякий случай…
Нет, однако ж, худа без добра, и невинное заблуждение «литературного журнала» имеет свою хорошую сторону, по крайней мере для меня: оно показало осязательно и наглядно, что «литературный журнал» не только одобряет мои переделки, но и переносит их на свои страницы, а это не безделица. Впрочем, это я давно знал. Читатели «Современника» помнят, вероятно, в каких восторженных выражениях этот журнал отзывался и еще до сих пор отзывается о «Домби и сыне», делая весьма часто выписки из моего перевода, который он торжественно признал изящным. Но что подумает и что скажет «литературный журнал», если теперь, когда речь пошла на откровенность, я приму на себя смелость доложить, что в этом изящном переводе есть целые страницы, принадлежащие исключительно моему перу? Что подумает он, когда я докажу, что эти-то самые страницы нравились ему по преимуществу?.. И давно ли «литературный журнал» восхищался каким-нибудь старикашкой Джоем, не думая и не гадая, что в английском языке не может быть ни старикашки, ни старичины?.. С прошлого года, впрочем, когда печатался «Базар», «литературный журнал», проникнутый счастливым предчувствием, начал догадываться, что в «Домби» есть выражения, придуманные мною, и на этом основании указал мне, как нарочно, на такое место, которое я не только перевел буквально, но и объяснил в примечании, почему перевел так, а не иначе. Что прикажете делать? «Литературный журнал» называет меня сочинителем там, где я только переводчик, и притом буквальный, и называет меня переводчиком там, где я действительно сочинитель!
Вот в «Ярмарке Тщеславия», выдержавшей наивную простоту бесхитростного Теккерея, нет передел… да полно так ли? Мне почему-то сдается, что переделки должны быть и в «Ярмарке». Позвольте навести справку… Ба! это что такое? извольте прислушать:
«Мы не станем входить (говорит „Ярмарка“ на 419 стр.) в подробности бального наряда Бекки, не станем описывать ее очаровательной, безыскусственной наружности, убежденные, что в исполнении такого подвига понадобились бы нам сравнения, которыми (скажем в скобках, эта неосторожная замашка водится за всеми романистами, и ее надо бы давным-давно отбросить, или, по крайней мере, брать пример с меня, избегая ее как можно чаще)… да, так этими сравнениями мы могли бы невольно оскорбить тех прекрасных дам (и даже только желающих быть прекрасными и употребляющих для того вспомогательные средства), которые ни в каком отношении не могли бы сравниться с нашей Бекки».
Переройте Теккерея из конца в конец, сличите все его издания: смею вас уверить, ни в одном из них ничего и похожего вы не найдете на этот замысловатый период с его дополнительными и придаточными предложениями, с его скобками и вставками. Ничего подобного и не мог сказать автор «Vanily Fair», Как? У мистрисс Бекки безыскусственная наружность? У ней, которая всю свою жизнь разыгрывала комедию, принимая всегда и везде искусственные позы? Нет, быть не может, Теккерей этого не скажет. Не подлежит ни малейшему сомнению, что все эти драгоценные строки сочинены переводчиками «Современника». И откуда взяла «Ярмарка», что автор «Vauity Fair» посовестится описывать наружность Ребекки, из опасения делать какие-то сравнения? Совсем напротив: Теккерей описывает бальный костюм Ребекки, и описывает превосходно. А если не описывает его переводчик «Ярмарки», так это, думать надобно, случилось не из опасения сравнений, а вследствие другой, более основательной причины, которая состоит исключительно в неведении английского языка. И составив этот замысловатый период, переводчик рекомендует, чтоб английские романисты брали пример с него самого? В чем же, позвольте спросить? Неужели думаете вы, что какой-нибудь англичанин станет читать вашу «Ярмарку Тщеславия»? Никогда, можете быть спокойны. И что это за прекрасные дамы, или, желающие быть прекрасными и употребляющие для этого разные искусственные средства, дамы, которые однакож ни в каком отношении не могут сравниться с мистрисс Бекки?
И вот таким-то способом фантазирует «Ярмарка Тщеславия» на теккереевский лад. Метода таких сочинений весьма проста и удобна. Если, примером сказать, вы находите у автора блестящее общество на пароходе, скажите напрямик: «кого тут не было? И не перечтешь всех!» («Ярмарка» на стр. 553). Потом пропустите две или три страницы и продолжайте дальше в таком же тоне. Конечно, руководствуясь такой методой, вы исказите и обезобразите вашего автора до невероятной степени; но вам какое дело?…
Нет, мне решительно не нравятся такие сочинения «Ярмарки Тщеславия»; нет в них британской жизни, и дух Теккерея в них не веет.
Что делать! De gustibus non disputandum. «Литературному журналу», например, не нравится мое «простонародье», над которым он шутит и смеется очень остроумно.
По поводу этого простонародья, не знаю почему, пришел мне в голову спор двух ученейших мужей, живших лет за двести перед этим. Эти мужи – Перро и Буало, которые всегда оставались между собою литературными врагами. Перро терпеть не мог Гомера за то, что вся его «Илиада» наполнена простонародьем. На что это похоже? У Гомера даже богини перебраниваются, как французские гризетки, и одной из них – о, ужас! – греческий поэт приписывает бычьи глаза. Вступаясь за Гомера, Буало доказывал в свою очередь, что в «Илиаде» нет и тени простонародья и что у Гомеровой богини совсем не бычьи глаза. Греческое «βοώπις» искусный переводчик должен перевесть «богиней с прекрасными открытыми голубыми глазами», и т. д. – Но я не Перро, и, конечно, ни один из редакторов «Современника» не поставит себя на одну доску с Буало. Они знают, что простонародье, употребляемое с уменьем и кстати, никогда не может быть обращено в вину писателю. Они и сами не чуждаются этого простонародья до такой степени, что даже статья какого-нибудь Чернокнижникова («Соврем.», 1850 г., № 8. Смесь) находит место в их «литературном журнале». А должно признаться, что действующие лица у этого Чернокнижникова выражаются вовсе нелитературно. Например:
Важнеющий актер. Первеющий стихотворец. Какие пишет комедии, животики надорвешь! (Том XXII. Смесь, стр. 180.)
Тот наяривает повесть, другого отжарили в каком-то журнале, третий насандалил стихотворение. (Там же.)
Не то что мы-с, прощалыги! Мы-с, я вам доложу-с…
Так, изволите видеть, выражаются на каком-то литературном вечере. Следующий способъ выражения, по уверению Чернокнижникова, принадлежит молодому человеку из образованного круга:
«Вот Ерунда! Вот гордость проклятая! Говори, зачем ты шляешься по дачам?» (том XXII, стр. 203.) «И не думай лыжи навострить от меня» (стр. 206). «Ты совсем изъерыжничился» (стр. 213).
Все это напечатано в так называемых «Похождениях Чернокнижникова». Чем же объяснить после того негодование «Современника» на простонародье, которое он находит в «Базаре житейской суеты»? Разве «литературный журнал» сравнил эти простонародные фразы с английским оригиналом и разве он нашел, что у Теккерея нет ничего соответствующего этим фразам? Ничуть не бывало. Он просто взял на выдержку несколько отдельных слов, не связав их ни с предшествующим, ни с последующим контекстом. Кого, спрашивается, нельзя обвинить по этой методе? Нет, милостивые государи, если вы хотите обвинять смиренного переводчика «Базара», то я советую вам прежде всего прочесть английский оригинал, потому что – прошу извинить – я никак не думаю, чтобы вы его читали. Если бы вы действительно читали «Vanity Fair» (вы пишете «Wanity», но это, разумеется, опечатка), то:
1) Вы никак бы не сделали заключения, что Теккерей писатель наивный и бесхитростный.
2) Вы бы не покорыствовались какими-нибудь Бумбумбумом и Моггичунгуком, которых я выдумал вовсе не для вашего удовольствия.
3) Вы бы не допустили бесчисленного множества всевозможных ошибок в «Ярмарке тщеславия».
4) Вы бы непременно увидели и убедились, что простонародный способ выражения большинства действующих лиц в «Базаре» составляет отличительное свойство этого романа. Ведь сам сэр Питт Кроли, баронет и член парламента, выражается на бумаге и в разговоре как простолюдин, делая против языка грубейшие ошибки на каждом слове. Что же сказать о его буфетчике Горроксе? о майорше Одауд? о Родоне Кроли? о лакеях и служанках, которых так много в «Базаре житейской суеты»? Вам не нравится, что Бьют называет у меня своего племянника забулдыгой; да знаете ли вы, что такое английское spooney[26] и scoundrel?[27] Есть у Теккерея целая глава, «cynical chapter»,[28] которая вся наполнена самыми простонародными выражениями; и если ваши переводчики «Ярмарки», не зная английского простонародья, должны были уничтожить тут, как и в других местах, весь колорит оригинала, то неужели, думаете вы, обязан кто-нибудь подражать им? Нет, тот, кто знаком с Теккереем в оригинале, скорее упрекнет меня в недостатке, чем в избытке простонародья, и этот недостаток я сам вижу гораздо яснее, чем «литературный журнал».
Ответ мой вышел гораздо длиннее, нежели я предполагал сначала, взявшись за перо. Жалею бумагу «Отеч. Записок», но тем не менее, не могу расстаться с «литературным журналом», не сделав ему еще несколько замечаний.
1) Говоря о растянутости «Базара», «Современник» заметил, что первые пять глав этого романа занимают будто бы 106 страниц, тогда как в «Ярмарке» заняли они всего только тридцать пять. Рекомендую «литературному журналу» вычесть помещенную перед «Базаром» повесть «Двойник» г. Чернова, занявшую 66 страниц; и если он сделает это вычитание, то увидит, что первые пять глав переведенного мною романа заняли в «От. Записках» не 106, а только сорок страниц.



