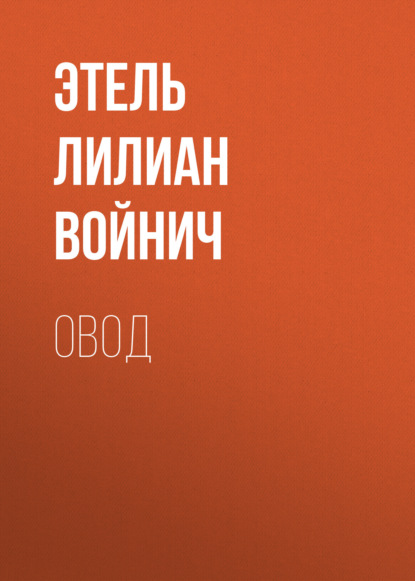 Полная версия
Полная версияОвод
– Вы паломник, отец мой?
Овод сидел на ступеньках епископского дворца. Седые пряди спутанных волос свешивались ему на лицо. Он поднял голову и произнес условный ответ хриплым дрожащим голосом, с сильным иностранным акцентом. Доминикино спустил с плеча кожаный ремень и поставил на ступеньку свою корзину с четками и крестами.
Никто в толпе крестьян и богомольцев, сидевших на рыночной площади, не обращал на них внимания, но, осторожности ради, они завели между собой отрывочный разговор. Доминикино говорил на местном диалекте, а Овод на ломаном итальянском с примесью иностранных слов.
– Его преосвященство! Его преосвященство идет! – закричали стоявшие у дверей дворца.
– Сторонитесь! Дорогу его преосвященству!
Овод и Доминикино встали.
– Вот вам, отец, – сказал Доминикино, положив в руку Овода небольшой, завернутый в бумагу образок, – возьмите и это тоже и помолитесь за меня, когда дойдете до Рима.
Овод засунул образок за пазуху и обернулся, чтобы посмотреть на кардинала.
В лиловом великолепном облачении и пунцовой шапке, он стоял на верхней ступеньке и благословлял народ.
Потом он медленно спустился с лестницы, и богомольцы обступили его тесной толпой, стараясь поймать его руку для поцелуя. Многие становились на колени, ловили край его рясы и прикладывали к губам.
– Мир да будет с вами, дети мои!
Услышав этот живой, звучный голос, Овод наклонил голову так, что седые волосы упали на лицо: Доминикино увидел, как посох задрожал в руке паломника, и с восторгом заметил: «Какой великолепный актер!»
Женщина, стоявшая поблизости, наклонилась и подняла со ступеньки своего ребенка.
– Пойдем, Чекко, – сказала она, – его преосвященство благословит тебя, как Господь благословил детей.
Овод сделал шаг вперед и остановился. Как жестока жизнь! Все эти чужие люди, все эти издалека пришедшие богомольцы и жители окрестных гор могут подходить к нему, говорить с ним… он будет класть свою руку на голову их детей. Может быть, он назовет этого крестьянского мальчика «дорогой», как он когда-то называл его…
Овод снова опустился на ступеньки и отвернулся, чтобы не видеть. О, если бы он мог спрятаться куда-нибудь в уголок и заткнуть уши, чтобы звуки не достигали их! Это было больше, чем могла вынести человеческая душа… быть так близко, так близко от него, что можно протянуть свою руку и дотронуться ею до той дорогой руки…
– Не зайдете ли вы ко мне погреться, друг мой? – сказал мягкий голос. – Мне кажется, что вы продрогли.
Сердце Овода перестало биться. С минуту он ничего не сознавал, кроме болезненного ощущения быстро прихлынувшей к сердцу крови, которая, казалось, разорвет сейчас его грудь; потом она отхлынула назад и щекочущей, горячей волной разлилась по всему телу. Вдруг он почувствовал нежное прикосновение руки Монтанелли к своему плечу.
– Вы пережили большое горе. Не могу ли я чем-нибудь помочь вам?
Овод молча покачал головой.
– Вы паломник?
– Я жалкий грешник.
Случайное совпадение вопроса Монтанелли с вопросом пароля оказалось спасительной соломинкой, за которую Овод ухватился в отчаянии. Автоматически он дал ответ пароля. Мягкое прикосновение руки кардинала жгло его плечо, и дрожь охватила его тело.
Кардинал еще ниже наклонился над ним.
– Быть может, вы хотите поговорить со мной с глазу на глаз? Если я могу чем-нибудь помочь вам…
Овод наконец решился взглянуть прямо в глаза Монтанелли. Его самообладание возвращалось к нему.
– Это ни к чему не поведет, – сказал он, – горю моему не поможешь.
Из толпы выступил полицейский чиновник.
– Простите мое вмешательство, ваше преосвященство. Я думаю, что старик не совсем в здравом рассудке. Он совершенно безобиден, и бумаги его в порядке, поэтому мы не трогаем его. Он был на каторге за тяжкое преступление, а теперь искупает свою вину покаянием.
– За тяжкое преступление, – повторил Овод, медленно качая головой.
– Спасибо, капитан. Будьте добры, отойдите немного подальше. Всегда, друг мой, можно помочь тому, кто искренне раскаялся. Не зайдете ли ко мне сегодня вечером?
– Захочет ли ваше преосвященство принять человека, который повинен в смерти собственного сына?
Тон вопроса был почти вызывающий. Монтанелли вздрогнул и съежился, словно от холодного ветра.
– Да сохранит меня Бог осудить вас, что бы вы ни сделали! – торжественно сказал он. – В Его глазах мы все одинаковые грешники, а наша праведность подобна грязным лохмотьям. Если вы придете ко мне, я приму вас так, как я молю Его принять меня, когда придет мой час.
Внезапным страстным жестом Овод протянул руку.
– Слушайте! – сказал он. – И вы все тоже слушайте, христиане! Если человек убил своего единственного сына – сына, который любил его и верил ему, был плотью от плоти его и костью от кости его, если ложью и обманом он захлопнул его в капкан, из которого не было иного выхода, кроме смерти, то может ли такой человек надеяться еще на что-либо на земле или на небе? Я покаялся в грехе своем Богу и людям. Я перенес наказание, наложенное на меня людьми, и они отпустили меня с миром. Но когда же скажет мне Господь мой «довольно»? Чье благословение снимет с души моей Его проклятие? Какое отпущение может загладить то, что я сделал?
Наступила мертвая тишина. Собравшиеся молча глядели на Монтанелли, и видно было, как задрожал крест на груди его. Он поднял наконец глаза и благословил народ слегка дрожащей рукой.
– Бог всемилостив, – сказал он, – сложи к престолу Его бремя твоей души, ибо сказано: «Сердца разбитого и сокрушенного не отвергай».
Он отвернулся и пошел по площади, останавливаясь на каждом шагу, чтобы поговорить с кем-нибудь или взять на руки ребенка.
Вечером того же дня Овод пошел на квартиру, где должно было быть собрание. Адрес ее он прочел на бумажке, в которую завернут был образок, данный ему Доминикино. Это был дом местного врача – активного члена организации. Большинство заговорщиков было уже в сборе, и восторг, с которым они приветствовали появление Овода, дал ему новое доказательство его популярности как вождя, если только он нуждался еще в новых доказательствах.
– Мы очень рады снова увидеть вас, – сказал ему доктор, – но еще более порадуемся вашему благополучному исчезновению отсюда. Ваш приезд – дело чрезвычайно рискованное, и я лично был против этого плана. Вполне ли вы уверены, что ни одна из полицейских крыс не заметила вас сегодня утром на площади?
– З-заметить-то, конечно, заметили, да не у-узнали. Доминикино все в-великолепно устроил. Где он, кстати?
– Он еще не пришел. Итак, все сошло гладко? Кардинал дал вам благословение?
– Дал благословение? Это бы еще ничего! – раздался у дверей голос Доминикино. – Риварес поражает сюрпризами, словно рождественский пирог. Скольким еще талантам прикажете дивиться в вас?
– В чем дело? – лениво спросил Овод.
– Я и не подозревал, что вы такой великолепный актер. Никогда в жизни не видал я такой чудесной игры. Вы тронули его преосвященство почти до слез.
– Как это было? Расскажите, Риварес.
Овод пожал плечами. Он был в молчаливом настроении духа, и, видя, что от него ничего не добьешься, присутствующие обратились к Доминикино. Все засмеялись, когда он рассказывал сцену, разыгравшуюся утром на рынке. Лишь один молодой рабочий остался серьезным и сказал угрюмым голосом:
– Вы, конечно, мастерски провели свою роль, да только я, право, не вижу, какой кому прок от этого театрального представления.
– А вот какой, – ответил Овод. – Я теперь могу расхаживать свободно по всему округу и делать что мне вздумается, и ни одной живой душе никогда и в голову не придет усомниться в моей личности. Завтра весь город будет знать о сегодняшнем происшествии, и шпион при встрече со мной подумает только: «Это сумасшедший Диего, принесший покаяние в своих грехах на площади». А это мне на руку!
– Да, конечно! Но все-таки нельзя ли было бы добиться этого, не надувая кардинала? Он слишком хороший человек, чтобы устраивать с ним такие штуки.
– Мне самому он показался человеком порядочным, – лениво согласился Овод.
– Глупости, Сандро. Нам здесь кардиналы совсем не нужны, – сказал Доминикино. – И если бы монсеньор Монтанелли принял место в Риме, когда ему представлялся случай к этому, Риварес не надувал бы его.
– Он не принял его потому, что не хотел оставить свое здешнее дело.
– Гораздо вероятнее потому, что не хотел быть отравленным кем-нибудь из агентов Ламбручини. Они имели что-то против него. Это несомненно. Если кардинал, в особенности такой популярный, как Монтанелли, предпочитает оставаться в заброшенной дыре, как эта, то мы знаем, что это значит. Не правда ли, Риварес?
Овод пускал колечки из дыма.
– Может быть, д-дело в «р-разбитом и удрученном сердце»? – заметил он, откидывая голову, чтобы следить за колечками дыма. – Не пора ли нам, однако, приступить к делу, господа?
Собравшиеся принялись подробно обсуждать проекты контрабандной перевозки и способы хранения оружия. Овод слушал с жадным любопытством, прерывая время от времени спорящих резкими замечаниями по поводу какого-нибудь неточного сообщения или слишком смелого плана. Когда все присутствующие уже высказались, он внес несколько практических предложений, и большинство их было принято почти без споров. На этом собрание и кончилось. Было решено, что до тех пор, пока Овод не вернется благополучно в Тоскану, надо по возможности избегать долго затягивающихся собраний, могущих привлечь внимание полиции. Все разошлись после того, как часы пробили десять. Остались лишь доктор, Овод и Доминикино. Они трое составили комиссию для обсуждения некоторых специальных вопросов.
Завязался долгий и жаркий спор. Наконец Доминикино взглянул на часы:
– Половина двенадцатого. Нам нельзя дольше оставаться здесь, не то мы наткнемся на ночную стражу.
– В котором часу обходит она город? – спросил Овод.
– Около двенадцати. И я хотел бы быть дома к этому часу. Доброй ночи, Джордано. Идем вместе, Риварес?
– Нет, я думаю, что в одиночку безопаснее. Увижу ли я вас еще?
– Да, в Кастель-Болоньезе.
– Я еще не знаю, как я буду замаскирован, но вам известен пароль. Вы завтра уходите отсюда?
– Завтра утром вместе с богомольцами. А послезавтра я заболею и останусь лежать в хижине пастуха. Оттуда пойду прямиком через горы и приду в Кастель-Болоньезе раньше вас. Доброй ночи!
Часы на соборной колокольне пробили двенадцать, когда Овод подошел к двери большой пустой риги, превращенной в место ночлега для богомольцев. На полу виднелись бесформенные человеческие фигуры, и громкий храп резко раздавался в ночной тишине. Воздух был нестерпимо тяжелый. Овод вздрогнул от отвращения и попятился. Напрасно и пытаться заснуть тут! Лучше походить еще, а потом разыскать какой-нибудь навес или хоть стог сена: это будет чище и спокойнее.
Была чудная ночь, и полная луна тихо плыла по багряному небу. Овод принялся бесцельно бродить по улицам города. В мозгу его вставала, как кошмар, вся утренняя сцена. Как жалел он теперь, что согласился на план Доминикино устроить собрание в Бризигелле. Если бы с самого начала он объявил этот проект опасным, они избрали бы другое место, и тогда и он и Монтанелли были бы избавлены от этого страшного и смешного фарса.
Как падре изменился! А голос у него все-таки тот же: такой, каким он произносил… когда-то «дорогой»…
На другом конце улицы показался фонарь ночного сторожа, и Овод свернул в какой-то узкий извилистый переулок. Он сделал несколько шагов и вдруг очутился на соборной площади у левого крыла епископского дворца. Площадь была залита лунным светом и совершенно пуста, но Овод заметил, что боковая дверь собора приотворена. Должно быть, пономарь забыл закрыть ее. Ничего ведь не могло происходить в церкви в такой поздний час. Почему бы не войти туда и не выспаться на одной из скамеек? Это куда лучше, чем возвращаться в зловонную ригу. А утром он осторожно прокрадется на площадь, прежде чем придет пономарь. Да если даже его там и найдут, то, наверное, подумают, что безумный Диего молился где-нибудь в углу и что его не заметили, когда запирали церковь.
С минуту он стоял у двери, прислушиваясь, потом вошел неслышной походкой, какой он умел ходить, несмотря на свою хромую ногу. Лунный свет вливался в окна и ложился широкими полосами на мраморный пол. Особенно ярко освещен был алтарь, и все было видно там как днем. У подножия престола стоял на коленях кардинал Монтанелли, один, с обнаженной головой и сложенными на молитву руками.
Овод отодвинулся в тень. Не уйти ли, пока Монтанелли его не увидал? Это будет, несомненно, самым благоразумным, а может быть, и самым милосердным, что он может сделать. А между тем это так ведь безобидно: подойти и посмотреть в лицо падре еще один раз; теперь вокруг них нет толпы, и незачем, значит, продолжать разыгрывать безобразную комедию, начатую утром. Никогда больше не удастся ему, быть может, увидеть падре! Падре незачем его видеть, конечно. Он незаметно проскользнет мимо и посмотрит только один раз. А потом вернется к своей работе.
Держась в тени колонн, он осторожно проскользнул до решетки алтаря и остановился на мгновение у бокового входа рядом с престолом. Тень, падавшая от епископского трона, была достаточна широка, чтобы спрятать его, и, затаив дыхание, он прокрался в темноте дальше.
– Мой бедный мальчик! О господи! Мой бедный мальчик!
В этом прерывистом шепоте слышалось столько бесконечного отчаяния, что Овод невольно вздрогнул. Потом послышались глубокие, тяжелые рыдания без слез, и он увидел, что Монтанелли стал ломать руки, как человек, изнемогающий от физической боли.
Он не знал, что падре так страдает. Не раз говорил он себе с горькой уверенностью: «Не стоит беспокоиться об этом. Его рана давно уже зажила». И вот, после стольких долгих лет, он увидел эту рану обнаженной и все еще сочащейся кровью. Как легко было бы вылечить ее теперь! Стоит только поднять руку и сказать: «Падре, это я!»
А у Джеммы тоже седая прядь волос. О, если бы он мог простить! Если бы только он мог изгладить из памяти прошлое, так глубоко врезавшееся в нее, – пьяного матроса, сахарную плантацию и бродячий цирк! О, никакое другое страдание не может сравниться с этим: желать простить, стремиться простить и знать, что это желание безнадежно, что он не может и не смеет простить.
Монтанелли встал наконец, перекрестился и отошел от престола. Овод отступил еще дальше в тень, дрожа от страха, что кардинал может увидеть, что биение его собственного сердца может выдать его. Потом он вздохнул с облегчением: Монтанелли прошел мимо него так близко, что лиловое кардинальское облачение слегка задело его щеку, и все-таки не заметил его.
…Не увидел… О, что он сделал! Что он сделал! Это была последняя его возможность – воспользоваться коротким драгоценным мгновением, и он дал ему улететь. Он вскочил и вышел вперед в освещенное пространство.
– Падре!
Звук его собственного голоса, раздавшегося и медленно замершего под сводами, наполнил его каким-то мистическим ужасом. Он снова отступил в тень. Монтанелли остановился у колонны и слушал, стоя неподвижно, с широко открытыми, полными смертельного ужаса глазами. Как долго длилось это молчание, Овод не мог бы сказать. Может быть, это было лишь мгновение, а может быть, целая вечность. Вдруг он опомнился. Монтанелли начал покачиваться, как будто собираясь упасть, и губы его двигались, хотя не произносили ни слова.
– Артур, – раздался наконец тихий шепот. – Да, вода глубока.
Овод выступил вперед.
– Простите мне, ваше преосвященство, я думал, что это кто-нибудь из здешних священников.
– А, это вы, паломник? – Самообладание вернулось наконец к Монтанелли, но по мерцающему блеску сапфира на его руке Овод видел, что он все еще дрожит. – Не нуждаетесь ли вы в чем-либо, друг мой? Уж поздно, а собор на ночь запирается.
– Простите, ваше преосвященство, если я поступил нехорошо. Я увидел, что дверь открыта, и зашел помолиться. Тут я заметил священника, погруженного в молитву и размышление, как мне показалось, и я решил подождать, чтобы попросить его благословить вот это.
Он показал маленький оловянный крестик, купленный им утром у Доминикино. Монтанелли взял крестик у него из рук и, войдя в алтарь, положил на минуту на престол.
– Возьми, сын мой, – сказал он, – и да успокоится душа твоя, ибо Господь наш кроток и милосерд. Иди в Рим и испроси себе там благословение Его служителя, святого отца. Мир да будет с тобой!
Овод наклонил голову, чтобы принять благословение, потом медленно направился к выходу.
– Слушай, – вдруг сказал Монтанелли. Он стоял, держась одной рукой за решетку алтаря. – Когда ты получишь в Риме Святое причастие, – сказал он, – помолись за того, чье сердце полно глубокой скорби и на чью душу тяжело легла десница Господня.
В голосе кардинала Оводу почудились слезы, и решимость его поколебалась. Еще мгновение, и он изменил бы себе. Но картина бродячего цирка всплыла в его памяти.
– Но достоин ли я, чтобы Господь услышал мои молитвы? Если бы я мог, как ваше преосвященство, принести к престолу Его дар святой жизни, души незапятнанной и не страдающей ни от какого тайного позора…
Резким движением Монтанелли отвернулся.
– Я могу принести к престолу Господню лишь одно, – сказал он, – свое разбитое сердце.
Через несколько дней Овод вернулся во Флоренцию дилижансом из Пистойи. Он пошел прежде всего на квартиру Джеммы, но не застал ее дома. Поручив передать, что зайдет на другой день утром, он направился домой. «На этот раз, – подумал он, – Зитта, вероятно, не совершит нашествия на мой кабинет». Казалась невыносимой мысль, что снова придется выслушать ее ревнивые упреки, терзавшие его нервы, как жужжание бормашины у зубного врача.
– Добрый вечер, Бианка, – сказал он служанке, открывавшей ему дверь. – Что, мадам Ренни приходила сюда сегодня?
Она растерянно взглянула на него:
– Мадам Ренни? Да разве она вернулась?
– Что вы хотите сказать? – спросил он, изумленно приподняв брови и сразу остановившись на пороге.
– Она уехала совершенно неожиданно, сейчас же вслед за вами, и не взяв с собой никаких вещей. Даже и не сказала, что уезжает.
– Сейчас же вслед за мной? Две недели тому назад?
– Да, синьор, в тот же самый день, и вещи ее лежат здесь в полном беспорядке. Все соседи уже об этом говорят.
Он круто повернулся, ни слова не говоря, сошел со входной ступеньки и пошел вниз по аллее к дому, где жила Зитта.
Все оставалось по-старому в ее квартире, и все его подарки лежали на своих обычных местах. Нигде не было ни следа письма или хоть какой-нибудь коротенькой записки.
– Хозяин, – сказала Бианка, просовывая голову в дверь, – тут старуха одна…
Он яростно повернулся к ней:
– Что вам от меня надо? Зачем вы за мной следом идете?
– Какая-то старуха вас спрашивает.
– А ей что понадобилось? Скажите ей, что я не м-могу принять ее. Мне некогда.
– Да она, синьор, приходит чуть не каждый вечер с тех пор, как вы уехали. И все спрашивает, когда вы вернетесь.
– Спросите у нее, что ей нужно. Впрочем, нет, я лучше сам пойду.
Старуха ожидала его у входа в прихожую. Она была очень бедно одета; лицо у нее было смуглое и все в морщинах, как сморчок. Голова была обмотана пестрым шарфом самых ярких цветов. Когда Овод вошел, она поднялась и взглянула на него блестящими черными глазами.
– Так это вы и есть хромой господин? – сказала она, критически разглядывая его с головы до ног. – Я пришла к вам с поручением от Зитты Ренни.
Он открыл дверь кабинета, пропустил старуху вперед, вошел вслед за ней и захлопнул дверь, чтобы Бианка не услышала их разговора.
– Садитесь, пожалуйста. А т-теперь скажите мне, кто вы?
– Это не ваше дело, кто я такая. Я пришла сказать вам, что Зитта Ренни ушла от вас с моим сыном.
– С… вашим… сыном?
– Да, хозяин, коли вы не умели удержать свою возлюбленную, то нечего жаловаться, что другие ее у вас отбили. У моего сына течет в жилах кровь, а не молоко с водой. Он сын романского племени.
– Так ты цыганка? Зитта вернулась, значит, к своему народу?
Она взглянула на него с презрительным изумлением: у этих христиан не хватает, видно, мужества даже на то, чтобы рассердиться, когда их оскорбляют.
– Да уж не оставаться же ей с вами! Не из той вы глины сделаны! Наши женщины иногда отдают себя – из девичьего ли каприза или из-за денег. Но романская кровь в конце концов возвращает их к романскому племени.
Лицо Овода оставалось холодным и спокойным.
– Она ушла со всем цыганским табором или только с вашим сыном?
Женщина расхохоталась:
– Уж не думаете ли вы пойти за ней и попытаться вернуть ее назад? Слишком поздно! Нужно было раньше думать.
– Нет, я просто хочу знать всю правду, если только вы мне ее скажете.
Она пожала плечами. Не стоило и бранить человека, который так кротко принимал ее брань.
– Ну, так вот вам правда: она встретила моего сына на большой дороге в тот день, когда вы бросили ее, и заговорила с ним на нашем наречии. Когда он увидал, что она, несмотря на свою роскошную одежду, тоже дитя нашего племени, он влюбился в ее прелестное лицо. Влюбился, как влюбляются наши мужчины, и привел ее в наш стан. А она, бедная девочка, рассказала нам про все свои невзгоды и плакала и рыдала так, что сердце разрывалось от жалости. Мы утешали ее, как могли, и наконец она сняла свое богатое платье, оделась, как одеваются наши девушки, и согласилась жить с моим сыном, как жена с мужем. Он не будет говорить ей: «я не люблю вас» и «я занят другим». Когда женщина молода, ей нужен мужчина, а что же вы за мужчина? Вы не умеете даже расцеловать красивую девушку, когда она обнимает вас!
– Вы сказали, – прервал ее Овод, – что пришли ко мне с поручением от нее.
– Да, я нарочно осталась, когда табор ушел, чтобы передать вам ее слова. Она поручила мне сказать, что ей надоели образованные господа, у которых кровь течет в жилах так медленно и которые так любят спорить о выеденном яйце, и что она возвращается к своему народу и к его свободной жизни. «Передайте ему, – сказала она, – что я женщина, что я любила его, и поэтому-то я и не хотела оставаться его наложницей». Она правильно поступила, что ушла. Пусть наши девушки зарабатывают деньги своей красотой. В этом худа нет: для этого существует красота. Но романская женщина не может любить человека вашего племени.
Овод встал.
– Это все, что она велела передать мне? – спросил он. – Скажите же ей, что я ее поступок одобряю и надеюсь, что она будет счастлива. Вот все, что я хочу ей сказать. Доброй ночи!
Он стоял не шевелясь, пока садовая калитка не захлопнулась за старухой. Тогда он опустился в кресло и закрыл лицо руками.
Еще одна пощечина! Неужели ему не оставят хоть ничтожного обрывка былой гордости, былого самоуважения? Ведь он перенес уже все страдания, какие только может вынести человеческое существо. Сокровеннейшую часть его сердца бросили в грязь, а прохожие топтали ее ногами. Не было уголка в его душе, не заклейменного чьим-нибудь презрением, не изборожденного страшными следами чьего-нибудь издевательства.
А теперь и эта цыганка, которую он подобрал на большой дороге, взяла в руки бич, чтобы нанести ему новый удар.
У двери раздался жалобный визг Шайтана, и Овод поднялся, чтобы впустить его. Собака бросилась к хозяину со своим всегдашним неистовым восторгом, но сразу поняла что-то неладное и смирно улеглась на ковре у его ног, прижавшись холодным носом к его равнодушной руке.
Час спустя к наружной двери подошла Джемма. Она позвонила, но никто не ответил на ее звонок. Бианка, видя, что Овод не собирается обедать, ушла навестить соседнюю кухарку. Она не заперла двери и оставила слабый свет в прихожей. Джемма подождала минуту-другую, потом решилась войти и попытаться разыскать хозяина: ей нужно было поговорить с ним о важных новостях, только что полученных ею от Бейли.
Она постучала в дверь кабинета и услышала голос Овода:
– Вы можете идти со двора, Бианка. Мне ничего не нужно.
Она осторожно приоткрыла дверь. В комнате было темно, но лампа, стоявшая в коридоре, бросала поперек комнаты длинную полосу света. Она увидела Овода. Он сидел одиноко, свесив голову на грудь; у ног его лежала, свернувшись, спящая собака.
– Это я, – сказала Джемма.
Он быстро вскочил.
– Джемма, Джемма! О, я так хотел вас видеть!
И прежде чем она успела вымолвить слово, он стоял на коленях у ног ее, спрятав лицо свое в складках ее платья. Все тело его трепетало в конвульсивной дрожи, которая была страшнее слез…
Молча, без движения стояла Джемма. Она ведь ничем не могла помочь ему, ничем! Это было самое страшное. Она должна безучастно стоять рядом с ним, пассивно глядя на его горе… А между тем с какой радостью умерла бы она, чтобы избавить его от страданий! О, если бы она смела склониться к нему, обнять его, прижать к своему сердцу, чтобы защитить его, хотя бы и собственным телом, от всех новых, еще грозящих ему впереди невзгод! Да, тогда он стал бы для нее снова Артуром, и яркий свет разогнал бы все страшные тени ее жизни.

