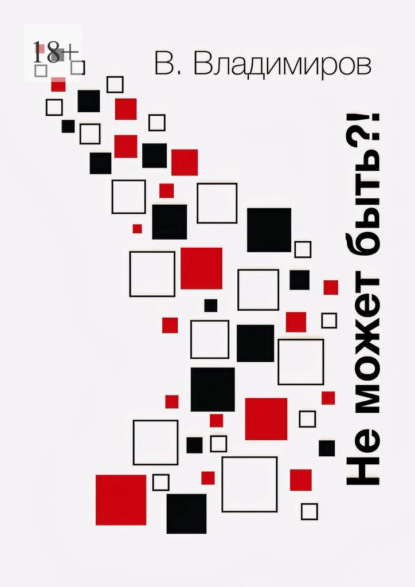
Полная версия:
Не может быть?! Рассказы
Но деньги так и не пришли. 10 рублей в то время были суммой изрядной, и их потеря пробила большую брешь в нашем бюджете.
Ко дню отъезда у нас оставалось денег только на электричку до Баку, и на автобус в Москве из аэропорта. Купить воды – и то не на что! А при такой жаре вода – это не роскошь вовсе.
Сели мы на полустанке Кизил-Бурун в ту же самую фанерную электричку, на которой ехали сюда. Станция Кизил-Бурун была вовсе не станцией, как в Москве, и даже не платформой, а просто остановкой в пустынной местности, где пассажиры взбирались по металлическим приступкам в вагон. Никаких строений вообще, тем более кассы, на этом полустанке не имелось.
Но – бесплатно пассажиров при социализме не возили, а до коммунизма не дожили. Поэтому на следующей станции была касса, и электричка специально делала длинную остановку, чтобы пассажиры, севшие в Кизил-Буруне, могли выйти, купить билет и заскочить снова в поезд, который и ходил-то раза три в сутки, так что опоздавший, хотя и обилеченный пассажир, следующего поезда дожидался долго.
Пока мы ехали до этой станции, было принято коллективное решение денег на билет не тратить, а ехать зайцами. Принято оно было не сразу, а после небольшой горячей дискуссии, и не консенсусно – Серёжа Печёнкин был против, мы с Лёней воздержались, а горячо за экономию был Михалыч, который убедительно мотивировал, что покупать билеты – бесполезное транжирство, контроля всё равно нет, сюда же ехали – только деньги зря на билеты потратили! А сэкономив на билетах, мы можем и воды купить, и даже поесть в аэропорту – не натощак же лететь!
В общем, выходить за билетами мы не стали, а обливались потом и глядя в окно с отсутствующим стеклом на коричневую каменистую пустыню за окном, поехали дальше.
Ехать с редкими остановками было ещё часа полтора. И тут по электричке пошёл контроль.
Поездные контролёры в Азербайджане принадлежат к местной элите. Должность эта явно была денежная. По вагонам, начиная с первого, очень неспешно и вальяжно шли два пузатых мужика, одетых в аккуратную серую железнодорожную форму.
Пот тек по их дородным красным лицам, но тёк как-то солидно, основательно, не то что у рядового и непривилегированного гражданина. Контролёры передвигались неспешно не только из-за страшной духоты в вагоне, но и потому что прекрасно знали – никто из «зайцев» никуда не денется. До следующей остановки минут двадцать хода.
Первым контролёров заметил Михалыч, который вышел в тамбур покурить.
– Атас! Контролёры! – подбежал он к нашей лавке. Мы вскочили, и похватали с полок вещи. У каждого по рюкзаку и по две бараньи шкуры, которые нам подарил Шихмамед. Ценная вещь – в Москве из неё что-нибудь можно сделать. Правда, непонятно что, но шкуры мы тоже оставлять не стали. Со всем этим скарбом мы двинулись отступать по вагонам. Контролёры проходят в очередной вагон – а мы уже в следующем. Мы видим в проходе их лица, и как они без спешки собирают деньги с безбилетников.
Контролёры, конечно же, видели нас, но даже не ускорили шаг. Гнаться за зайцами – ниже их достоинства. Такие солидные люди не бегают. Зайцы сами к ним идут. Проблема в том, что денег на штрафы у нас не было. Максимум, и, впрочем и минимум, что нам могли сделать – это высадить на следующей станции. Но для нас это было катастрофой – следующая электричка через несколько часов, так что мы в этом случае гарантированно опаздывали на самолёт в Москву.
Отступая, мы надеялись на единственный шанс – остановку. Если поезд остановится, мы сможем выскочить и перебежать в передние вагоны уже проверенные контролёрами. Но остановки всё нет, нет, нет. И вот мы отступаем в последний вагон. Проходим его насквозь под сочувствующими взглядами понимающих ситуацию пассажиров. Контролёры всё так же вальяжно входят в вагон, и неспешно проверяют билеты. Мы передвигаемся в тамбур. Дальше отступать некуда. За пустым проёмом заднего окна – постепенно уходящие вдаль рельсы, перечёркнутые шпалами.
А поезд не собирается останавливаться. Он просто сбавил ход. Этот поезд вообще был крайне медленным. И сам локомотив был древним, и особенно путь – похоже, как его ещё построили при царизме, так к нему никто больше не притрагивался.
Мы обречённо смотрели на проплывающий за пустым проёмом окна унылый пейзаж – бурую землю, покрытую трещинами, нефтяными насосами и усыпанную бурыми камнями и фиолетовое небо, зло нависающее над ними. На Марсе, наверное, и то уютнее! И этот пейзаж становился всё более унылым по мере того, как жирные потные контролёры хищно приближались к нам. Страшная жара и духота в поезде на них действовала особенно тягостно. Тучные люди вообще хуже переносят жару – слой жира уменьшает теплообмен, а им ещё приходилось двигаться и собачиться с безбилетниками, и мусолить в жирных пальцах купюры и мелочь. Может, и движения не до конца уснувшей совести тоже приводили к выделению внутренней энергии. Поэтому они сейчас выглядели значительно менее бодрыми, чем в момент встречи – тогда это были розовые весёлые поросята, а сейчас – пожилые с обильно текущим по круглыми лицам потом обрюзгшие мужики на грани апоплексического удара.
А пейзаж за окном проплывал медленно. Очень медленно, как бы растягивая время, так медленно, что казалось, что поезду тоже невыносимо жарко и он устал, очень устал и не очень-то хочет ехать. Сквозь окно было видно, что грязно-зелёная линия вагонов изогнулась и движется по большой дуге. Путь здесь, видно, был особенно разболтан, потому что поезд ещё и ещё сбавлял ход.
Мы стояли в тамбуре, у каждого за спиной рюкзак, и по завязанной в узел белой бараньей шкуре в каждой руке. Своё не бросаем! И вдруг мы, не сговариваясь, открываем фанерную дверь электрички и один за другим выпрыгиваем на бурую землю и бежим, пытаясь обогнать электричку, чтобы вскочить в один из передних вагонов, уже проверенных контролёрами. Это наш единственный шанс. Электричка идёт чуть медленнее, чем мы, к тому же по длинной дуге. А мы можем срезать. Есть риск, что она наберёт ход, а мы останемся в пустыне. Есть риск сломать ноги, потому что нам всё время приходится перепрыгивать через валяющиеся повсюду булыжники. Шкуры мешают бежать! Но мы не бросаем шкур! Михалыч – могучий, но коротконогий, начинает отставать и повизгивает.
Вот так, вприпрыжку между камнями, по потрескавшейся от жары земле, под лучами обжигающего солнца и под сочувствующими взглядами пассажиров электрички, болеющими за нас, мы бежим! Нам надо обогнать, надо попасть в первые вагоны, тогда есть шанс успеть добраться до аэропорта. А электричка-то чуть прибавляет ход, и у нас появляется реальный шанс вообще остаться в этой пустыне, то замедляется, и акции шансы начинают стремительно расти.
Но усилия и льющийся пот не проходят даром. Мы начинаем отыгрывать расстояние минута за минутой. Вот мы уже на уровне середины состава, вот уже бегущие первыми Лёня и я уже у второго вагона. Вполне достаточно, можно открывать дверь и запрыгивать в тамбур. Дальше рисковать смысла нет, к тому же бегущие за нами ребята начинают сдавать, и у них уже не получается обгонять поезд – и постепенно гонка начинает склоняться не в их пользу.
Мы открываем дверь, закидываем шкуры на грязный пол тамбура, хватаемся за перила и впрыгиваем в вагон. Кричим отставшему Михалычу, чтобы он прибавил, и он нечеловеческим усилием достигает тамбура и точно запрыгивает в дверной проём. Гимнаст. Мастер спорта.
Адреналин такой, что усталости мы не чувствуем. Заходим в полупустой вагон и занимаем свободные скамейки. Чувствуем молчаливое одобрение пассажиров. Контролёры, которые, конечно же видели наш кросс по пустыне, в головные вагоны не пошли – по такой жаре им этого совершенно не хотелось. К тому же они прекрасно понимали, что взять с нас нечего совершенно, а просто прилагать усилия, чтобы ссадить с поезда, им в ломы! Так что мы прекрасно доехали до города Баку. А после и до аэропорта.
Там мы купили бутерброды и поделили оставшиеся деньги – монеты, потому что рублей не осталось – на всех в строгом соответствии со стоимостью проезда в Москве от аэропорта до дома. Я получил два пятака – один на автобус Внуково – метро Юго-Западная, второй – на метро. От метро мне надо было ещё пилить на трамвае минут пятнадцать, но три копейки сочли напрасной роскошью, дойду и пешком. Кому надо на электричку – получили чуть больше. Всё по-честному.
А на оставшиеся деньги мы купили в аэропортовском киоске две бутылки теплой минералки. И разделили на всех.
Коля Киряев
Наш институт был на острие научно-технического прогресса. Предметом особой гордости был первый в СССР автоматический буфет. Создан он был большим трудом специалистов факультета автоматики. Это было чудо прогресса! Поесть там можно очень быстро, можно сказать, моментально. Никаких очередей. По стенам большого зала без окон – расположен он был в подвале, стояли сверкающие полированной сталью и стеклом автоматические машины, предлагающие за 10 копеек бутерброд, а за 20 – два. А рядом за гривенник такие же роботы разливали по бумажным стаканчикам сладкий кофе с молоком.
Очень удобно. Даже за двадцатиминутную перемену перекусить успеваешь! А за большой, часовой перерыв не спеша покайфовать можно.
Что я и собирался сделать, имея тридцать копеек кэша. Двумя монетами в 20 и 10 копеек. В буфете народ не толпился. Там всё было рассчитано на максимальную проходимость, быстро пришёл, быстро взял, быстро съел, быстро ушёл. Поэтому сидячих мест не было, только ряды узких стоек, возле которых ютились с двух сторон.
Подхожу я к автоматам, что бутерброды продают – и вижу, в одном из стеклянных окошек мой любимый вариант – пара бутербродов, один с докторской колбасой, второй – с варёно-копчёной. Слюнки текут! И всё это великолепие за двугривенный! Достаю монету и только приготовился засунуть её в щелку приёма денег, как вдруг у меня из-под руки, как чёрт из табакерки, выскользнул Коля Киряев.
– Ты что делаешь? – озабоченно и хлопотливо выговорил он.
– Я, Коля, хочу бутерброды купить, как видишь! – произнёс я. Как будто тут чем-то ещё заниматься можно!
– Давай монету! – быстро проговорил Коля.
Я был немало удивлён, но монету в Колину шуструю ручонку вложил. Что он с ней будет делать, интересно?
Коля занял удобную позицию перед автоматом, изготовился, как спортсмен, собирающийся перед стартом, потом всё происходило настолько быстро, что я с трудом улавливал полёт Колиных рук. Он опустил монету в щелку и мгновенно открыл два окошка с бутербродами. Это стоило 40 копеек и было невозможно теоретически – электронное устройство, разработанное в лаборатории автоматики, мгновенно запирало одну из дверец. Но Коля умудрился его опередить. Придерживая большими пальцами стеклянные дверцы, он выгреб четыре бутерброда на пластиковый поднос, затем, не опуская створок, проник ловкими пальцами куда-то в чрево машины, что-то там придержал, и локтём правой руки нажал на кнопку «Возврат денег». Двугривенный со звуком выпал из машины.
Коля отпустил створки и новые четыре бутерброда опустились из подающего устройства. Коля заправил снова в автомат изъятую из него монету и вновь повторил тот же трюк. Бутербродов теперь было восемь. Он провернул мероприятие ещё раз, горка бутербродов была внушительная. Автомат звякнул, монета вернулась и оказалась в Колиной руке.
– На! – проговорил он, возвращая мне двугривенный, и мгновенно исчез, растворившись в пространстве.
Колина ловкость могла составить конкуренцию театральным фокусникам.
Другой объект институтского общепита – обычная столовая с комплексными обедами. Там было три варианта – 30 копеек – суперэконом, 40 – средний класс, и 50 – высший уровень. Тут был конвейер. Сначала касса, там пробивали чек, исходя из аппетита и наличия кэша. Потом шли вдоль длинного прилавка, где набирали на поднос продукты в соответствии с чеком, и в конце этого конвейера сидела дама – контролёр, которая проверяла соответствие набранных продуктов оплаченному чеку. Перед ней стояла доска с тремя пиками – по 30, 40 и 50 копеек – на которые надо было наколоть чек.
У Коли чек всегда был на 50. Когда он подходил к пикам, он честно показывал даме чек, потом рука с чеком летела к пике за 50, делала движение, для того, чтобы наколоть чек, но тот почему-то всегда оказывался в Колином рукаве, а не на пике. При этом контролёр ничего не успевала заметить. Чек у Коли был «проездным», как месячный билет в метро. Он его менял на новый крайне редко – только когда чек от постоянного употребления и ношения в карманах Колиного пиджака становился мятым и засаленным, и его просто было уже неприлично показывать контролёру.
Однако в учёбе Коля силён не был. Был он двоечником, за счёт бесконечной хитрости своей перебивающимся с двоек на тройки. Но был предмет, в котором Коля был особенно слаб. Немецкий язык. По иностранным языкам в группе вообще никто не блистал, в обычных, не языковых школах, преподавали его через пень-колоду. В институте забывали остальное за ненадобностью. Однако в расписании он был, хоть и по минимуму, и сдавать его нужно было.
Сказать, что Коля в немецком, был ноль – это слабо. Он был минус. Казалось, вся его ненависть к фашизму выразилась в том, что от него немецкий отскакивал, как от стенки горох.
Однако, на втором курсе подкатил экзамен по немецкому. Сдавать его, для пущей объективности, должны были не преподавателям, у которых и душа, и сострадание, а безжалостному и бессердечному автомату с названием, от которого ощущалось, как иголки впиваются в мягкую и нежную плоть – КАКТУС. Всё с больших букв. Кабинет Автоматического Контроля Текущей Успеваемости Студентов. Вот так то!
Колючая штука представляла класс, где вместо столов стояли большие серые ящики с экраном и пятью кнопками на передней панели. Экзаменатор давал студенту лист с вопросами и перфокарту, которую он должен был вложить в прорезь на ящике.
Двадцать вопросов – по пять вариантов ответов на каждый. Правильный – один из них. Надо двадцать раз нажать на одну из пяти кнопок, а, чтобы студент свои результаты видел – при каждом нажатии загорается сверху лампочка – зелёная – правильно, красная – пролёт. Шкала оценок жёсткая. Две ошибки и меньше – пять. Четыре ошибки – четыре балла, шесть – три. Если больше – не сдал, два балла.
КАКТУСа боялись все. Даже отличники. Запросто можно было и на три балла налететь, и даже пару получить. Язык знали слабо. У Коли это усугублялось ещё и тем, что он в школе в маленьком городе учился, язык там, можно сказать, не проходили даже мимо.
Начался экзамен. Машин 10, нас – человек 50. Первые сдают, остальные ждут. Сначала решили рискнуть те, кто посильнее, поувереннее. Получили вопросы, сидят перед экранами – подолгу думают, прежде чем кнопку нажать. Загораются лампочки. Много красных. Мало кто из отличников даже на четыре балла на нажимал. Вторая смена. За одну из машин садится Коля. Бегло просматривает вопросы и жмёт кнопку. Зелёный. Угадал. Почти не задумываясь, жмёт ответ на второй вопрос. Зелёный! Бывает. Можно и два раза подряд угадать. Повезло. На третий он тоже правильно ответил, и на четвёртый, и так быстро, почти не задумываясь. Пятый, шестой… одиннадцатый. Только зелёная лампочка загорается, красная – ни разу!
Девятнадцатый, двадцатый! Из двадцати – двадцать! И – быстрее всех. Никто в его заходе ещё не отстрелялся, до половины доползли только. Коля сдаёт экзаменатору листок с вопросами и перфокарту, получает в зачётку заслуженные «отлично» и быстро уходит. Коля всегда суетился, спешил куда-то.
На освободившееся место за прибором садится Лёня Воробьёв. Думает над каждым вопросом подолгу, но отвечает чётко, без ошибок – из двадцати – двадцать. Пять баллов. Лучше – ни у кого и близко нет, меньше двух ошибок никто не сделал.
После Лёни садится Миша Брычихин. Посильнее Коли в языке, но тоже не корифей. Но начинает испытание очень успешно – первые десять вопросов – стопроцентный результат!
И тут вдруг срывается с места сонно сидевший лаборант. Он специально в этом классе присутствовал – отвечал за исправность этих сложных и умных агрегатов. Лаборант подбежал к Мишиному прибору и начал отвёрткой заднюю стенку у него откручивать. Окрутив, он заглянул туда, и закричал яростно и пронзительно:
– Где этот Киряев? Где он?
Но Колин след уже давно остывал в бесконечных коридорах нашей альма-матер.
Потом лаборант, вооружившись ножом, долго скоблил что-то в приборе, вытаскивая из него комочки чёрного пластилина…
Коля мне потом, как большому другу и по секрету выдал тайну КАКТУСа.
Машина-то, оказывается, была нехитрая. Там лист с вопросами и перфокарта друг другу соответствовали. На перфокарте в нужном месте пробиты отверстия были, а электронный луч их считывал и сличал с правильными. Но – если фотоэлемент у этого высокотехнологичного устройства заглушить – можно на любую кнопку жать, для прибора всё «правильно» будет.
Коля про это узнал. И ещё он узнал, где в приборе этот фотоэлемент расположен, умудрился безо всяких инструментов стенку корпуса отжать, но пальцем закрывать оптику было и неудобно и заметно, поэтому Коля её пластилином залепил. Только вот отодрать не смог – слишком крепко приклеился. Но зато Лёня тоже «пять» по немецкому получил!
Пересдача
Староста нашей группы Коля Киряев – человек уникальный! Большего хитреца и проходимца не рождалось на Земле, по крайней мере, во второй половине двадцатого века. Коля мог на хромой козе объехать любого, за счёт чего он и избегал неминуемого отчисления за хроническую неуспеваемость.
А все предпосылки для отчисления из института у Коли имелись – он был глуп, и был злостным прогульщиком. Каждый из этих факторов в одиночку не фатален. Но вместе они – гарантировали стопроцентное отчисление. Спасали Колю хитрость и изворотливость. Даже по внешнему виду можно было уверенно сказать, Коля – плут. Растрёпанная шевелюра и постоянно бегающие, в поисках возможности как-нибудь проскочить, глаза – выдавали. Да Коля и не скрывал этого. Плутом он был искренним и убеждённым.
На каждой сессии Коля схватывал по паре двоек. Иногда и три. Три за сессию – это отчисление. Но Коля успевал всегда пересдать вторую до того, как получит третью. И проскакивал. К страшному разочарованию нашего начальника курса Николая Викторовича, который ненавидел Колю всеми фибрами души бывшего отличника, и мечтал от него избавиться, но по формальным признакам сделать ничего не мог – не хватало одной двойки!
Мечта его сбылась на весенней сессии второго курса. Коля отгрёб три двойки. Пересдать ни одну из них он не успел. Значит – отчисление.
Коля пришёл в деканат, где перед солидной дверью в кабинет декана был предбанник, где стояли пять столов начальников курсов с первого по пятый. Николай Викторович важно восседал за столом. Экзаменационные ведомости уже пришли, и начкурса прекрасно знал про три Колины двойки. Он был так счастлив, что Коля попался, что решил продемонстрировать даже как бы сочувствие к Николаю.
– Ну, что, Коля! – начал он с мнимым, но демонстративным сочувствием. – Третья двойка!
– Да, Николай Викторович! – понуро и печально протянул староста. Об отношении к нему начкурса он прекрасно знал. – Придётся мне пойти на производство…
– Ну, Коля, ты не расстраивайся! – сладко пропел начкурса, немного даже размякший и подобревший от возможности наконец-то пнуть Коле под зад. – Ты, Коля, годик сходи поработай, подтянешь знания, и приходи к нам – мы тебя восстановим!
Начальник курса откровенно врал, при этом ничем не рискуя – вряд ли Коля за год повысит уровень скромных своих познаний настолько, чтобы восстановиться. Но, даже если он и чудом вернётся в альма-матер, откуда его сейчас изгоняет как шелудивого кота начальник курса, к тому уж он точно не попадёт, поскольку учиться сможет только с потерей курса – то есть с ним будет маяться другой куратор.
– Да, Николай Викторович, Вы правы, поработаю год, позанимаюсь и вернусь, спасибо Вам большое!
– Возвращайся, Коля, возвращайся! Ты парень энергичный, всё в твоих руках! – радостно заключил начкурса. – А теперь иди, мне тут поработать надо.
И Коля, понурясь, в глубочайшем, как могло показаться не слишком проницательному глазу, трауре, открыл дверь деканата и вышел в коридор. А Николай Викторович разложил на столе бумаги и принялся готовить документы на отчисление Коли. Душа у него тихо пела.
А Коля, выйдя из деканата, ушёл совсем недалеко – на противоположную сторону коридора, где прямо напротив деканата был мужской туалет, где Коля и спрятался, и стал через щелку в двери следить за выходящими из деканата.
А время между тем подходило к обеду. И вскоре Коля увидел, как из деканата вышел начкурса и двинулся по коридору. Коля осторожно проследил за ним и, убедившись, что он встал в очередь в институтской столовой, метнулся в деканат. Пробежав через комнату кураторов, он решительно постучал в солидную дубовую дверь с медной табличкой «Декан факультета профессор Ю. П. Клишин».
Не дожидаясь ответа, Коля решительно вошёл в кабинет. Декан – большой учёный и крупный представительный мужчина, сидел за огромным столом, работал с документами. Он медленно поднял благородную голову и взглянул на Колю. Коля был всё-таки старостой группы, а не обычным студентом, поэтому декан знал его лично.
– Чего тебе, Николай? – с доброй снисходительностью крупный учёный спросил студента-второкурсника.
– Юрий Петрович! – быстро и жалобно заговорил Коля. – Я на пересдачу договорился, начальник курса допуск обещал дать, но он куда-то ушёл, а преподаватель на кафедре ждёт, уйдёт скоро, не знаю, что мне делать! – Коля подпустил в голосе слезу.
– Какие проблемы, Коля, я сейчас допуск выпишу! – и декан, взяв бланк, заполнил его, и протянул Коле. – Удачи! – и погрузился в свои бумаги.
Декан, как высший руководитель факультета, имел право выдать студенту такую мелочь, как допуск.
Проблема была в том, что никто Колю на кафедре с этим допуском не ждал. Но надо было знать Колю. Он с бумажкой декана прибежал на кафедру и, сетуя на тяжёлую судьбу и ссылаясь на пролетарское происхождение – он набирался с рабфака – то есть по направлению с производства, чудом уговорил какого-то сердобольного преподавателя авансом поставить ему тройку.
Всё это заняло у Коли меньше времени, чем у Николая Викторовича – отстоять очередь и не спеша съесть биточки с картофельным пюре. Когда он, вытирая салфеткой уголки губ, подходил к деканату, у двери его уже ждал Коля с листочком в руке.
– Ты что здесь, Киряев? – удивлённо спросил начкурса.
– Допуск принёс! – скромно произнёс Коля.
– Какой допуск?
– Вот, экзамен сдал! – и Коля протянул куратору листок.
Начкурса рукой, которая начинала дрожать, схватил листок и начал читать скачущие по нему буквы.
– «Удовлетворительно», – прочел он и завопил. – Кто тебе допуск дал?
– Декан! – очень спокойно ответил староста.
Точно, на листочке стояла размашистая подпись декана.
Начкурса развернулся и кинулся с листочком в кабинет декана, забыв даже затворить дверь. Произошёл короткий диалог.
– Юрий Петрович, Вы Киряеву допуск дали?
– Дал.
– Да он же…
– А что такое, Николай, ты обещал ему допуск, он прибегает, крыльями хлопает, ты куда-то ушёл, ну я ему дал, в чём проблема?
– Проблема в том, что…, – начальник курса не договорил и горестно вышел из деканата.
Слова копились и кипели в нём. Он хотел сказать, крикнуть: «Проблема в том, что студент этот нас с Вами, Юрий Петрович, провёл как лохов последних!»
Но не мог же он сказать этого декану.
Колю отчислить было уже невозможно. Только два хвоста у него осталось. И начкурса, скрипя зубами от злости, выписывал ему допуски на пересдачу. И Коля институт кое-как закончил. И это хорошо. Специалисты разные нужны в народном хозяйстве.
Экзамен
На весенней сессии второго курса я поздно сдал зачёты, поэтому отбился от группы, и первый экзамен должен был сдавать один.
Ну один, так один. Не проблема. Предмет – теоретическая механика. Пошёл я в деканат, получил у начальника курса допуск на экзамен – маленький листок со своей фамилией и предметом, который мне сдавать следует. Осведомился, в какой аудитории этот экзамен сейчас принимают у другой группы. Аудитория Б-213. Пошёл туда. В коридоре перед аудиторией пусто. Наверное, ближе к концу экзамена пришёл, решил я. Постучал и вошёл.
Сидит группа, готовится. За столом довольно молодой симпатичный экзаменатор. Лицо его мне совершенно незнакомо, что странно, конечно, но бывает. Там у них на кафедре доцентов – как собак нерезаных. Где уж всех знать. А этот, видно, у нас ни лекции, ни семинаров не вёл. По крайней мере, тех, на которые я заходил. А заходил я нечасто, честно сказать.
– Подходите, пожалуйста, берите билет! – учтиво предложил доцент.
Подошёл, вручил зачётку, которую доцент аккуратно пристроил в конце ряда таких же синих книжек.



