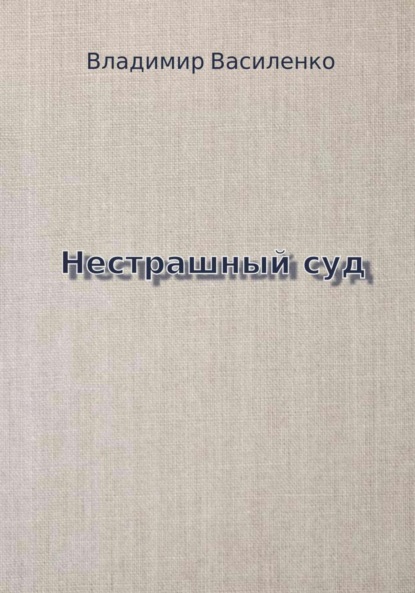
Полная версия:
Нестрашный суд
В ходе тестирования платы “Мировая душа” (“души всех слились в одну”) жесткое закрепление ее в бортовом процессоре Треплева выявило бы низкую адаптивность платы к форме. Треплев: “…дело не в старых и не в новых формах, а в том, что человек пишет, не думая ни о каких формах, пишет потому, что это свободно льется из его души”. Помимо пьесы без декораций (“Декораций никаких”), свободно льется из души Треплева любовь к Заречной (ее оценка этих обеих его свобод: “И в пьесе, по-моему, непременно должна быть любовь…”) и к матери (ее ответ: “Приживал!.. Оборвыш! Ничтожество!”). Если бы плата “Мировая душа” была фиксирована в процессоре Треплева, неудача всех трех его свобод объяснялась бы игнорированием платой формы его (то есть, своего собственного, платы) существования, заданной координатами среды: нищета (учитель), воющая собака (привязана: в амбаре просо) и ожидающая впереди немощь (дядя Треплева). Приоритет любого существования в этих координатах – форма, то есть само существование. Даже единственный сочувствующий Треплеву как автору доктор-акушер (“Только то прекрасно, что серьезно”) жаждет в произведении ясной определенной мысли и цели, то есть все той же формы, отражающей программу, сформированную бортовыми процессорами действующих лиц под влиянием окружающей нищеты, привязки к “амбару с просом” и немощи на горизонте. В этих координатах для живой души нет альтернативы стремлению к формальным гарантиям существования – к известности, к славе, к деньгам (“И бедняк может быть счастлив. – Это в теории”). В матери Треплева доводящее до нелюбви к сыну актерское тщеславие (“…я постоянно напоминаю ей, что она уже не молода”) помножено на скаредность. Писатель, которым “овладели сладкие, дивные мечты” о Заречной, уступает матери Треплева с отъездом, только когда слышит от нее: “Ты лучший из всех теперешних писателей, ты единственная надежда России…” По его же словам, в необходимости писать для денег и славы он “съедает собственную жизнь, обирает пыль с лучших своих цветов, рвет самые цветы и топчет их корни”. И он продолжает это господство формы своей жизни над ее содержанием, срывая и топча лучшие цветы беззащитного, стремящегося в актрисы существа. Существа, от невзаимности которого впадая в формальное литераторство, Треплев теряет из виду мировую душу (“Она меня не любит, я уже не могу писать… пропали все надежды…”). Сама же Заречная в своей любви к растоптавшему ее цветы писателю связь с мировой душой обретает. Именно эту связь с тем “прекрасным, что серьезно” видит, слышит Треплев в ее рыдании у себя на груди. Именно эти рыдания под признание в любви “до отчаяния” к писателю заканчивают жизнь Треплева. Невыносимо, когда не просто предпочитают тебе другого, а – рыдают от этого у тебя на груди: невыносимо знать мировую душу у себя не в груди, а на груди, невыносимо видеть, как она, мировая душа, видит свою часть рыдающей от невозможности перестать быть этой частью и через твою (свидетеля) гибель может отпустить рыдающую виновницу этой гибели на свободу – обратно в мир, где чучело чайки грезит полетом.
Вывод. Плата “Мировая душа” не фиксирована изначально в Треплеве, не связана ни с одним из действующих лиц, не закрепляется в итоге в Заречной (ради взгляда в замочную скважину погубившей Треплева, то есть отторгнутой “Мировой душой”) и является чайкой.
Рапорт на тестирование своей связи с мировой душой бортовым процессором №7 восемнадцать нулей 8 сдан»…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Очнувшись (от сна во сне), Панкратов ощутил… увидел… стоящие над своим «Рапортом о “Чайке”» чувства и чаяния Чехова, воплощенные на сцене… и радостно успокоенный этим открывшимся слоем чего-то превосходящего по силе весь имевшийся в его, Панкратова, распоряжении опыт реальности, понял, что покидает его, этот счастливо предъявленный ему истинный слой… что вновь засыпает (переходит из одного сна в другой)…
«Тебе дали. Это дар. Подарили тебе твою жизнь. Точнее ничего уже не может быть. Это – смысл», – последние образующие Панкратова слова, каким-то образом связанные с ответом на главный, если не единственный вообще вопрос: что мы знаем о любви?.. мы… вместе с автором… – последние слова оставили его, делая всё наконец действительным.
«Можно жить в одном доме в разных Вселенных…» – что это? – это обступившее, подступающее все ближе…
Происходящее – взаимодействие человеческих сущностей, в разной степени связанных со своими ангелами. Хранителями. Или с демонами. Падшие ангелы возникли в тени любви ангелов к Богу – в тени, не пробиваемой пониманием роли греха и человеческой греховности в Божественном ви́дении мира. Откуда возникла тень? Почему нарушилась связь этих ангелов с Богом? Ответ в том, что это за связь.
Связь с Богом – любовь. Стремится ли любовь ко взаимности? Да. Но в этом стремлении ко взаимности нет условия равенства. Создатель допустил грех, человеческую греховность единственно из той же связи – Божественной связи с земным.
Происходящее связано с любовью, с ее сутью. На вершине растворения своего «я» возникает противоположность любви как следствие этого самого растворения: растворяющееся «я» становится доступно яду «равенства с не-стремлением ко взаимности». Вертикаль «ложится набок»: взаимность неравных становится равенством без взаимности, ведущим к желанию превосходства, к росту самомнения в направлении собственного богоподобия, выливающегося в дела и мысли. Что касается и ангелов, и их подопечных.
Почему так? Потому что всё из ничего. С общей нулевой суммой противоположностей, образующих это всё. Всё не может превысить ничто, выйти за рамки равенства «сумма всего = ничто». Именно поэтому растворяющееся в любви «я» заполняется своей противоположностью – иллюзией своего богоподобия (вместо «я ничто, Бог всё» – «я – всё»). Иллюзия эта есть дьявол.
Любовь – стремление к вершине Творения. Ее безымянная противоположность – дьявольская бездна. Сразу там, за вершиной. На которой долго не устоять. (Речь именно о любви, а не о других причинах, по которым сходится множество пар – «Кроме него, я никому не нужна…», «Она богатая невеста…»).
Пограничье между любовью и ее безымянной противоположностью – магнит влюбленных (начиная с первого друг на друга взгляда) и художников (в широком смысле слова). К чему стремятся влюбленные и художники? Чего на самом деле хотят? Раствориться в объятии. В своем полотне. (В буквальном смысле.) Чего хочет идущий навстречу этому их стремлению дьявол? Возобладать.
Приступ взаимной любви – это взаимная готовность не быть (не взаимной – ревность ко взаимной), избавиться от себя, исчезнуть в за-любовной тайне, той, за зрачками предмета страсти, в местности, лишенной тюрьмы твоего существования (то есть в пустоте, но свято место пусто не бывает: в пустоте под чудесным обрывом маячат рога).
Дьявол – на вершине реальной любви с названием «запретная»: там, в крови у Гумберта и в мозгах Ставрогина, в Веронских и Верьерских пейзажах, в пустоте – исходной между Михаэлем Бергом и Ханной Шмиц и конечной между Анной Карениной и Вронским.
От книжной полки – на улицу: сколько пар-невидимок! Там и тут – сплошное крушение горизонтального (нашепченного душе другими), просто какой-то конвейер сбрасывания оцивилизованной кожи: вон они, валяющиеся оболочки ваших табу и идеалов! Под пьяный храп мужа и сладкий детский сон дочери в объятии молоденького наглеца, прямо здесь же, у себя дома – вот она, жизнь! Да! На столе, в кабинете под (сразу там, за полосами жалюзи) гудение рабочего улья при незапертой на ключ двери! В закутках образовательных заведений всех типов, в чуланах, кладовках больниц и торговых центров! Жизнь…
Не путать с семейной. Идеальные, полу-идеальные и просто семейные пары – всё это Коллонтай и Дыбенко, уже спустившиеся с опасных вершин в долину, побывавшие в предыдущем абзаце, вернувшиеся и связанные разнообразными заслуживающими уважение, но не смертоносными, чувствами, наоборот – поддерживая и спасая (как Коллонтай, дважды спасшая Дыбенко от смерти) друг друга. Всех их притянуло друг к другу этим жестом освобождения от навязанного самому себе существования, но освобождение – не обретение. И слава богу. Потому что там, куда они так друг сквозь друга стремились, – тот самый один шаг от любви до ненависти, преодоленный. От взаимности без равенства до равенства без взаимности. От пары на мосту в финале «Ночного портье» до Анны на краю железнодорожной платформы. Любовь до гроба имеет единственный – веронский (он же «ночной-портьерный») – формат. В остальных случаях кончается не гробом, а, большей частью, детьми – продолжателями все той же игры.
По-разному связанные со своими ангелами – это находящиеся в разных отношениях со своим, заполненным дьявольской тенью, небытием: стремящиеся к нему, стоящие на его пороге или уже пораженные его недостижимостью, другими словами – это люди с разным опытом освобождения от навязанного существования, то есть с разным вертикально-любовным опытом. Всё происходящее в обществе – горизонтальное взаимодействие этих разных людей, и причины всего происходящего – в различии человеческих вертикалей (попросту: душ).
Ангел – хранитель человеческой души, человеческой сути, вылепленной из чего-то эфемерного, подобного квантовой неопределенности… вылепленной и не разорвавшей связи с этой эфемерностью… поднявшись в которую по этой сохраненной связи как по канату, можно, проникнув в связь чужую, спуститься по ней в сущность другого человека… Увидеть реальность его глазами, ощутить ее его чувствами, оживить себя его действиями… Какого другого? Того, с кем тесно сошелся на Земле, о ком много думал, и именно поэтому там, в неопределенности, можешь узнать, отыскать ее связь с его сутью, с его сознанием. А отыскав, можешь этой связью воспользоваться. Как воспользовался полковник для записи линии мысли по разгадке головоломки с мостом.
О ком ты думаешь в эти последние дни? Об авторе головоломки, том, что «на Московском»? О рыжем ее исполнителе? О которых ты теперь узнал практически всё что нужно знать… Или о том, о ком не знаешь почти ничего? О том, кто все эти дни водил на поводке твое воображение? Не можешь смириться с оживленным тобой персонажем, из плоти и крови возвратившимся в дерево, в шпалинку головоломки? Хочешь проникнуться ощущениями неверно соединяемых деревяшек? Не веришь в разгадку? В головоломки вообще?
О нем, да?.. Ты думаешь все эти дни о нем. Ну что ж. Фото… Досье…
Странное фото. Странное досье.
Ничего странного. Фото как у голливудских юбиляров в Фейсбуке – плавно меняющееся от детского до старческого лицо.
До старческого?
Да. Таким оно будет там, дальше.
Но это уже не как в Фейсбуке.
Естественно.
И досье? Тоже: там, дальше?
Можно крутить в обе стороны. Тебе ведь нужно не всё? Что-то определенное? Год. Месяц. День.
*
Каждый день по пути на работу в тень от железнодорожного моста въезжаешь как в мысль о символе своей жизни в последние полтора года: «мост – напрямки, получасовой объезд – окольно».
Странно совпавшие полтора года назад закрытие городского моста на ремонт и…
Вот он, накрывший, проскользивший над головой мост… Впереди – получасовое ныряние и подбрасывание на колдобинах развороченной объездной дороги, не рассчитанной на нынешний грузопоток…
Объездные дороги не рассчитаны на грузопотоки, растерзывающие, распластывающие их, превращающие в одно название. То ли дело заброшенные мосты, напрямую и намертво стягивающие берега.
Полтора года назад… Не позвони на выходе с елочного базара Дэн, нашедший предпраздничным вечером «неотложное» дело (оказавшееся предновогодним бокалом шампанского без свидетелей на рабочем месте: босс и его зам.)… Не посоветуй ему такая же, как он, покупательница вместо праздничной ели сосну: «На наших правобережных базарах сосны нет, только здесь»… Не пригласи он после звонка Дэна ее подбросить: «– Как раз вызвали в Правобережье. И как раз сегодня закрылся мост. Представьте: в объезд, на автобусе и даже не с елкой – с сосной»… Не появись у него уже тогда вместо старой раздолбанной «девятки» новый «Фольксваген Туран» (вольготно разлапившаяся в двухкубовом багажном отсеке пара сосенок)… «Не», «не», «не»… Сколько «не»… Совершенно бессильных что-либо изменить.
Тысячу раз описанные в литературе, обыгранные в кино случайные встречи, невольные взгляды и все что за ними, ничего и никогда не объясняют. Описание. Одно сплошное описание. Слова, слова, слова. Блеск глаз на экране. А что ты хочешь? Чего ты хочешь? Я хочу… Да блин же! Будет у этой объездной и у такого-то мостового ремонта когда-нибудь конец?! Или нет… Я хочу… (отпрыгав на ямах, снова уже на относительно удобоваримом участке пути)… я хочу, чтобы происходящее раскрывалось. Не изображалось задним числом с целью сохранить, передать переживания, якобы важные для человечества, а… «Якобы»? Ну, а какая такая ценность в описанном, но не раскрытом, знакомом каждому чувстве, одинаково охватывающем Ромео… или Вронского?.. Так же, как Ромео с Джульеттой, Вронский с Анной шли каждый в глубь своего собственного чувства с радостью от того, что другой идет не прочь, а навстречу, и не более. Не пытаясь увидеть это встречное движение изнутри. Проникнуть не в чувство другого, а… в одно на двоих воображение. А в этой попытке – все дело… Чувство вечности первой любви, выливающейся в слова: «Никогда! Никому! Не отдам!»… чувство горячей горечи любви последней… необременительное чувство флирта… или чувство запретной сладости… – всё это – наперед известное, то, с чем сам рано или поздно сталкиваешься или, вычитывая из книг, априорно согласен, потому что оно задано тем, с чем не поспоришь, – игрой в существование. И только… Объезд… И только воображение… Мало им моста, так еще и здесь… Воображение, сравнимое со словесной картиной (именно так: со словесной картиной, с изображением и мыслью, сливающимися воедино!), не имеющее ничего общего с существованием… именно: с существованием… Успеваю?.. О чем я?.. Дело не в чувствах. Слова, описание – ни при чем. Дело в словесной картине, появляющейся с твоим появлением в воображении близкого (ближе других подошедшего к твоему собственному воображению) человека. Дело в слиянии воображений, без чего все остальное – чувства, слова, поступки – провисают…
Где я?.. Река позади: бегущие навстречу кварталы, наследие социализма… Маячащий в конце улицы «деловой центр» – бывший детсад…
Надо, чтобы происходящее раскрывалось.
Дверцы у «Турана» – одно удовольствие. О «девятке» даже вспомнить страшно. Приезжал домой, захлопывал – соседи из окон вываливались. Не встреть три года назад (все на том же базаре, на краю которого под Новый год вырастает елочный остров), не встреть тогда Дэна, вываливались бы до сих пор. Соседи… Год работы – «Туран». Используемый, правда, и в рабочих целях и основательно Дэном подкредитованный, но так и надо. Разойдись (не дай бог) наши с Дэном пути, вопроса о «Туране» не возникнет… Или возникнет?..
– Привет, Денис (там же, на базаре: «Хочешь, чтоб я одноклассника по имени-отчеству величал? – Никаких отчеств! Для тебя – никаких отчеств», что, может, в конце концов и сыграло…).
– Вчера узнал наконец… – Дэн, протягивая руку в ответ… – формулу нашей работы. Можно над каждым рабочим столом девиз вешать. Гуляли с Дарьей Денисовной в парке, там холмик небольшой и тропинка наверх, и бабуля с внучком лет десяти: «– Сережа, я не поднимусь. – Что тут подниматься! Втыкаешь ноги в землю и идешь!». Даже у Дашки – рот до ушей.
– «Втыкаешь ноги в землю и идешь»?
– Над каждым столом!.. Сегодня всё по плану?
Дарья у Дэна – чудо: набирает полные легкие воздуху на дорожке своего лесопарка Медвежино и, приседая, кричит изо всех сил в еловую чащу: «Медведи! Мы здесь!..».
– Помощь нужна?.. Вопросы?.. Я отъеду. Вернусь – по обстоятельствам. Чуть что – порешай.
«Порешай» – это полдня безделья. Решать, по крайней мере сегодня, в разгар лета, в нашем сезонном бизнесе практически нечего. Хорошо отлаженное за последний год дело (полдня свободы Дэна) идет по накатанной. Каждый знает свой маневр. Чуть что – прибегут в кабинет…
Только не думать о том, от чего начинают в последние дни дрожать руки.
…Вдвоем на передних сиденьях… с соснами за спиной… Еще не разбитая в первый день объездная. Как новенькая. «Туран» не «как», а – новей некуда. И новые друг для друга его седоки… Что вся эта новизна? Что она для нее?.. Достигает ли той неизвестности, от какой забываешь, как ты здесь оказался (как, оказавшись во сне, теряют прошлое, будущее и настоящее)?.. В «Туранах», разгребающих фарами темноту, успокаивающих светом приборной доски, – невесомость: окружившая, несущая двоих сквозь темноту подсвеченная синевой координатная оболочка. Двоих? А это не он сам сейчас взглянул на себя за рулем с пассажирского?..
Отсюда, с этого взгляда на самого себя – пошедшее вглубь, уже не оставляющее его – содержимое объединенных сознаний. Двое увидевших то, куда не решались смотреть в одиночку, берутся за руки и идут туда. Картина, образованная слиянием двух воображений, открывает, каким образом из одного и того же произошли эти разные двое. Становятся видны пути разделения неразделяющегося. И главное: как через это «разделенное неразделяющееся» исходное целое достигает своей цели…
О чем я?.. Неужели о том, к чему шло и пришло… там… в этих наших «командировках» в гостиничный номер соседнего городка с лезущей в форточку первой молочно-зеленой, совершенно незаметно переходящей в желто-красную, листвой?.. Да. Об этом.
Единственно – неясно: это во мне изначально – то, чем оборачивалось… то, что оборачивалось… или это только с ней, в ее присутствии?.. Идиотский вопрос женатого человека. Не будь этого изначально… И не будь ее… Склонность и склон. Склонность и склон…
И как итог – то, что не имеет своей противоположности… Чувства, мысли, страсти – всё полярно. Даже там, у Всевышнего – антагонист… Как распространяется зло? Эксплуатацией добра. Крыса, беспрерывно (до полного истощения организма) нажимающая лапкой на рычаг, связанный с электродным раздражением центра удовольствия, – вот злодей. Превращающий радость в ее противоположность. Еще! Еще! Мало! Мало! Мне! Мне!.. Неизбежная изнанка «разумного, доброго, вечного». Чувства, мысли, страсти – лишь инструмент. Для любой руки. Для крысиной лапки. Инструмент…
В отличие от того, что нельзя использовать в личных целях. По той причине, что оно не связано ни с чем личным – ни с телом, ни с психикой. Почему? Потому что оно – ток в наш мир… не вещество… не существо… Ток, этот наш мир Божественно-дьявольских антагонизмов и создавший… Истинный его творец… Ток, попадая в который, перестаешь понимать: опускаешься или поднимаешься, толкает он тебя или втягивает… Оставляющие тебя заботы, растворение антагонизмов, венчающееся полной не-заботой друг о друге в виду исчезновения противоположностей под прощально машущую в форточку, окрашенную по сезону листву…
…выныриваешь… выныриваете… там… в одном на двоих воображении. Господь – в сердце, одном на двоих… Слышном сквозь нее. Это она тянет в себя всё выражаемое цепочкой слов. Невозможно исполнить не сочиненное. И сочиняется – ею. Музыка, на которую эти слова, – ее. И каждое исполнение – сочинение к следующему. И достигаешь не связанного с музыкой и словами… Дело сделано – это главное. Задаваться вопросом: Кто за этим стоит? – все испортить. Важно не «за», а «это». Само это. Улегшийся на зиму медвежонок в фильме Жан-Жака Анно не исчезает до весны, а переходит в наше сознание теплом засыпания и пробуждения, заполняющим всё между ними пространство – берлогу, полную удивительных превращений. Свобода. Во плоти. В собственном теле. Что мешало ей раньше? Несвободные. Слепленные из годно-негодной глины. Значит, освобождение – от людей? Прежде всего. Без этого нет никакого освобождения. От людей. Стряхивание с себя глины. Вспомни, как попал сюда. Через что пришел. Через мечту, вовсе и не бывшую мечтой – существом совсем из другой глины. Склонность… Нашедшая склон. Симметрия. Две склонности, каждая – склон другого.
– Ведь это гордыня… Мизантропия…
– Гордится и ненавидит людей человек.
– Ну, да… У меня сейчас с собой мало общего…
– Наоборот: ты никогда другой не была.
– Конечно… Только она не проваливается в тартарары – эта комната… эти листья… люди внизу за окном…
– Это их проблемы.
– То, что они внизу?
– Видишь: мизантропия тут ни при чем. Просто мы выше. Мы их будущее. Если выживем – выживут и они. Какая у Гагарина и Армстронга гордыня?
– Думаешь, Земля обречена?
– Как и всё в том мире…
…Это, всякий раз, молчание «командированных» по дороге домой: «Туран», сквозь бормотанье движка прислушивающийся к салонной тишине… Одна на двоих боязнь расплескать одно на двоих… Та самая практика, которая – критерий истины…
Освобождение от людского в себе… Не от человеческого, а от навязанного моему человеческому. Существу из совсем другой глины? Если говорить уже всё – да. Из другой не потому, что не человеческой, а потому, что людская глина – не человеческая: насквозь пропитанная жратвой-отрыжкой… потребительством… завистливо-жадно-бесплодная… с хамом, рвущимся к «жизни бога» – к усладам и власти… убивающая… заживо хоронящая свое же живое… существующая лишь по своей же привычке считать все это существованием…
Гордыня, гнев, жадность, прелюбодеяние, зависть, обжорство, уныние. Кажется, так? Змеиный клубок без конца и начала (это только кажется, что гордыня – змеиная головка, а уныние – истончающийся хвост). Подплывший к бортику изумрудноводного, при особняке на скале, бассейна (в лучшем случае – всего лишь бездельник-отпрыск сильных мира сего), под приятную отрыжку, легкое опьянение и след ночной сладости в теле изучающий открывающийся отсюда, с бортика, великолепный морской вид – червь в человечьем обличии. «Наслаждатель». Ничего в своей жизни не создавшая особь…
Хорошо. Пускай ничего не создавшая… Но есть же Стив Джобс! Билл Гейтс! Марк Цукерберг! Илон Маск!.. А почему не Уоррен Баффетт, Генри Форд и Аристотель Онассис? Что за тонкая грань, отделяющая первый ряд от второго? Нет никакой грани. Это один ряд. Все его представители, в разной степени созидатели и бизнесмены – в одинаковой мере пользователи святая святых современного мира – биржевой системы капитализации. Позволяющей, в принципе, купить мир. «В принципе» – такая призрачная штука…
Беда не в самой по себе потенциальной покупке всего и вся. Беда в том, что кроме теплой водички бассейна и великолепного морского вида под отрыжку, опьянение и сладкую телесную истому, в итоге-то – ничего! Не в бирже и не в бизнесе, не в усладах и власти, а в этой конечности! Беда…
– Ну, как?! – с обычным в последнее время наигранным оживлением вваливается в кабинет Дэн. – В Багдаде все спокойно?
– Ты же знаешь… («как я к тебе отношусь»)… («как я тебе благодарен»)… раз твой айфон молчит – спокойно в Багдаде, в Ираке, на Ближнем Востоке и на Каймановых островах.
– Сейшельских. Или Мальдивских. Каймановы в другом полушарии.
– За мостом.
– Я читал… – задерживается у стола Дэн… – через двести миллионов лет материки: Евразия, Африка, обе Америки, Австралия – соединятся в один. Будет один материк Амазия в одном вокруг него океане.
– Что насчет Антарктиды?..
– Ладно… Я у себя… – наигранная серьезность: дело превыше всего…
Беда! Беда! Беда!.. Запричитал… Весь мир живет в кредит! Жизнь с самого зарождения – изворотливость!..
Жизнь – не то, что вы думаете…
Что же, Фордам, Джобсам и Гейтсам с их ноу-хау лапу сосать без инвестиций?.. Какие бассейны, какие отрыжки!.. Они труженики!.. Подвижники!.. Меценаты!.. Сидит тут с айфоном, виндоусом, ключами от «Форда Мондео» и талдычит!..
Вот из всего этого. Бывшего и в себе. В первую очередь – в себе. Выход. Освобождение. «Думаешь, Земля обречена?..»
…Они: Гейтс, Маск, Баффетт – ценят искусство! Последний в 2010 году передал благотворительным фондам 37 миллиардов!.. Именно поэтому искусство расцвело буйным цветом. И наконец указало нам выход из задницы. Не Хуан Малдасена, описавший Вселенную как пятимерную проекцию божественно-мыслимой плоскости, а Роберт Де Ниро с Аль Пачино, вместе и поодиночке перестреляв на экране кучу народа и вперившись после этого в нас долгим взглядом на крупном плане, подарили нам смысл… Вообще, если все сегодняшние мои мысли представить изложенными на бумаге и поднесенными пред светлые читательские очи, определение, которое даст автору этого текста «усредненный» читатель, будет: «Дятел, обидная версия». Я хорошо это понимаю. Так же хорошо, как и то, что эти ощущения и мысли есть итог моей жизни – не в смысле ее конечного состояния, сколь бы долгой или короткой она, эта жизнь, ни оказалась, а в том отношении, что из этих мыслей не повернуть обратно. И это и есть критерий истины: безальтернативный уровень сознания. Истинообразующая практика. Так же хорошо, как это, я понимаю и то, что, вздумай читатель, осудивший мой взгляд на вещи, изложить свое собственное ощущение происходящего – итог сведется либо к безверию и безнадеге, либо к вере в светлые идеалы человечества. С безверием-безнадегой как источником критики все ясно. Обратимся к светлым идеалам. Прежде всего в этой связи: что этот «светлоидеальный» мой критик создал своей головой и своими чистыми руками (дом и капитал – не в счет: любая современная недвижимость создается не только своими руками, а любые сколь-нибудь значимые сбережения или созданы руками предков, или не связаны с чистотой своих рук)? Не голливудская ли он, этот мой критик, звезда или футбольный супер-голеодор, тем же самым рыночно-биржевым насосом перекачивающий миллионы в свой карман из карманов «верящих в светлые идеалы»? Не бизнесмен ли он, не финансист или сотрудник консалтинговой компании, делающий деньги из воздуха или уводящий их из-под налогов, не мажор-наследник ли он или лжец-сочинитель липовых научных и производственных отчетов, то есть не бездельник-потребитель ли (согласитесь, верить в светлые идеалы человечества мошеннику или потребителю было бы как-то странно)?.. А-а: он, мой критик, – музыкант, изобретатель, строитель, учитель, пилот (пол неважен). Тогда коротенькая цепочка вопросов (это один вопрос) к нему: совместима ли вера в светлые идеалы человечества с отсутствием в вашем сознании смысла вашего существования? может ли быть этот смысл не связан с представлениями о мироздании и вашем месте в нем? что вам известно о том, чем является Вселенная и сознание? откуда вы черпаете эти сведения? черпаете ли?

