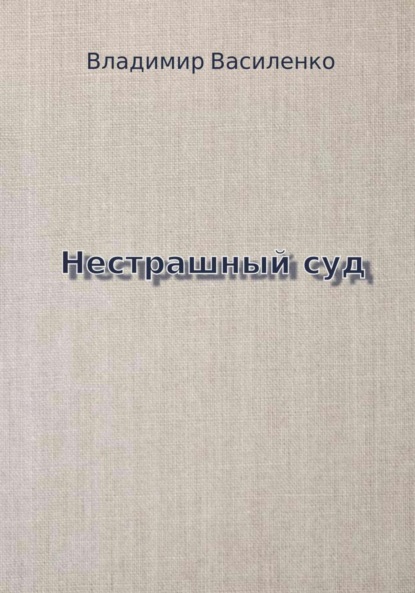
Полная версия:
Нестрашный суд
– …Вот, значит, как… Стало быть, мое лицо – всего лишь внешняя оболочка, сквозь которую можно… проникать в над-полярный мир. Внешняя оболочка. Мало значащая для него, в отличие от того, куда он проникает (считается: на пару со мной). В принципе… по крайней мере, до известной степени… ему все равно, что это за оболочка – мое лицо и тело. Все эти подробности: я.
– …бездарность заключается, главным образом, в том, что человек занимается не своим делом! Лезет куда его не просят. Дар – сама жизнь. Жизнь, в которую тебя – милости (милостью Божьей) просят: только разгляди, почувствуй, куда! Куда именно. Будь гостем, а не хозяином! Вместо этого прут в гору. И жук, и жаба. Допустим, ты – глиальная клетка. Прекрасная, неповторимая, крайне важная на своем месте, будь оно болотом или дном морским чудесного незримого вселенского мозга. Это твое место – дар, осваивай его, не лезь в гору! Ощути, почувствуй в конце концов: без тебя на своем месте чудесное незримое не столь чудесно, в лучших его мыслях и чувствах есть и твоя составляющая. Без глии нейросеть – ничто… Что́ если и моя идея – не более чем оскорбленное чувство? Я тоже, как все, как большинство, лезу в гору, не чувствуя окружающей меня красоты?.. И лезу – от самого себя, от скрытой травмы, связанной с самоощущением?.. Все это в определенной мере, разумеется, есть. Я же земной. Со всеми земными прелестями. Но не оно, не вульгарное самосознание, движет моим воображением, которое тянется вверх до впечатления, что его тянут. Вот. Вот оно: там кто-то есть. Там что-то есть… А она не видит. Уступает только ради меня…
– Ну вот! Опять! – перебив… не выдержав… схватила она его за руки. – Я не знаю, что означает этот совершенно невозможный твой монолог! Ты говоришь, как будто думаешь вслух! Как будто меня здесь нет!..
– А я тебе скажу, что. Что он означает… – со сжатыми в ее руках своими запястьями поднял он глаза на нее… – Только не он, не мой монолог, а они – наши с тобой монологи: твой – совершенно невозможный для меня, а мой – для тебя (раз ты говоришь, что я думаю вслух и говорю невозможные вещи, приходится верить)… Все это может означать только то, что мы с тобой – в над-полярности. А ты думала: переход будет как-то заметен?.. Никаких совершенно невозможных наших с тобой монологов там, внизу, в кабинете, нет: через какое-то время мы, оставив переписанные начисто показания, покинем его. Но здесь… Здесь мы – в общем сознании, одном на двоих. С виду – в этом же кабинете. На деле же… где? Где мы на деле? Я не проникаю чудесным образом в твою голову, ты не проникаешь в мою: мы сами озвучиваем свои мысли. Но как?
– Как?
– Не осознавая. Не чувствуя, что – озвучиваем. Что – говорим.
– Но мысли же по-прежнему наши.
– Если сознание принять за эволюционную стадию среды (линия, плоскость, объем, движение тела, самоосознаваемость движущегося тела), мы с тобою сейчас в следующей эволюционной стадии – в общей, одной на двоих, осознаваемости.
– Но мысли же наши.
– Мы сейчас не просто думаем, а озвучиваем все что думаем. Не чувствуя этой озвучки. Считая, что по-прежнему думаем молча. В итоге, то, что у нас здесь… внутри… – постучал пальцем по лбу Марат… – то что внутри – оно же и снаружи, мы его слышим: ты – мое, я – твое… Мысли – наши, да, но в одном на двоих мыслительном поле, в едином пространстве. Оно вытягивает их из нас. В себя. Оно их знакомит. Оно их, ошарашенных, успокаивает, приноравливает, притирает друг к другу. Можно ли оторвать наши мысли от наших же тел?.. От наших ощущений, памяти, ожиданий?.. И значит, оно… понимаешь? – оно!.. – делает из нашей индивидуальности – телесной, мыслительной, чувственной – что-то, что ее, эту индивидуальность, высвобождает, преобразует… что-то, что ее превосходит… Давая линии свободу существования, плоскость находит эту свободу для себя самой где? – в объеме. Движущееся живое тело прозревает куда? – в осознаваемость. А освобождение наших мыслей вот из этого… – то же самое его тук-тук-тук пальцем себе по лбу… – из этой тюрьмы, из одиночной камеры – это… Знаешь, я все думал, ка́к это: человек – существо социальное? Как это? Маугли – понятно. Но взрослый – ?.. Что же, Робинзон – не существо?.. Робинзон – часть существа. Мы с тобой – части существа!..
Марат рассмеялся.
Глядя на него, она вяло улыбнулась.
– У Джойса: человек умирает, бессвязная речь, мысли путаются, человек бредит: «Бред: все что ты скрывал всю жизнь». Бред – это когда вот так: бессвязно и напоследок!.. Это бред. Да. Когда же вот так… – указал Марат на нее и на себя… – когда вот так, как сейчас, тогда все, что до этого, было – бред! Было бредом. «Не счесть алмазов пламенных в лабазах каменных.» Алмазов пламенных. В лабазах! В лабазах. Вот в этих… – хлопнув себя по лбу, снова рассмеялся Марат… – В этих самых… «Все что ты скрывал всю жизнь.» Зачем? Зачем набивать угол потемнее тем, что скрываешь всю жизнь. Всю жизнь эти двое: ты на свету, и ты в темном, непроницаемом ни для чьих глаз, углу. Один и тот же ты. И там, и там. Можно это понять?.. Но так живут. Именно так и живут. Все и всегда. Хорошо. Допустим, то, что на свету, – для всех, для жизни общей, общепринятой. Но для чего тогда то, в темном углу? Для кого? Для кого-то всесильно-таинственного, этого будущего тебя, который перевернет этот мир или найдет себе новый? Для кого оно там копится? Кому предназначено? Не себе же, в конце концов… Не себе, а самому́ темному углу! Который – что? Что он?.. Кладовка. Все, что там, в кладовке, накоплено, понавалено, понаставлено, служит одной-единственной цели – скрыть это все, убрать от постороннего взора. Скрыть твою собственную природу, природу клетки чудесного вселенского мозга. Если ты – главный нейрон, один из избранных, яркая звезда небосклона, то и скрывать почти нечего. Моцарт, Пушкин, Эйнштейн… Все равно ничего не скроешь. Если ты звезда. Твой же свет тебя выдает с головой. Когда же ты – болотная глиальная клетка: вот он – небосклон со звездами над тобой… а там, в стороне – темные купы деревьев… и бог весть о чем шуршат в сторонке загадочные камыши… – ты или растворяешься во всем этом, принимаешь все это с благодарностью за то, что ты есть, что ты все это видишь, слышишь и являешься частью всего этого… или отвергаешь себя болотного и рвешься в звезды. У глиальной клетки, рвущейся в нейроны, кладовая – все ее болото, вся ее истинная природа, которую не изменить. Чем объемнее то, «что ты скрывал всю жизнь», – тем больше ты не тот, за кого себя выдаешь.
– Ты считаешь: одно на двоих сознание… – подала голос Анна… – ну, то, что у нас сейчас… из не тех, за кого мы себя выдаем, делает нас теми? Каким образом одно на двоих наше с тобой сознание устранит наши, как ты их называешь, кладовки?
– Мы сами. Сами их устраним. Уже устраняем. Начали. Устранять. Ты разве не чувствуешь? В одном на двоих темнота невозможна: перегородки, кладовки – не предусмотрены. Вот таким именно образом. Вот таким. Естественно-природным. Как я знаю все в твоем теле, скрываемое тобой ото всех, так и…
– Это ужасно.
– Это ужасно непривычное преодоление ужасной привычки. Ужасной человеческой привычки прятать украденное.
– «Отдирание корки от раны»… – украденное? – сбитая с толку его чувствами, сказала Анна то, что прежде никогда б не сказала.
– Украденное – это то, что не существует всего, что я себе навоображал. Тобой украденное. А мной – что тогда меня нет… Чёрт у Бога. Украл. А мы передали. Из рук в руки… Украденное – это разбираться в конъюнктуре, моде, брендах, тачках, дачках, собачках, прикиде (прямиком от слова «прикинуться»), встречать и быть встречаемым по одежке. Престиж, царящий везде и во всем, самоуверенность, значимость, основательность – украденное. Цацки-бряцки, званья без призванья. Сделать себе имя. Создать лицо… Сделанные «имя и лицо» (истинные их не устраивают)… Украденное – это бездарность, то есть занятие не своим делом. Бездарь может издать себя вместо книг рожденных поэтами или учеными, занять предназначенную им квартиру, кабинет, лабораторию, украсть рожденную для другого жену и лишить одаренную личность потомства. И все же есть нечто, чего нельзя отнять. Есть место, бездарности не по зубам. Не дом и не кабинет. Это место – весь мир.
– У тебя отняли дом с кабинетом?..
– И поэтому я придумал над-полярный мир в одном на двоих воображении?.. У меня никто ничего не отнимал. Дом? Ты – мой дом. Кабинет? Это смешно. И главное: я ничего не придумал. Никакого нового мира. Мир один. Мы с тобой сейчас в новом измерении, но того же самого мира. Стол. Окно. Дождь. Эти вот листки на столе. И мы. Не замечающие, что мыслим вслух. Не замечающие… Не заметить… Разницу между собой говорящим и слушающим. Между собой и якобы не-собой. Это всегда так.
– Как?
– Подъезжая к ментовке, не представляешь, что через полчаса мечта станет явью: мечта всей твоей жизни… Прожив на свете пару-тройку лет, не знаешь, что через минуту бесповоротно осознаешь себя в этом мире… А на седьмом-восьмом году жизни понятия не имеешь, что через мгновение бессмертие навсегда уничтожится ужасным сообщением о смертности родителей и тебя самого… И наоборот: ожидание чудесной метаморфозы – от потери невинности, установленного тобой рекорда или свалившегося на тебя с неба богатства – никогда не оправдывается.
– Особенно: от свалившегося богатства.
– Чёрт у Бога. Украл. А мы передали… «Все, что я себе навоображал», – единственная реальность. Единственное реально существующее. Без которого меня… нас с тобой… нет. Полчаса назад еще можно было сомневаться. Но теперь…
– Полагаешь: мы все равно все скажем? Вслух?
– Ты можешь не ду́мать? Ни о чем?
– Я могу думать о чем-то определенном.
– Какое-то время. Какое-то время чёрт еще будет подпрыгивать. Мы – в самолете, он – снаружи, подпрыгивает к иллюминатору. Как в голливудском фильме, не помню, в каком…
Оба одновременно засмотрелись на сиявшее за окном небо.
– А там, внизу, дождь…
– А там, внизу, дождь, – вслед за ним повторила она.
– Что такого… – перевёл он взгляд с сиявшего неба на нее… – в том, чего я не должен узнать? Тщательно скрываемое от меня – что в нем, в скрываемом, позорного… недостойного нас с тобой… чего-то, что никоим образом невозможно озвучить, поделиться…
– Ты правда не понимаешь?
– Ты же сама рассказывала, насколько девочкой была не подготовлена к… пробуждению в тебе природы. Потому что мама обходила стороной эту тему. И это сейчас, сегодня! Что говорить о временах оных!
– Еще о каком… о каком еще пробуждении… я обязана перед тобой отчитаться?.. Знаешь, куда все это ведет?.. К устранению разницы между любовью и этим… – она поморщилась… – «Секс снимает чувство неловкости, любовь его порождает».
– Знаю, знаю: Вуди Аллен. Читал. Мне другое там приглянулось. Как же это… Ага! «Самые прекрасные в мире слова – это доброкачественная опухоль».
– Тогда как тебя понять? – уставилась она на него. – Если все передается без слов… глазами… о чем мы вообще сейчас говорим?
– Именно об этом. О том, что, в принципе, передается глазами. А надо – не в принципе. А целиком, полностью. Не – намеком, недоговоренностью, не многозначительностью, а – полной осознаваемостью. Мыслью. Словами, обращенными к самому себе, к тому существу в себе, которым и являешься, а не к тому, за кого себя выдаешь (врать себе – согласись, искусство бесконечно изматывающее)… «Доброкачественная опухоль», «слова, слова, слова…» – это всё и всегда!.. Но только не в нашем с тобой случае… «Это доброкачественная опухоль» – прямая речь. После двоеточия…
Загустевшая за окном синева навеяла мысли о вечерней прохладе…
– …Осознавая неисповедимость путей Господних вместе с непредсказуемостью человеческих целей и мотивов, – продолжил он, – признавая за человеком право на темный угол, поклоняясь твоей тайне, нашему «чувству неловкости», я считаю в нашем с тобой случае это чувство… эмоцией прячущего украденное. Ты вся со всей своей тайной – это я сам, а у себя невозможно украсть…
– Думаешь, когда мы всё скажем вслух… с нами произойдет… из нас земных выйдет что-то иное, родится что-то новое? Из разговоров ничто не рождается.
– Какой же это разговор? Это обмен сущностями. Мыслями… Откуда приходят мысли?.. Общеизвестно: Вселенная не причиняет тебе болезни и страдания – она лишь реализует твои мысли. А сами-то мысли? Откуда приходят? Наши мысли… Еще не облеченные в форму слов… Что такое это наше воображение?.. Один автор, отвечая на вопрос, будет ли опубликован его новый роман и как скоро, сказал: «Мне все равно. Видите ли, романы – форма существования моего белкового тела. Пока я их проявляю (а я проявляю, и не больше), я существую. И то, что я здесь сейчас отвечаю на ваш вопрос, означает, что в проявке у меня следующий роман». А мне все равно, существу́ю ли я. Какая мне польза в существовании, когда я не знаю, откуда на экран моего сознания проецируется то, что становится моими мыслями. Что за проектор – мое воображение?.. Почему любовь – неловкость?..
– Почему?
– Потому что ее, любви, противоположность – ловкость… Представь: в раю было бревно (деревья не вечны). Сидя на нем, потеряв равновесие, Ева оперлась рукой позади о траву. Потянув, приподнимая, в этом их балансировании Адам нечаянно зацепился… Знаешь, я в детстве не поверил другу, пытавшемуся открыть мне глаза на тайну деторождения. «А как же животные? – мой убийственный контрдовод! – Откуда они знают, что надо именно так?» Зацепился… неожиданно… короче – произошло… Само. Поэтому секс – на бревне (я помню: ты не любишь это слово).
– На бревне?
– А где же? Балансируя, занимаешься своим делом – ловкостью: всё органично, естественно. В отличие от любви, совершенно не твоей, совершенно оттуда же, откуда воображение: допущенный, куда и не мечтал, ежишься от своего вида… Тогда как балансируя – ни о каком своем виде не думаешь – знай себе копируешь ту первую райскую сцену тех, кого можно назвать…
– Отцом-матерью-основателями…
– Ну, да. Прилетели. Первые сюда, на планету. Освобожденные от скафандров, расслабились на солнышке. И генетически помня эту их, с бревном, сцену, мы и воспроизводим ее, и сочиняем, наделив их посадочную поляну райскими подробностями. Не имеет никакого отношения к генам. Сцена. Мы ее обживаем, проникаем в детали – занимаемся самым что ни на есть своим делом. Так нас отвлекают от сути – связи с тем, откуда прилетели они, а значит и мы. Что такое страсть? Это клей. Клей, связующий звенья цепи. Генетической. Только он, клей, и важен для ступающих в связь (ступить в связь), сама же связь, связь звеньев – вне их поля зренья, ценно лишь воплощение первозданной сцены на бревне – балансирование бог весть кого бог весть откуда, разлепленного на два, как бы с разных планет, тела, встретившихся случайно и на минуту и оттого так жадных друг к другу. Тем сильней вожделенный финал – чем дальше эти «бог знает кто» от мысли о продолжении рода: все мысли каждого из них – о планете, населенной их телесными противоположностями… Что такое Толстой? Не кто он? – это известно, а: какова сущность его неудовлетворенности, этой движущей силы всякого сочинителя, наглядней всего проявляемой в плотской ее составляющей? Бордели (городские и в Ясно-Полянских окрестностях)… и брак. В его восприятии: второе – не лучше первого («необходимость для физического здоровья» и «он влюбился потому, что знал, что женится»). В итоге – максимальная неудовлетворенность Толстого, даже и не скрываемая (эти две цитаты – из его «Дьявола»)… Достоевский «совпадение красоты, одинаковость наслаждения» в «сладострастной зверской штуке» и в «каком угодно подвиге» мог почерпнуть из личного опыта… И что такое у них любовь? Что она сделала с Барашковой? Что она сделала с Облонской? Которую судят («корову бы ей, а лучше две») лучше всех знающие, что такое Ромео-Джульетта (читай: дуракаваляние)… И какая такая любовь у Создателя? Плодитесь и размножайтесь? А как насчет греха? Собаки без штанов. «Чего стесняться им, собакам?» Адам с Евой в листьях. Ну, бог с вами: стыдитесь и размножайтесь. Неловкость, стыд: «Бог с вами» – так просто? Нет. Откуда? Откуда они?.. Почему когда любишь – неважно? Подробности неважны. Подробности «пребывания на бревне» и друг друга подробности, подливающие за кадром масла в огонь, – неважны. Масло с огнем – неважны!.. Сериал «Надвое»: раздвоение – долга и страсти… манкость и груз обмана… Это не передается другим способом – только телом, когда, ну… сама понимаешь… и остаешься беспрецедентно один… неслыханно один… и нужно точно знать, с кем остался… (это не я – Спиноза)… И вот, при этом – нас двое. Мы с тобой – он, знающий… Что знающий? Что́ он, один в виде нас двоих, знает? Представь: радиоволны, видеоволны. Их нет, но они есть. Их нет в том смысле, что не видны, не слышны. Но в том отношении, что реальность, достигающая нас и открывающаяся нам в виде радио- и телекартин, существует независимо от того, существуем ли мы, – они есть. Эти картины. В них все дело. И именно об этом – Малдасена с Сасскиндом.
– Мы – телекартины?
– Себя же смотрящие. Самих себя зрители. В одной научной дискуссии после утверждения, что изображение с глазной сетчатки проецируется в зрительную кору мозга как на экран, был задан вопрос: а смотрит кто? Понимаешь? Независимые от того, существуем ли мы, телекартины в виде волн – ответ. Ответ на этот вопрос. Вот с кем остаешься, когда остаешься один.
***
– Марат Петрович?
– Проблемы с показаниями?..
– Нет, там теперь все в порядке… Я здесь затем же, зачем и вы: лучшее пиво в городе, как-никак. Люблю, знаете ли, нефильтрованное.
– Ну, присаживайтесь…
– А вы как же: за рулем… и… – майор кивнул на бокалы Марата Петровича: пустой и полный.
– Я здесь живу. За углом… Как совещание?
– Совещание?
– Ну, да. Я там не спросил. В кабинете. Вчера.
– А почему сейчас спрашиваете?
– Вы вернулись с таким лицом… Что-то серьезное?.. Пейте-пейте, это я так… как говорится, из праздного любопытства…
– В ваших с Анной Валерьевной показаниях… – пригубив из своего бокала и как бы давая высокую оценку напитку, произнес майор… – ни слова правды…
– Как и в ваших словах о причине вчерашнего вызова к вам. И о том, что вы здесь затем же, зачем и я. И о том, что тогда, на мосту, будем только вдвоем, без Анны Валерьевны. «Мы нашли оба трупа», да?.. Со вчерашнего дня я, видите ли, читаю мысли. Если хотите, могу озвучить, любите ли вы действительно нефильтрованное или это издержки вашей профессии: искусство требует жертв. Искусство копания в чужой голове.
– Со вчерашнего дня? – полу-опустошив бокал, уставился на Марата майор.
– Не надо. Не надо так пристально. Она сказала: вы на нашей стороне. Знаете, чем в не столь еще далекие времена это заведение… – огляделся по сторонам Марат Петрович… – отличалось от прочих? Импортом. Жигулевское здесь можно было закусить кубинской рыбой, разрубить которую удавалось только мачетой (мачете, знаете?..), а по великим праздникам в кран поступало чешское «Саки», именуемое публикой соответственно.
– Вас, деликатно выражаясь, ввели в заблуждение. Вероятно, завлекали публику якобы чешским, а на деле эстонским. И называлось оно «Саку» («Саки» – народное прочтение).
– У вас есть мечта? Помимо раскрытия ужасного преступления с запуском шара с моста. Конечно, есть. Мечта – одна. Мы разные без нее. А с ней – одинаковые. Потому вы и на нашей стороне: большинство людей – без мечты, а вы не из большинства.
– Ну, раз мы с вами – избранные… – начал майор…
– …поговорим как избранные, – закончил Марат Петрович.
– Поговорим как избранные. «Много званых, да мало избранных.» Как мне недавно напомнили. Кстати – в одном заведении, которое могло бы вам быть небезынтересным.
– Не забывайте: я уже другой…
– Анна Валерьевна…
– Ну, скрывать это от профессионала вашего уровня – себя не уважать. Вам ведь совершенно до фени летающие Супермены. Вы просто схватили вашим звериным, что называется, чутьем: вот!.. Здесь, в неясностях этой связи, представшей пред ваши ясные очи. И сидите вы сейчас напротив с единственной целью вынюхать.
– Не вынюхать.
– Потому что уже. Вынюхали. Как вам кажется.
– Не вынюхать, а помочь. Все, что я схватил… (каким там? – волчьим?.. чутьем), все мои представления (достаточно приблизительные) о ваших, скажем так, жизненных ценностях наводят меня на мысль о…
– …о том заведении, в которое вам не терпится меня упечь.
– Очень даже терпится. Вполне. Это вам нужно, не мне.
– Где-то я уже это слышал. И тем же голосом.
– Поверьте, нет у меня никакого интереса… ни к шарам, как вы верно заметили… ни к тому, чтобы кого-то куда-то упечь… Дело в том, что я сам недавно побывал в этом заведении… Мечта одна?.. Да?.. И это заведение с ней связано. Одна тема. Одна и та же: мечта… заведение…
– «Заведение»… «заведение»… Я не Ева, а вы не змей-искуситель…
– Это почти согласие. Вы другой, потому что читаете в голове собеседника. А как насчет своей собственной? Почитать себя… Прогуляться. С самим собой. В новой местности. В ином времени года (майор вдруг перешел на стихи):
Все свое передоверив
снегу и зиме,
я гуляю меж деревьев,
но не по земле.
И чем дальше, и чем глуше –
тем они живей:
руки, судьбы, люди, души –
росчерком ветвей:
в небо, в землю, вширь, навытяж-
ку и на весу…
Ты их всех еще увидишь
там, потом, внизу –
добрых, злых – любых… Не выйдет
с этим ничего.
Я уже их всех увидел.
Всех. До одного.
– …А давайте, – прервав молчание, сказал Марат Петрович, – напьемся.
– Пивом?
– Вот сразу видно незавсегдатая. Единственное, чем пиво отличается от водки, – это неверием в то, что наклюкался пивом… По рублю, и в школу не пойдем. То есть, на работу. Как-никак, завтра суббота.
– А по субботам вы как: дома ночу́ете?
– Слушай, давай на «ты»…
***
Автор от бога, зная произведение целиком, открывает в нем лишь то, что считает нужным. Самым проницательным из смотрящих в книгу, на экран или вокруг кажется, что они чувствуют скрытое. Физики-теоретики, например, стараются перевести эти ощущения на язык формул… Важнейшим свойством скрытого является равноценность версий.
Жизнь – сообщение. Но не тебе (велика честь) и не человечеству. Тебе всего лишь дают заглянуть в него. Все что от тебя зависит – прочесть его правильно. Много ли способных на это? На то, чтобы отделить недоданное им в детстве и вылившееся в их потребность в любви – от того, что им могут дать прямо сейчас… уже дают, и получаемое – катастрофа… На то, чтоб посреди пьесы с выхолощенно-бесплодным сюжетом вдруг осознать, что люди, заполонившие театр, вместе с теми, кто на сцене, и всеми причастными к созданию этого действия во главе с режиссером и автором – персонажи игры, перемешавшей галерку с партером и выведшей на сцену и в авторы бог знает кого… Прочесть подобное сообщение, понять, что это значит, к чему ведет, и не потерять голову – это оправдать доверие «письмен египетских» твоей жизни к тебе как к читателю.
Так, и что делать? Что правильно прочитавшему сообщение делать? Кашу есть, немцев бить. «Сейчас глаза мои сомкнутся, / Я крепко обнимусь с землей» (Владимир Семёнович). Вот так просто. Так же просто, как об этом и сказано: «…обнимусь с землей». И всё. Почему? Потому что ты был рожден для этого. Сейчас, за мгновение до этого объятия, ты увидел его изначальную заданность. Понял и принял свою жизнь. Всю. До конца… А тот, кто за хлебом вышел и под машину попал. Тоже прочел сообщение? Понял и принял свою изначальную заданность? Да. Но это же манипуляция!.. Да. Для того, кто так считает. Кто не умеет и не желает читать. Сопоставление этих двух сообщений: объятия с землей в бою и нелепой смерти у своего дома – часть общего, одного на всех… одного обо всех… сообщения. Фрагмент огромной картины. Сообщающей уму своего зрителя (коих всегда и во все времена – единицы) всю его, ума, силу. Открывающей ему эту силу. Что и названо «откровением». Сводящимся именно к этому: жизнь – сообщение.
– …Как я оказался здесь… – возник в дверях кухни Марат… – и где именно?..
– Выспались? – оглядел Панкратов вошедшего. – Мы в моей квартире. Добрались на такси. Вчера, не так чтоб поздно. Судя по виду, все хорошо? Сейчас чай будем пить. Предпочитаете черный, зеленый?
– А как насчет лечить подобное подобным?
– Так то – лечить. А вы, я смотрю, в порядке. Разве что ложку ликера в чай.
– Пойду умоюсь…
Хлопоча над завтраком, Панкратов вспоминал свой вчерашний утренний (ровно сутки назад) звонок и все, что за ним последовало.
– …Слушаю, – после долгой гудковой прелюдии ответили в трубке.
– Добрый день, профессор. Космонавт номер два.
– Хотите предложить космонавта номер три.
– Как вы догадались?
– По этому вашему: «космонавт номер два».
– Я помню нашу с вами, Юрий Григорьевич, договоренность никого больше не посвящать в исследование. Дело в том, что в ходе применения полученной мною от вас…

