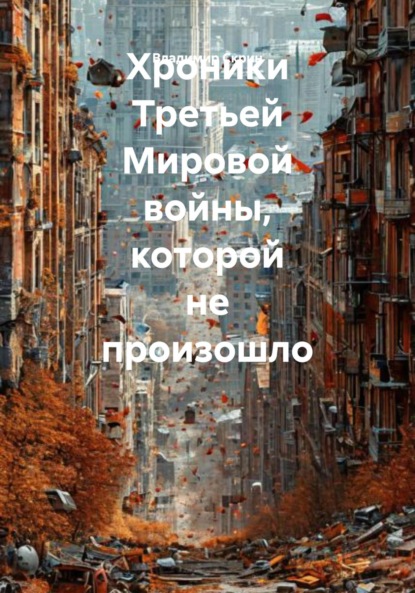
Полная версия:
Хроники Третьей Мировой войны, которой не произошло
Валерий удивился и обрадовался.
– Спасибо! Никак не ожидал, что вы знакомы, хотя почему нет? У вас, наверное, все всех знают! Как он там? Купил ли он то, что собирался? – Валерий хитро подмигнул. – Думаю, что за такую штуку ваше начальство могло бы поменять его четыре звездочки на одну побольше!
– Да я как-то не в курсе,– растерянно пробормотал удивленный Дуров.
– Ладно, привет ему от меня, пусть звонит! Пока!
Валерий умчался вниз по лестнице.
***
Дуров постучался и открыл дверь знакомого кабинета.
– Сергей Трофимович, ваше поручение я выполнил. Ответ был таким, – Дуров слово в слово передал содержание разговора.
– Спасибо, Саша, очень хорошо.
Сергей Трофимович снял трубку.
– Товарищ полковник, мы сделали то, что вы сказали, и вот результат – он воспроизвел услышанное от Дурова.
– Ну очень интересно… Спасибо!
Полковник открыл формуляр. Так, вот родственники, все в порядке, биография – лучше не придумаешь, где же искать такого Геру? Кто это? «Четыре звездочки», «Из ваших» и по-немецки говорит как немец… Может, спросить у тех, кто занимается усовершенствованием немецкого языка сотрудников, вдруг они подскажут? Он снял трубку.
– Привет, это я. Ты все учишь ваших немцев?
– Да, а что? Ты же вроде совсем не по этой части.
– Слушай, чисто личная просьба. Не попадался ли тебе человек, которого могли бы звать Гера? – он заглянул в справку на столе. – Либо немец из ГДР, либо нет, но точно живший в Саксонии, лет тридцати- тридцати двух. Может, вспомнишь?
– Да тебе-то зачем? Конечно, вспомню. Среди наших по твоему описанию подходит только один – Вова Герасин, капитан из отдела внешней торговли. Никого с саксонским акцентом больше я не знаю.
– Спасибо, с меня причитается.
Он набрал еще один номер.
– Привет, я по поводу вашего Герасина.
– Да, есть у нас такой, хороший малый. А что?
– Да тут у меня вопрос к нему, может, ты ответишь. Он в Дюссельдорфе зимой был?
– Да, был. Сразу скажу – молодец мужик, хоть и молодой. Сработал просто здорово, мы и не ожидали. Представляем к внеочередному званию.
– Спасибо, очень помог.
Вот теперь картинка сложилась. Наверняка Герасин и есть этот самый Гера, также как и Рогатин – «музыкант», поскольку действительно музыкант, одноклассники, и жена из того же 10А. А то, что не доложил – правильно, не с иностранцем же он разговаривал! И правильно, что при разговоре Дурову кроме общих слов ничего не сказал – избыточные знания до добра не доводят. Слава Богу, все в порядке.
Последний звонок.
– Сергей Трофимович?
– Слушаю, товарищ полковник!
– Снимайте вопрос с контроля. Наш человек. Можно с ним работать.
– А все же интересно, что такого особенного этот Герасин прикупил? – подумал полковник, повесив трубку.
Загорск, март
Офицеры были удивлены – непредусмотренное планом совещание начальников отделов было совсем не в стиле шефа. У него всегда и все было разложено по полочкам, работать с ним было тяжело, служба медом не казалась, но он ставил ясные задачи и заранее определял размер морковки за ее выполнение.
Значит, надо быть готовыми ко всему.
В десять ноль-ноль появился сам генерал-лейтенант – очень невысокий щуплый человек в отглаженном кителе с внушительной орденской колодкой. Безукоризненная осанка, бледное и слегка одутловатое лицо с колючими светло-серыми глазами – офицеры прямо-таки физически ощущали волны недоброжелательности и даже некоей брезгливости.
Это было нормально, Размышляева улыбающимся никто никогда не видел.
– Прошу садиться.
Первым сел сам, поскольку из-за небольшого роста стоять не любил – из-за высокой кафедры его не было видно.
– Товарищи офицеры, вчера мы получили директиву из Генштаба с приложениями Главного разведывательного управления – с ними поделилось Первое главное управление КГБ, случай неординарный. От нас требуется корректировка Оперативной записки Сейчас вам раздадут реферат перевода, прошу внимательно прочитать и сделать соответствующие выводы. От себя скажу – ракеты средней дальности «Першинг-2» появятся на Европейском ТВД в 1982 -1983 году, поскольку «Мартин и Мариетта» вышла на финишную прямую. От нас требуется срочно переработать наш раздел с учетом резко изменившихся обстоятельств. Время не терпит, нам дано две недели, для вас это одна неделя, три дня на мое ознакомление, жду на совещание здесь же через десять дней. Ответственный – майор Благоволин, считайте это необходимым условием рекомендации в Академию.
И еще. Командование приняло решение о реорганизации научно-исследовательских организаций. На днях выйдет приказ о новой структуре нашего института – в состав включается отдел бывшего НИИ №**, базироваться будут на прежней площадке – в Кунцево. Начальник – майор Матевосян Эдик Багратович.
Из первого ряда поднялся невысокий коренастый армянин. Форма ладно сидела на квадратной фигуре.
– Все свободны.
В зале задвигалась мебель, зашуршала обувь.
– Две минуты, а какое дело запущено! – Генерал откинулся в кресле. – Все как всегда. Тупые комитетчики два месяца тянули резину, а время шло… Все приходится делать самому!
Б.В. привычно констатировал собственное интеллектуальное превосходство.
Андрей Юрьевич Благоволин не привык откладывать дела в долгий ящик, тем более, что поручение генерала хорошо коррелировало с его устремлениями. Он пришел в эту достаточно привилегированную часть, имея за плечами и военно-инженерное образование и командный стаж. Размышляев – генерал-лейтенант, доктор наук и, как говорили, достаточно проходной кандидат в членкоры – стремился сформировать в подчиненных подобие себя – и офицера, и исследователя, но в первую очередь – офицера. Именно стараниями начальника Благоволин понял, что ему все же ближе стезя реального боевого планирования, тем более после полученного опыта работы во внедрявшейся командной системе боевого управления, как говорили – детища маршала Свечина, нынешнего начальника Генштаба. И хорошо было бы познакомиться с идеями Николая Васильевича поближе. Прямой путь для этого – академия Генштаба. Начальник обещал рекомендацию, сегодня озвучил условия.
С лязгом провернулась рукоятка сейфовой дверцы, на свет появилась прошнурованная рабочая тетрадь. Можно было приступать.
Улица Фрунзе, март
Маршал Советского Союза Свечин закрыл красиво переплетенную «Записку». Надо было подписывать. Или нет?
С одной стороны, работа проведена большая и, в определенной степени, законченная. С другой стороны, стало достоверно известно, что оправдываются худшие прогнозы – то, с чем столкнулся Маршал, ожидалось, но не сейчас, а лет через десять, и оборонные программы разрабатывались с учетом готовности к 1988-му. А гром грянул сейчас, в семьдесят восьмом. В самое ближайшее время следовало ожидать радикального изменения баланса сил с НАТОвцами – малоподвижный «Першинг» сменится на «Першинг-2» со временем развертывания около 30 минут. При 10 минутах подлетного времени нейтрализация таких штук – дело непростое. Но это была только половина плохих новостей.
Успехи американской электроники и вычислительной техники позволили вдохнуть новую жизнь в полузабытую тематику крылатых ракет сухопутного применения. Судя по всему, американцам удалось уменьшить высоту полета до30-50 метров – это новые возможности преодоления противовоздушной и противоракетной обороны. Но что еще хуже, главным качеством новых крылатых ракет является их высокая точность – специалисты оценивают в максимум 30 метров. И как показывают документы, разработка вышла на финишную прямую.
Но Николай Васильевич был до мозга костей военным человеком. Быстрая смена обстановки на поле боя – то, с чем сталкивается любой военачальник. Главное – спокойствие.
Угроза, судя по всему, реализуется года через 3 – 4, так что срочно переделывать готовую «Записку» необходимости нет. А что надо делать действительно быстро – это формировать следующий уровень системы боевого управления. Сейчас она для стратегического звена, надо опускать на уровень части, батальона, роты, и здесь не обойтись без вычислительных средств. Упреждать действия потенциального противника. Связь и информация, доступная на поле боя. Группа специалистов уже подготовила техзадание на аппаратное пи программное обеспечение автоматизированной системы управления войсками, есть и потенциальный производитель аппаратуры, так что вопрос созрел.
И без этого никак. Нельзя до бесконечности раздувать армию – главным и решающим условием победы в бою являются разведка объектов противника и точное их поражение. Если органы и средства разведки вовремя предоставили полную и точную информацию о будущем объекте уничтожения, то есть возможность и собрать средства противодействия и вовремя их применить, тем более, когда цель подвижная.
А вот с разведкой дело хуже. Космическими средствами занимается ГУКОС – структура РВСН. До сегодняшнего дня с таким положением можно было мириться, но в свете меняющейся обстановки данные со спутников должны доставляться на поле боя (сейчас хотя бы в оперативный отдел!) А до этого далеко. И спутников мало, а с доставкой информации вообще беда. Этот вопрос тоже надо озвучить.
Особенно в связи с отдельным вопросом – гарантией неотвратимости ответного удара. «Рубеж» – резервная командная система, разработка технических средств идет по плану, а формирование 100% достоверного сигнала на приведение ее в действие?
И как понимать вчерашнее решение Джимми Бартера об отмене ограничений на орбитальное базирование противоракет?
С этими мыслями Маршал поставил подпись в верхнем углу титульного листа. Остальное – предмет отдельного доклада, допустим, «Наступательная операция в ходе ядерной войны».
Большая Ордынка, апрель
Тяжелый характер Министра Ефима Павловича Заславского начал формироваться еще в далеком 1919-м, когда молодой парнишка и лихой наездник был произведен в комвзвода Первой Конной. И с тех пор он привык быть командиром – принимать решения и отвечать за них. Заведующий отделом оборонной промышленности ЦК КПСС Иван Дмитриевич Сорбич формально имел только опосредованное отношение к работе Министерства. Но фактически предложения Сорбича были указаниями, обязательными для исполнения – они напрямую шли в Политбюро и возвращались к Заславскому в виде Постановлений, имеющих силу закона.
«Ивана Грозного» такое положение дел вполне устраивало но для «Ефима Великого» оно было совершенно нетерпимым , так как ставило его в положение человека, отвечающего за чужие решения! Периодически «человек-гора» давал волю эмоциям, что разряжало напряженность, но, в общем, отношения между двумя ключевыми персонами в атомной промышленности более всего напоминали крайнюю стадию «холодной войны». В войне этой перевес был на стороне Сорбича, но в некоторых случаях чрезмерная самоуверенность могла обернуться неприятностями…
Ефим Павлович с облегчением закрыл раздел «Записки» Генштаба; он почувствовал себя готовым к грядущему Научно-техническому Совету ВПК. Министерство отвечало за множество дел, от ядерно-оружейного комплекса до производства благородных и редких металлов, но особое беспокойство и Министра и генштабистов вызывали угрозы высокоточного оружия для структур управления войсками, да и страной в целом. Сами командные пункты проектировались с учетом возможной атаки с применением ядерного оружия, но изначально предполагалось, что военные действия продлятся недолго. А теперь противник может первым ударом обрушиться на объекты инфраструктуры, электростанции будут приоритетными целями, а военные действия могут продлиться недели и месяцы. Командный пункт без энергии – ничто.
Еще несколько лет назад были начаты проекты создания стационарных и мобильных атомных электростанций для военных. Стационарный «Антрацит» должен был размещаться вблизи командных пунктов в высокозащищенных конструкциях, мобильный и быстро разворачиваемый «Кумир» должен перевозиться по железной дороге и давать живительную энергию тем, кому это больше всего понадобится в данный момент.
Главным конструктором обеих установок была фирма Сорбича-младшего, проекты шли по графику и должны были дойти до завода года через два-три. Атомно-энергетический институт работал с полным напряжением сил, конструктора тоже не ленились, но обе установки были действительно новым словом в технике и требовали постоянных усилий весьма квалифицированных людей…
А три месяца назад Иван Дмитриевич придумал «идеологическую задачу партии», после чего эти самые специалисты должны отложить «Кумир» и «Антрацит» в сторону и взяться за доведение до ума «Сапфира»… Иван Дмитриевич Сорбич, похоже, переусердствовал– за тремя зайцами погонишься, так и ни одного не поймаешь! Посмотрим, как будет выкручиваться Виктор Иванович! Победит – значит действительно герой.
Но верилось в это слабо. Созовем НТС и проверим.
Старая площадь, через пару дней
В Москве был серый день уже не зимы и еще не весны; в небе роилась смесь мелкой мороси со снежинками, эта взвесь конденсировалась в капли, падавшие с тоненьких поникших веточек деревьев в сквере у памятника Героям Плевны – Иван Дмитриевич Сорбич наблюдал сию безрадостную картину из окна служебной черной «Волги». Грязный после двухсоткилометрового пути автомобиль подъезжал к дому номер шесть на Старой площади.
Поводом для визита в Атомск была дата, обведенная кружочком на неприметном листе бумаги, хранившемся в личном сейфе Сорбича. Лист содержал сетевой график, сделанный Виктором в ноябре прошлого и послуживший ориентиром для организации памятного декабрьского совещания и последующего Постановления. Сегодня был крайний срок по целому ряду мероприятий, так сказать, точка невозврата. А вот график проектирования, изготовления и испытания космического аппарата был утвержден на самом высоком уровне. ТВ трансляция со штатного образца должна начаться 19 июля 1980 года и не часом позже. Со всеми вытекающими….
Иван Дмитриевич привык быть большим начальником, одним из тех людей, перед которыми заискивают подчиненные и кого боятся академики и директора предприятий. Его власть была очень велика. И в другой ситуации он просто заслушал бы доклады – ясные, четкие и короткие, поругал бы за нерадивость, написал бы представление о партийных взысканиях….
Но не в этом случае. Грядущий НТС будет впрямую касаться родного сына, и большой начальник автоматически трансформировался в Ивана Сорбича тридцати с лишним- летней давности – умного, недоверчивого, схватывающего все на лету, и надеящегося только на себя. Оказалось, что он сам – вполне себе боевая единица. Но от этого лучше не стало – обострившимся зрением можно было увидеть много того, что окружающие успешно скрывали.
За победными рапортами обнаружился затушевываемый факт – о завтрашнем начале испытаний и говорить не стоило, в лучшем случае нужен еще месяц-два.
Это был очень неприятный сюрприз. Он отключил интуицию, поверил сыну, наверное, потому, что очень хотел поверить, а надо было бы сделать так, как он привык – вначале придирчиво и тщательно проверить до начала дела, а не сейчас, то есть после. Тогда, по словам сына, , чтобы взлететь нужен был только хороший трамплин – «важнейшая идеологическая задача». И действительно, все могло состояться, но при одном «но» – задача должна быть решена.
Но то, что он увидел и услышал сегодня, наводило на ясную ассоциацию – четыре месяца назад он построил гору разгона и создал трамплин. Но гладкая гора приземления после трамплина – место триумфа и аплодисментов – существовала только в воображении Виктора Ивановича. Сегодня Иван Дмитриевич увидел вместо профилированной снежной поверхности изрезанное оврагами булыжное поле, приземлиться на которое означало с большой вероятностью сломать шею.
Да еще и какое-то шевеление наверху.
Что же это значило?
Рублево-Успенское шоссе, еще через пару дней
Министр обороны Маршал Сатинов поднялся навстречу вошедшему – Министру иностранных дел – и стукнул в боковую маленькую дверку.
– Юрий Владимирович, бросай цигарку и выходи!
Появился и Андронов, зеленый от нездоровья и бесчисленного количества выкуриваемых сигарет.
Лицо Горемыко было, как всегда, недовольным – поездка неизвестно куда после напряженного дня, возраст, что не говори, непонятный и тщательный контроль автомобиля какими-то очень уверенными в себе людьми в камуфляже, причем охрана не препятствовала….
– Товарищи, извините, что собрал вас здесь, на нашей базе – Дмитрий Федорович повел рукой вокруг себя – просто я уверен, что здесь нету никаких чужих электронных штучек, даже твоих, Юрий Владимирович, не обижайся – Сатинов заметил недовольную гримасу на лице Андронова. – Андрей Андреевич, помнишь наш декабрьский разговор? Мы тут с Юрием Владимировичем поработали, и вот что накопали, – Сатинов, по привычке формулируя четко и ясно, стал излагать содержание «Записки».
Выражение лица Горемыко становилось мрачнее и мрачнее.
– Таким образом, наши НАТОвские друзья просто тянут время, уверенные в том, что в 83-84м говорить будет вообще не о чем, поскольку их преимущество в Европе будет решающим. Так что принимай это как данность на своих переговорах….
В помещении наступила тишина.
– Предложения? – голос Горемыко был резким и скрипучим.
– Простые. Действовать по четырем направлениям. Первое – разворачивание автоматизированных систем управления войсками, к нему второе, к которому уже приступили, но надо ускорить – сеть высокозащищенных командных пунктов, способных функционировтаь у словиях ядерной войны. Третий – собственное высокоточное оружие, и, наконец, четвертый и самой фантастический, что предлагает Свечин – объединение космических и наземных систем разведки и целеуказания, пока в порядке направления развития, но не будем забывать о резервной системе активирования средствами ответного ядерного удара, и вот сюда-то идеи Свечина и ложатся.
Однако все это – три-четыре года, и гигантские средства. На это время мы должны убедить потенциального противника в своей силе и готовности диктовать свои условия, не останавливаясь ни перед чем. –
– Это значит, что дух переговоров меняется, так что ли? От сотрудничества и компромиссов к твердости, а если надо, то и к конфронтации?
– Выходит, так. Извини, но ничего другого на ум не приходит. А мы будем убеждать противника в своей силе как только можем, с Юрием мы уже перекинулись на скорую руку….
– Нужно Решение Политбюро, – после раздумья произнес Горемыко, – но его довольно долго готовить. Времени нет.
– Предлагаю собрать на завтра бюро Совмина в узком составе – нас двое, Косыгин если здоров, Смирницкий, Заславский, от МОМа – министр или зам, ну и Алексанов как Президент Академии Наук. Позвоним сразу, чего тянуть, а после обсуждения напишем протокол и выйдем на Политбюро. А тебе и твоим ребятам, Андрей Андреевич, я могу только посочувствовать, задача у вас – не приведи Господь…
Москва, через несколько дней
Решения Президиума Совета Министров коснулись многих людей в стране, причем неожиданным образом.
На столе у Ивана Дмитриевича Сорбича зазвонил городской телефон. Звонок был частным – этого номера не было ни в одном справочнике.
– Виктор, привет. Как дела? Случилось что?
– Есть важный вопрос. Через неделю вызывают на коллегию Министерства – меня, всю нашу кооперацию, ИИП с сотоварищи, то есть собираются устроить слушания. Мне дано задание подготовиться. Ты случайно, не в курсе, что происходит?
– Первый раз слышу! Никуда не отходи. Попробую прояснить.
Сорбич лукавил. Ему просто не хотелось говорить с сыном .
Буквально вчера все разъяснилось – в обстановке глубочайшей секретности состоялось заседание Научно-технического Совета Военно-промышленной комиссии. Иван Дмитриевич недолюбливал начальника Генштаба Свечина, но Маршал мужик был деловой, и то, что он говорил, было действительно серьезно. Наше военное превосходство в Европе было под явной угрозой. Генштаб предлагал неожиданный выход – автоматизация боевого управления, прозрачность данных от Генштаба до батальона, предсказание действий супостата и раннее формирование нашего ответа на них. Проблема – где эти данные? «Легенда» Савиных показала себя с наилучшей стороны, но это только военно-морской флот. А Штаты, а Европа? Таких спутников должно быть на порядок больше. Какими силами? Куйбышевцы предлагают – система «Аквамарин», аналог «Легенды» для сухопутных войск. И дальше –интегрирование орбитальной группировки с полем боя, а потом, кто знает, речь могла пойти и о мощных вооружениях на борту, для чего вся страна исподволь уже начинала работать…. И энергетика должна была быть куда более сильной, собственно говоря и стационарный «Антрацит», и мобильный «Кумир», начатые несколько лет назад – это тоже «Заря» и Атомск. … Иван Дмитриевич тихо обрадовался, ожидая хвалебных слов о достижениях фирмы Виктора, и самого Виктора как ее руководителя. Вполне логичным было бы предложить кого-то в качестве главного в Союзе по этой проблеме, и кандидатура Виктора Ивановича Сорбича была с его точки зрения самой подходящей.
Однако дело обернулось совсем не так. Мимо фирмы Виктора прошли, даже не вдаваясь в обсуждение. Иван Дмитриевич насторожился – неспроста!
Он аккуратно попытался поднять этот вопрос и был изумлен, когда услышал ответ.
– «Зарю» трогать нельзя, никакие кадровые изменения совершенно недопустимы.Пусть работают по графику, все ведь на них! СНТВ уже через два года, а они и так не успевают. Пусть сконцентрируются, а то по шапке все получим!
Зампредсовмина на секунду остановился и добавил тем же ровным голосом, в котором слышался металл:
– Срываются вообще все программы «Зари» – с меня военные спросят за «Кумир» и «Антрацит» уже в следующем году, а я спрошу с вас! И вообще, выберу время и посмотрю на все своими глазами! –
Леонид Васильевич улыбнулся жуткой ухмылкой крокодила, увидевшего добычу в пределах досягаемости. Зрелище было по-настоящему страшным. Смирницкий не шутил. Заместитель Председателя Совета министров СССР и Председатель ВПК вообще никогда не шутил! В эту секунду Иван Дмитриевич вдруг со всей ясностью понял, что приведенная им в действие машина может не только вознести человека к власти, но и раздавить его – как паровой каток давит муравья, опрометчиво переползающего дорогу.
Единственное, что он смог сделать – перевести разговор с этой темы.
Но похоже, что настоящая разборка будет завтра, на Коллегии Министерства, военная АЭС «Кумир» – подарок еще тот…
Что ж, сыну придется показать себя самому. Когда-то это должно было произойти.
Атомск, май
– Ситуация меняется. Похоже, нас сейчас будут бить не только за «Сапфир». Военные в категорической форме настаивают на срочном доведении до ума «Кумира» и «Антрацита». Более того, несмотря на все возражения Звонарева, испытания «Антрацита» будут проводиться в ИИП на их стендовой базе, и сам Николай Николаевич косвенно стал причиной этого решения. Он очень хорошо говорил о «Кумире», надо отдать ему должное, действительно, проект «Кумир» – исключительно благоприятная возможность (…. опущено – В.С.), где Атомск – абсолютный лидер. В мире нет ни одной подобной концепции реактора, который (…опущено – В.С., по мнению автора, этим аппаратом, погубленным некоторое время спустя, можно гордиться и в наши дни…) уже обладает недостижимыми для конкурентов характеристиками и требует тщательного доведения до ума. И если не АЭИ, то никто; вот и решили отдать на сторону все, что можно. Вы понимаете, в случае неудачи «Кумир» будет просто упрощенной копией «Антрацита», но и от этого не легче – это опять АЭИ и «Заря». В итоге приходим к грустному выводу – до недавнего времени «Сапфир» был главным, теперь – только один из приоритетов, а завтра? -
Удрученный Виктор Иванович Сорбич закончил свой рассказ о событиях на Коллегии.
– Так я считаю, что несмотря на большую роль, которую нам определили, в общем и целом наше положение оставляет желать лучшего. Уж слишком много было дано обещаний….– Положение в стратегическом плане может быть исправлено только одним – успешными испытаниями «Сапфира», насчет СНТВ теперь не знаю, но основной заказчик никуда не делся. .
– Вы правы, – ответил собеседник – главный теоретик этого направления в АЭИ. – Стендовые системы готовы, но надо отдавать себе отчет, что некоторые процессы еще недостаточно изучены, программы-методики не могут вполне отразить степень нашего незнания .
– А какой выход? У нас испытания.
– Хорошо, Виктор Иванович. Давайте собирать совет и действовать установленным порядком.
– Но все же учтите фактор времени! У нас неделя-две, не более, иначе подвисает не только СНТВ, но и остальные наши работы.
1978: Лето без отдыха
Институт, двумя неделями позже
Первый заместитель директора Института академик Валерий Алексеевич Колбасов действовал в соответствии с давно установленным порядком. Он не мог отказаться от чтения текста на желтой бумаге с грифом и красным верхним колонтитулом «Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза» с размашистой резолюцией в верхнем левом углу:



