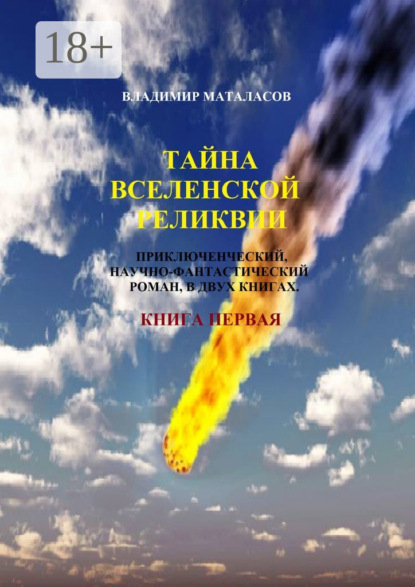
Полная версия:
Тайна Вселенской Реликвии. Приключенческий, научно-фантастический роман в двух книгах. Книга первая
Но тут Гришка осёкся, сообразив, что сказал лишнее.
– Так о них, в общем-то, наша «выдра», завуч, училка по биологии говорит. А тогда, в классе, я просто пошутил, – попытался оправдаться он, виновато улыбаясь и разводя руками, словно желая сказать: «Ну что тут поделаешь? Так уж получилось!»
Шишкин был неважным учеником. Из класса в класс его, в буквальном смысле этого слова, перетаскивали «за уши», и то, благодаря стараниям и усилиям его предка, директора большого моторостроительного завода. В конце концов, он решил перевести и своего отпрыска в пенаты неблагополучной школы, от греха подальше. Это была одна из мер наказания непутёвого сына: авось опомнится и возьмётся за ум.
Дважды второгодник, Гришка был старше своих соклассников почти на два года. Его это в определённой степени даже устраивало: он любил верховодить теми, кто был младше и слабее его. Однако, этого ему не позволяли проделывать над собой ни Остапенко, ни Малышев, что и бесило его.
Впрочем, несмотря на всё это, Шишкин обладал одним большим и неоспоримым преимуществом перед всеми остальными ребятами: то был стопроцентный красавец, которому мог бы позавидовать даже сам Ален Делон. Тщательно, на пробор, зачёсанные чёрные волосы, пышущее здоровьем красивое, холёное лицо, безупречно подогнанный к плотной, стройной, высокой фигуре костюм спортивного покроя, создавали впечатление благополучного, уверенного в себе сына, ученика и великовозрастного подростка. Многие девчонки просто сохли по нему, особенно – Клара Ставицкая, девица под стать своему соседу по парте и, которой он недавно пообещал приобрести по блату – по сносной цене, разумеется, – импортные, французские духи «Шанель 17»…
– Мороженого хочешь? – спросил Гришка и, не дождавшись ответа, подошёл к лоточнице, расталкивая ребятишек, обступивших лоток с мороженым. – А-ну, шкеты, расступись!
Он купил два больших пломбира в фольгированной упаковке и один из них протянул Сапожкову.
– Зачем же ты их так? – кивнул тот в сторону ребятишек, нехотя принимая протянутый ему пломбир: отказываться было как-то неудобно.
– Кого? А-а, эту шантрапу что ли? – с напускным равнодушием попытался уточнить Гришка. – Так то всё мелюзга, не обращай внимания. Лучше знаешь что? Пошли в кино, приглашаю. Говорят, шикарная картина идёт. Правда, название что-то запамятовал. За билет плачу я.
Заметив на лице собеседника признаки нерешительности, он попытался переменить тему разговора.
– А не хочешь, пошли ко мне домой, познакомлю со своим «папа», – предложил Гришка, как-то смешно, с французским прононсом, произнеся последнее слово. – Он у меня – во, мировой мужик, как раз в отпуску. Ну как?
– Знаешь что? Лучше уж как-нибудь в другой раз, – подумав о чём-то своём и распечатав было упаковку, ответил Сапожков. – А за мороженое – спасибо. Мне оно сейчас противопоказано: с горлом что-то не в порядке.
Подозвав к себе какого-то мальчугана, тёршегося в очереди и таращившего на него свои круглые глазёнки, Митя отдал ему свою порцию.
– Бери, дарю! Мне нельзя. Да смотри горло не застуди.
Похожий на большого телёнка, способного краснеть и смущаться по любому поводу, с, казалось бы, навечно прилипшей к лицу застенчивой улыбкой, Сапожков, в несоответствии со своей комплекцией, быстро перебежал дорогу и стремительно вскочил на подножку вагона набиравшего ход трамвая.
– Будь здоров! – только и успел крикнуть он вконец растерявшемуся и расстроенному Шишкину, провожавшего его оторопевшим взглядом. Весь вид Сапожкова, как бы виновато, говорил: «Если, дескать, что не так, прошу извинить!»
– Тьфу! – сплюнул в сердцах Гришка. – Ска-т-тина!
4. Опять – двадцать пять!
Только лишь двое из соклассников не докучали новенькому своими расспросами: Сапожков это приметил сразу. То были Малышев и Остапенко. Они особняком стояли у окна в коридоре и о чём-то переговаривались между собой, ни разу даже не взглянув в его сторону. А им и впрямь некогда было заниматься созерцанием «диковинного объекта». У них были свои, не менее важные проблемы.
– У тебя лист с собой? – спросил Саня, протягивая руку после утвердительного кивка. – Давай сюда, посмотрим.
Кузя достал из кармана брюк аккуратно сложенный лист печатной бумаги и передал его Сане.
Дело в том, что друзья проводили опыты по мысленному внушению на расстоянии по методике американского исследователя доктора Райна, описанной одним знаменитым ленинградским профессором в его книгах.
Методика эта осуществлялась при помощи так называемых карт Зенера. Таких карт было пять, каждая из которых представляла собой небольшой прямоугольный листок белого ватмана с одной из пяти чёрных фигур в виде круга, квадрата, креста, звезды и трёх волнистых линий.
В опыте применялась колода из двадцати пяти таких карт, где каждая из пяти вышеуказанных повторялась соответственно пять раз.
Кузя сам предложил Сане, чтобы именно тот передавал ему мысленную информацию, а сам он будет её мысленно принимать. Это обстоятельство он объяснял тем, что у Сани сильный, волевой характер, а у него, у Кузи, колеблющийся, неуравновешенный, приближающийся к слабому. На том и порешили: Сане быть передатчиком информации, выражаясь научным языком – индуктором, а Кузе – её приёмником, или иначе – перципиентом…
– Да-а, – протянул в задумчивости Остапенко, раскрыв и сверив содержимое обеих листков, своего и Кузиного. – Что-то не особо сходится… Опять – двадцать пять!
Вот уже как целый месяц – вчера был последний день, – они оба, по вечерам, каждый у себя дома, когда все домашние начинали уже видеть первые сны, закрывали за собой поплотнее кухонные двери, устанавливали на столе телефоны, усаживались за него и созванивались. Перед каждым из них находился чистый лист печатной бумаги и шариковая ручка, а у Сани, по левую руку, дополнительно лежала перевёрнутая стопка колоды с картами Зенера.
– Ну что, начинаем? – как правило, спрашивал тот, кто дозванивался первым.
Затем каждый из них клал телефонную трубку на стол микрофоном вниз. Начинал Кузя. Первый его стук тупым концом ручки по столу, хорошо передаваемый по телефону через микрофон и так же хорошо различимый в тишине ночи в наушнике лежащего на столе телефона, находящегося на другом конце провода, извещал индуктора, то есть – Саню, о начале проведения опыта. Он тут же брал левой рукой верхнюю карту колоды, переворачивал её, сразу зарисовывал фигуру, изображённую на карте, а затем пристально, до рези в глазах, сосредоточенно вглядывался в неё.
Кузя же в это время закрыв глаза, зажав ладонями рук уши, старался мысленно воспроизвести очертания той фигуры, которую в данный момент пытался мысленно передать ему Саня. Затем, зарисовав в своём листке наиболее запечатлевшуюся в его воображении фигуру, он вновь, стуком ручки по поверхности стола, извещал Саню о завершении приёма информации. Тогда, последний, откладывал в сторону первую карту и брался за вторую. И так – двадцать пять раз. Каждый опыт продолжался в пределах одной минуты. Поэтому вся серия опытов занимала соответственно 25—30 минут.
За истекший месяц уже было исписано по тридцать листов бумаги с каждой стороны. Но результаты были неутешительными: на каждую серию опытов приходилось в среднем по четыре-пять угадываний, не больше.
– Что дальше-то будем делать? – Кузя с расстроенным видом посмотрел на товарища.
– Давай на этом уроке попробуем ещё раз, – почесав затылок, в глубоком раздумье предложил Саня.
Во время урока, который вёл директор школы Ремез Степан Павлович, учитель истории и географии, со стороны друзей доносились какие-то приглушённые, мерные постукивания и лёгкое движение.
– Остапенко, Малышев! – обратился к ним после звонка директор, внимательно наблюдавший во время занятий за таинственным ритуалом друзей. – Это чем же вы занимались на протяжении всего урока?
– А это Кузька Саньке морзянку отстукивал, – подал с задней парты свой неприятный, бархатный голос Гришка, ревниво бросавший взгляды в сторону Митьки с Кларой, и приметивший в поле своего зрения непонятные ему действия двух соклассников.
– Зайдите-ка ко мне оба в кабинет, после занятий, – сказал директор, пропустив мимо ушей реплику Шишкина, – вместе с вашими записями, – добавил он.
Гришка ликовал, потирая руки…
– Можно? – Переступив порог директорского кабинета, друзья в нерешительности остановились.
– Проходите и садитесь
Степан Павлович сидел за письменным столом и сосредоточенно что-то писал. Зеленоватый свет настольной лампы, освещая письменный стол, падал своим краем на строгое, но доброе лицо, украшенное пушистыми, украинскими усами, слегка красиво завёрнутыми своими концами книзу.
– Спасибо, мы постоим!
– Да нет уж, присаживайтесь!.. Ещё успеете настояться, – не отрываясь от бумаг и не глядя указывая на свободные стулья, произнёс он тягучим, с мягким украинским акцентом голосом…
– Ну, а теперь, выкладывайте и показывайте, что там у вас. – Закончив писать, он оторвался от своих записей и теперь вопросительно смотрел на ребят поверх своих очков.
Те неуверенно, довольно таки неуклюже, полезли в свои карманы и передали их содержимое директору.
– А-а, карты Зенера! – Степан Павлович перебирал в руках колоду карт и смотрел на разрисованные листы. – Ну и как, получается что-нибудь?
Друзья в изумлении переглянулись.
– А вы не удивляйтесь, – сказал он, смеясь своими красивыми, чёрными глазами. – Когда-то и я в свою бытность увлекался работами профессора Василькова. Очень занимательно. Ну и что же у вас тут получается? А ну, а ну! – Он со знанием дела погрузился в расшифровку записей.
– Да-а. Неважнецкие, оказывается, дела, – промолвил Степан Павлович, ознакомившись с результатами опытов и выслушав сбивчивые откровения друзей. – Но руки опускать не следует. Может здесь необходимы какие-то особые условия проведения опытов? Подумайте хорошенько, непременно должно получиться… И вот ещё что, – продолжил он после некоторого раздумья, но уже со строгой требовательностью в голосе. – Чтобы уроки не мешали вашим опытам, убедительно прошу проводить их вне школьных стен, и то, только после того, как будут приготовлены домашние задания. А теперь – ступайте. Ни пуха вам, ни пера!
После того, как друзья, окрылённые моральной поддержкой директора, выскочили из учительской, Кузя три раза боднул лбом стенку и тихо вымолвил:
– К чёрту!
– Да, хлопцы, – донёсся из-за дверей директорский голос, и две головы тут же вновь просунулись в них. – Чуть было не забыл: на днях в наш город приезжает с гастролями мой давний друг и соклассник, Кандаков Борис Николаевич, между прочим – мировой гипнотизёр. Хотите познакомлю?
– Хоти-им! – Дружное радостное восклицание эхом отозвалось в стенах пустынного, школьного коридора.
На следующий день, в субботу, с самого утра к Кузе подошёл Саня.
– Кажется одна идея есть, – шёпотом произнёс он. – Приходи сегодня вечером после занятий. Придёшь?..
5. Наука требует жертв!
В этот вечер в одном из окон квартиры семьи Остапенко долго не гас свет. Две фигуры, низко склонившиеся над столом, освещённым неярким голубым светом электрической лампы, установленной внутри большого, старинного, дедовского абажура, неторопливо вели свои научные споры и беседы. Если бы кто из посторонних, со стороны, глянул на этих ребят, то сразу смог бы определить и оценить не только их внешние данные, но и характер их натур.
Кузьма, маленького роста – что, по-видимому, соответствовало его фамилии, – тщедушный малый с шикарной копной ярко-рыжих волос, покоящихся на голове, имел весьма непримечательное лицо, за исключением больших, серых, близоруких глаз, упрятанных под толстыми стёклами очков в роговой оправе. Он был экспансивен, с взрывным, эмоциональным характером, резок в своих суждениях, быстро воспламенялся, но так же быстро и остывал. В его голове всегда роилось множество всяких идей и догадок, «аккумулятором» которых он по сути дела и являлся. Теоретическая и практическая разработки его идей целиком и полностью, всем своим грузом, ложились на Санины плечи, хотя и у него самого своих идей было хоть пруд пруди.
Саня казался полной противоположностью своему другу. На вид спокойный и рассудительный, он всегда, как мог, умел отстаивать свою точку зрения. Не особо-то требовательный к себе и друзьям, он, по обыкновению, всегда прощал им их маленькие слабости, был очень доверчив, о чём иной раз горько сожалел. Однако, в душе, это была, как и Кузя, эмоциональная, мятущаяся натура, но только обладающая способностью прятать эти качества под оболочкой безмятежного спокойствия.
Среднего роста, со строгими, правильными чертами и овалом бледно-смуглого лица с продолговатым разрезом зелёных глаз, прикрытых длинными ресницами и обрамлённых густыми, чёрными бровями, сходящимися у самой переносицы, в своей, изумительной красоты, украинской «вышиванке», он являл собой типичное дитя далёких Карпатских гор…
– Послушай, Кузя! Что для нас сейчас самое главное?
– Что?
– Ну ты даёшь! Что, да что! Что мы должны в первую очередь предпринять?
– Откуда мне знать? – Кузя никак не мог взять в толк, чего от него добивается Саня. – Сам придумал, сам и отвечай.
– Ну, ладно! – Остапенко ближе придвинулся к столу. – Опыты с картами Зенера – это всё статистика из области теоретической фантастики. Поэтому нам с тобою в первую очередь надо что? – Он уставился на Малышева, открывшего рот и ничегошеньки не понимавшего, а затем продолжал:
– Нам необходимо установить сам факт, повторяю – факт, существования в природе телепатического явления. Или оно есть, или его нет! Третьего не дано. – Саня патетически возвёл свой взгляд в область потолка. – Для этого требуется провести один, всего лишь один эксперимент, но такой, который бы исключал на все сто процентов всякие случайности – совпадения, подсказки, ошибки, и прочее. Следовательно, нужно выработать все необходимые для этого условия.
Саня остановился, перевёл дух и пододвинул к себе одну из книг профессора Василькова.
– Ты послушай, что тут пишется. – Он раскрыл книгу в отмеченном закладкой месте. – Вот! «Многие индукторы считают необходимым не только интенсивно переживать внушаемое задание, но и вместе с тем мысленно направлять его на перципиента, возможно более ярко представив себе его образ».
– Читаем дальше. – Саня взял другую книгу того же автора и, отыскав нужную страницу, продолжил чтение. – «В начальный период, в 80-е – 90-е годы прошлого столетия, усилия учёных были направлены преимущественно на изучение спонтанных, то есть – самопроизвольных, телепатических явлений. Но они наблюдаются сравнительно редко, обычно в результате сильного нервного потрясения, своего рода – „психической грозы“. Повторить такую грозу в лабораторных условиях невозможно!»
– А я утверждаю, что – возможно! – Саня захлопнул книжку и торжественно посмотрел на Кузю, недоуменно хлопавшего своими близорукими глазами. – Ну как? Не понимаешь! Сейчас объясню. Ну, например, можешь ли ты эмоционально, красочно мысленно воспроизвести в своём воображении образ, ну, скажем, кровати, на которой спишь?
– Нет наверное, – прозвучало в ответ.
– А какое-то о-о-очень и очень радостное или…, – запнулся Саня, – трагическое событие, случившееся когда-то в твоей жизни?
– Пожалуй смогу.
– А сможешь ли ты это событие так же мысленно воспроизвести, ну, скажем, на фоне образа своей матери?
– Кто его знает? – задумчиво промолвил Кузя. – Нет, вряд ли, наверное не смогу.
– Вот видишь?! – тихо воскликнул Саня, пристукнув кулаком по столу. – Теперь представь, что, как и всегда, я – индуктор, ты – перципиент. Я тебя хорошо знаю в лицо, ты – меня. И вот мне надо передать тебе мысленно изображение вот этого стола. – Он лихо поддел стол коленкой так, что Кузя даже вздрогнул от неожиданности, и продолжал дальше:
– Для этого, согласно книги, я должен как можно ярче мысленно сформулировать твой образ, а затем, на его фоне, изображение стола. Но у того же Василькова сказано, что, как правило, передаются только очень эмоционально окрашенные события, в основном – трагического содержания, и то – в виде «психической грозы», да ещё… на фоне твоей кислой физиономии, – попробовал пошутить Саня, но тут же осёкся, узрев, как медленно стали опускаться вниз уголки Кузиных губ. – Ну, ладно, ладно тебе Кузя, не хотел! Шуток что ли не понимаешь? Больше не буду.
– Вот ты всегда так: сперва что-то ляпнешь невпопад, а потом только думаешь, – обиженно пробурчал Кузя и… улыбнулся. – А дальше-то что?
– И всё же передать тебе мысленно изображение вот этого стола, – Саня собрался было вновь тюкнуть его коленкой, но вовремя опомнился, – в виде «психической грозы», на фоне твоего лица, как я полагаю, очень и очень даже возможно. Только для этого поначалу надо хотя бы три человека: гипнотизёр, индуктор и перципиент. Представь себе – индуктор и гипнотизёр в одном конце города, а перципиент, не ведающий даже вообще о проведении подобного рода опыта, на другом. Согласно задания гипнотизёр погружает индуктора, то есть – меня, в гипнотическое состояние и приказывает, чтобы я мысленно воспроизвёл образ перципиента, то есть – твой образ, а затем на его фоне мысленно, красочно и эмоционально, в виде всё той же «психической грозы», передал тебе мысленно изображение стола.
– Хорошо! А где мы отыщем гипнотизёра? – вытаращил глаза Кузя.
– Как где? – Саня в недоумении развёл руками. – А о чём напоследок сообщил нам Степан Павлович, не помнишь?
– А-а, ну-ну, помню! – Кузя уже с нескрываемым интересом и любопытством посмотрел на своего друга. – Ну и что же ты предлагаешь?
– Давай договоримся так! – Саня интригующе выдержал паузу. – В проведении опыта будут участвовать пять человек: гипнотизёр, индуктор, перципиент и двое наблюдателей, по одному с каждой стороны. Гипнотизёром будет знакомый Степана Павловича, индуктором – ты, перципиентом – Екатерина Николаевна, а…
– Это чевой-то ты? – воскликнул Кузя. – Почему это я – индуктор? И вообще, причём здесь моя мама? Мы так не договаривались! Ты всё уже успел расписать за меня…
– Послушай, Кузя! Здесь не будет играть существенной роли, кому быть тем или иным. Хороший гипнотизёр из любого сможет сделать хорошего индуктора. Он сможет так усыпить и приказать, что ты вот этот стол за дальнего родственника примешь, да ещё будешь с ним обниматься, а потом – плакать и целоваться. Или же заставит тебя сотрясать воздух мычанием «священной коровы», это какое настроение у него будет.
Саня на минуту замолчал, собираясь с мыслями. Друзей окружала тишина, изредка нарушаемая посторонними звуками, доносившимися с улицы сквозь открытую оконную форточку.
– А мама твоя здесь при том, – продолжал он, почёсывая затылок, – что она самый близкий тебе человек и вы хорошо друг друга знаете. И росточка вы с ней, примерно, одинакового, а это тоже одно из непременных условий проведения опыта. Но ты, Кузя, на всякий случай, ещё раз хорошенько к ней примерься, так, для страховки. А вот мы с мамой моей разного роста, это точно.
Так вот, Кандаков будет гипнотизёром, ты – индуктором, Екатерина Николаевна – перципиентом, а я и ещё кто-то один – наблюдателями. Гипнотизёра мы заранее вводим в курс дела. И вот наступает день «икс». Ты с наблюдателем приходишь к гипнотизёру, а я к тебе домой, к твоей маме – будто бы пришёл навестить тебя, – и под любым предлогом задерживаюсь. Приближается минута проведения опыта. Я сижу себе, болтаю с Екатериной Николаевной о том, о сём, гоняю чаи, а сам, как бы между прочим, внимательно наблюдаю за ней.
Саня заёрзал на стуле, заслышав, как крякнул чем-то недовольный Кузя. Мельком глянув на него, он продолжал:
– В это же самое время гипнотизёр вводит тебя в состояние гипноза и приказывает мысленно воспроизвести образ твоей мамы, вплоть до галлюцинации. Затем приказывает тебе на том же фоне её образа мысленно воспроизвести какое-нибудь сильно эмоционально окрашенное событие, в виде «психической грозы», ну, например, что на тебя напали хулиганы, а ты от них отбиваешься и призываешь свою маму на помощь… Вот и всё! – выдохнул облегчённо Саня. – Только и всего-то.
– А вот и не всё! – окончив над чем-то размышлять, воскликнул Кузя. – Ты говоришь, что в это время будешь разговаривать с моей мамой, гонять чаи. Но тогда ты будешь всего лишь навсего помехой для проведения опыта.
– Как это так – помехой? – удивился Саня. – Объясни, что-то не пойму.
– А тут и понимать нечего потому, что состояние моей мамы в этот момент должно быть пассивным, отключённым от внешнего мира, – продолжал Кузя, всё больше и больше утверждаясь в промелькнувшей в его сознании догадке. – Поэтому, ко всему сказанному тобой необходимо добавить, что мама тоже должна быть предварительно погружена в гипнотический сон.
– Кто – я что ли загипнотизирую её? – Саня разочарованно посмотрел на своего друга.
– Да нет же! – с досадой вымолвил Кузя. – Всё остаётся, как есть. Только лишь делаю небольшую поправку: погрузив меня в гипнотическое состояние, Кандаков должен приказать мне воспроизвести мысленно образ моей мамы, но только – засыпающей, и, наконец – заснувшей. Таким образом, гипнотизёр, через меня и с моей помощью, загипнотизирует, то есть – усыпит, мою маму, тем самым отключив её сознание от внешних раздражителей. А потом всё должно быть так, как ты и говорил.
– Голова-а-а! – Саня с восхищением посмотрел на Кузю. – Так! Значит остаются открытыми три вопроса: кто будет вторым наблюдателем, каким будет содержание внушаемого события и когда прикатит гипнотизёр. Со вторым и третьим проще, с первым – тяжелей.
Тут Саня заметил, что Кузя как-то сник и насупился, зажав ладони рук между коленями.
– Ты что это приуныл?
– Слушай, Сань, – с какой-то растерянностью на лице и слегка покрасневшими веками, вымолвил Кузя. – Мне маму жалко! Что она мне плохого сделала?
– Э-э-э, заныл! Жалко, да жалко! Жалко только у пчёлки бывает. – Саня с напускным презрением посмотрел на товарища.
Многозначительно возведя указательный палец к потолку, он изрёк с серьёзным видом:
– Учти, Кузька! Наука требует жертв!
– Ничего себе, нашёл жертву! – пробурчал себе под нос Кузя и расстроено махнул рукой.
6. Ночное происшествие
Домой Кузьма Малышев возвращался уже запоздно, в начале двенадцатого часа ночи. Улица, освещаемая светом экспериментальных ксеноновых ламп, установленных в современных алюминиево-пластиковых плафонах, была почти безлюдна.
Разноцветные, мигающие контуры витрин и афиш, резко контрастируя на фоне погружённых во тьму оконных проёмов и арок домов, дополняли симфонию сентябрьской ночи, которая выдалась на редкость звёздной, лунной и холодной.
Город готовился ко сну. В воздухе висела свойственная для обычного штатного города тишина, нарушаемая далёким, глухим рёвом авиационных двигателей, проходящих стендовые испытания на моторостроительном заводе, расположенном далеко за чертой города, редкими гудками автомобилей, да приглушёнными шагами и голосами торопящихся ко сну прохожих.
Крутогорск, обычный провинциальный город, вмещавший в себя до сотни тысяч жителей, был не так уж велик, но и не так уж мал. Старинный купеческий город, когда-то, давным-давно, построенный деловыми людьми на оживлённом пересечении дорог с некогда шагавшими по нему богатыми, разноязычными торговыми караванами, следовавшими в Москву, Петербург, Киев и Бог весть знает ещё куда, живописно раскинулся на склоне одной из возвышенностей, характерных для этих мест. Одним своим концом он упирался в край сравнительно неширокой ленты реки, а другим, уходя вверх и переваливаясь через вершину возвышенности, он снова опускался вниз, но уже с обратной её стороны. Окружённый лесным массивом, начинавшимся где-то там, далеко, за противоположным берегом реки, и охватываемый им подковой, город своей окраинной частью растворялся в бескрайних просторах лесостепи с её небольшими низинами и холмами, поросшими, в основном, берёзовым редколесьем.
Несмотря на сравнительно большую удаленность от областного центра и других городов, Крутогорск был одним из крупных промышленных, научных и культурных центров России со своими заводами и фабриками, институтами, школами и поликлиниками, драмтеатром и филармонией, и всем остальным, что присуще современному городу…
– Эх, и перепадёт же мне от мамы! – размышлял Кузя, никогда ещё так поздно не возвращавшийся домой.
На противоположной стороне улицы, метрах в пятидесяти, распахнулись двери кинотеатра, выплёскивая из чрев своих толпу ночных зрителей, растекавшуюся по проулкам и подъездам домов. В сторонке, под сводчатой аркой городского ломбарда, остановилась какая-то шумная компания, среди голосов которой Кузе почудился чей-то очень знакомый голос.
Зябко кутаясь в лёгкое демисезонное пальтишко, спрятав руки в карманы, Кузя и не заметил, как перед ним, словно из-под земли, выросла худосочная, долговязая фигура Мишки-Клаксона.



