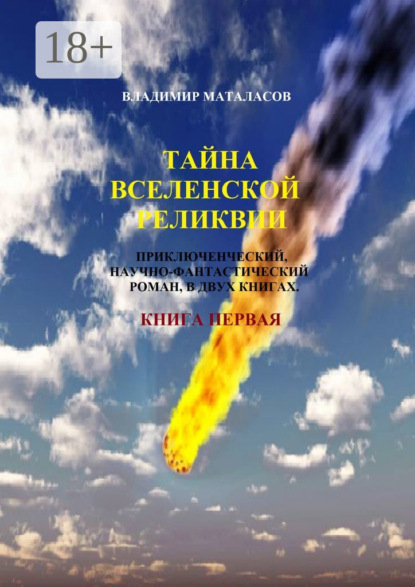
Полная версия:
Тайна Вселенской Реликвии. Приключенческий, научно-фантастический роман в двух книгах. Книга первая
– О-о-о! – радостно воскликнул он, открыв крышку очередной кастрюли, покоившейся на подоконнике. – Наше вам здрасьте, петушок-золотой гребешок!
– Это ты кому? – попытался уточнить Саня.
– А вот ему! – Митя поднял миску и показал друзьям её содержимое. – Петух у нас такой презлющий, вредный был – царство ему небесное, – на всех бросался. Батя ещё вчера грозился его зарезать, и вот он, как миленький. Ну что, хоть от этого не откажитесь?
– В общем-то, лично я, испытываю смешанные чувства в этом более чем гостеприимном доме, – как-то сразу потеплел и обмяк Остапенко.
– А я думаю, что в мой желудок неплохо бы вписалась петушиная лапка, – поспешил Малышев разделить чувства друга.
– То-то и оно! – наставително-поучительно произнёс Сапожков, разделывая петуха на три части и раскладывая их по тарелкам. – Правда он что-то не особо большим и жирным получился, ну, да ладно. Недаром таким нервным был, чертяка.
Одним махом расправившись с горластым забиякой, они, незаметно для самих себя, в пять минут, уничтожили почти половину всего того, что стояло на столе в давно уже остывшем виде…
Проводив друзей до трамвайной остановки и распрощавшись с ними, Митя воротился назад. Родители были уже дома. Любовь Матвеевна к этому времени успела прибрать со стола и мыла посуду.
– Сынок! – окликнула она его, когда тот, раздевшись, собирался было проследовать в свою комнату.
– Чего, мам?
– А где миска, что стояла на подоконнике?
– А-а, – протянул Митька, – с петухом что ли? Так мы его съели, а…
– Как – съели? – изменившись вдруг в лице и невольно втянув голову в плечи, полушёпотом переспросила она.
– Как, как! Очень просто! А что – жалко? Ведь друзья, ни кто-нибудь!
– Да я не о том… Какое там – жалко? – протестующе воскликнула она. – Лишь бы на здоровье!.. Ну и как?
– Что – ну и как? Во, мировой был петух! – подтвердил сын свои слова выразительным жестом поднятого вверх пальца…
На следующий день, поднявшись ни свет ни заря, и выйдя на двор покормить кур, Митька, к величайшему своему изумлению, увидел петуха, которого они вчера съели. Тот, как ни в чём ни бывало, важно ступая по снегу, не спеша, с достоинством, прохаживался между курами и подозрительно, косо поглядывал на Митьку.
– Мам, а мам! – срывающимся голосом позвал он свою мать.
– Чего тебе, сынок? – спросила та, выйдя на порог дома.
– А батя разве вчера не зарезал петуха?
– Да нет! Пусть ещё немного покукарекает.
– А что же мы тогда вчера съели?
– Ворону, Митюш, ворону, – после недолгого замешательства и раздумья как-то виновато призналась она.
– Как – ворону?
– Да так, ворону, и всё тут. Вчера утром Пушок её задрал, – кивнула она в сторону пушистого кота, лениво сидевшего возле ступенек крыльца и с мурлыканьем облизывающего свою лапу. – Задрал, а есть не стал, бросил. Так я подумала: «Дай общипаю, да сварю, глядишь – и съест её». Только ты уж, пожалуйста, не напоминай об этом своим товарищам… Хорошо?
Из Митькиной груди вырвалось нечто похожее на сдавленный стон, или – рыдание. В эту минуту ему стало как-то всё безразлично и тоскливо, а мир показался тесным и неуютным.
Глава третья. Необычные дела и заботы
1. Опять приключение!
Седьмой класс был закончен, успешно. Если бы не результаты двух первых учебных четвертей, то школа пополнилась ещё бы тремя отличниками. Но и этого было вполне достаточно, чтобы вызвать удивление некоторых из преподавателей, когда-то махнувших рукой на успеваемость троих подростков, и усомнившихся, к своему стыду и позору, в их умственных способностях.
На дворе стояло лето 1985 года. Саня с Кузей только что закончили собирать схемы радиоуправления моделями. На это у них ушло целые три недели. Сложными схемы не были, но требовали тщательной настройки и регулировки. Сапожков заранее оговорил габариты приёмника, его вес и способы крепления на моделях. Он должен был быть изготовлен с таким расчетом, чтобы его можно было разместить на любой из имевшихся в Митькином арсенале радиоуправляемой модели. К передатчику, обычно пребывающему на земле у оператора, подобные требования не предъявлялись.
Тёплый июньский день щедро одаривал землю нестерпимо яркими лучами солнца, проникавшими тонкими нитями сквозь листву деревьев, свежим дыханием реки и пьянящим запахом только что скошенных газонных трав. Друзья решили устроить себе небольшую передышку. Они молча брели по улице, погружённые каждый в свои мысли, изредка поглядывая на прохожих и витрины магазинов.
– Эй, вольношатающиеся! – донёсся до их слуха до боли знакомый голос.
Разом повернув головы в сторону раздавшегося возгласа, ребята узрели Сапожкова, на ходу спрыгнувшего с подножки громыхавшего по рельсам трамвая и бегом направлявшегося в их сторону.
– Ты чего с утра не пришёл, как договаривались? – спросил Малышев.
– По хозяйству задержался. А теперь ещё и в поликлинику надо сходить. Так что приду попозже.
– А что ты в этой поликлинике потерял, никак заболел? – спросил Остапенко, удивлённо округлив глаза: Саня явно издевался.
– Ничего не заболел. Просто вчера медсестра ходила по домам, агитировала явиться на профилактическую прививку. Ну, раз надо, так надо.
– Да брось ты всё это, смотри какой вон здоровый, а всё туда же, – стал иронизировать Малышев. – И не стыдно больным прикидываться?
– Но я же маме пообещал, что проверюсь.
– Проверюсь, проверюсь, – передразнил Остапенко. – Допроверялся один такой. Ты ещё не знаешь этих докторов: они из здорового кого хочешь больным могут сделать, только попади им в лапы. Даже анекдот такой есть. Приходит один вот такой же больной, как ты, на проверку, а врач и спрашивает его:
– Ну, что у вас болит?
– Да ничего.
– Как?.. Значит – здоров?..
– Как бык, доктор!
– Ну что ж, батенька! В таком случае будем лечить!..
– Или вот ещё, про рассеянного врача, – вмешался в разговор Кузя. – Приходит к врачу старенькая бабушка. Врач спрашивает:
– На что жалуетесь, бабуля?
– Да вот что-то маленько прихворнула, сынок.
– А-а!.. Ну что ж, … хворайте себе на здоровье!.. Следующий!..
Ребята громко и весело рассмеялись, особенно Митька.
– И то правда! А ну их! – махнул он рукой – «профилактическая обработка» завершилась успешно, – и зашагал рядом с друзьями.
Они уже подходили к Кузиному дому, когда ещё издали их внимание было привлечено непонятной людской суетой на противоположной стороне улицы, вокруг какого-то незримого события. Ребята подошли ближе. Толпа, человек в пятнадцать, полукольцом окружила узкий простенок – шириной сантиметров в двадцать, – между двумя близко расположенными, соседними домами, оживлённо о чём-то переговариваясь и энергично жестикулируя руками, указывая в сторону узкой щели и норовя заглянуть в неё. Отовсюду неслись какие-то вопросы, советы и даже перебранки.
– А машину пожарную вызывали? Нет? Ну как же так можно? Срочно надо вызывать, пока не поздно!..
– Товарищи, товарищи, расступитесь! Воздуха, воздуха дайте побольше!..
– Выход один: разобрать стену!
– Как это так – разобрать? У меня там как раз рояль стоит. Не позволю! Ишь ты, нашёлся один такой! Я т-т-те разберу!
– Да ведь дитя же погибает!
– Погибает? А где же родители были, куда смотрели? Их бы туда запихнуть!..
– Что там такое приключилось? – спросил Сапожков какого-то приземистого, коренастого мужчину с лихо закрученными кверху пышными усами, облачённого в джинсы и спортивную майку.
– Да пацан там какой-то застрял между стенками, – пояснил он озабоченно. – Минут пятнадцать уже как вытаскивают, никак вытащить не могут.
Пробившись сквозь утолщающееся, живое и колышущееся полукольцо, и оказавшись в центре событий, ребята попытались выяснить обстановку. Малышев сразу же сообразил, кто именно является виновником происшествия, увидев бабушку Феню с печным ухватом на длинной ручке, которым она тыкала куда-то в узкую брешь между домами и причитала надтреснутым, плачущим и дрожащим голосом:
– Вовик, внучек, хватайся, миленький, за ухват-то!.. Не хватается? Ах ты Господи Боже мой!
Кузя попытался заглянуть в щель, сбоку, и увидел застрявшего в узком проходе Вовку Метёлкина. Выяснилось, что он очутился там, пытаясь поймать чью-то курицу, проскользнувшую в этот злосчастный проём в поисках пищи насущной. Теперь несчастный Вовка стоял зажатый стенами не в силах сдвинуться с места и тихо, жалобно ныл. Его и толпу разделяло расстояние метра в четыре с лишним. Что только не совали ему: и длинную жердь, и доски, и верёвку, и металлическую трубу. Кто-то даже не поленился приволочь новенькую оконную раму. Всё было напрасно. Баба Феня металась, как угорелая, вся в слезах, охая и стеная. Толпа зевак росла. Откуда-то появился милиционер. Он принялся выяснять обстоятельства дела и наводить порядок, предлагая всем разойтись.
Примчалась пожарная машина с командой пожарных. Но и их отчаянные попытки вызволить невольного пленника из цепких стенных объятий, не увенчались успехом.
– Стенку, стенку с обратной стороны разбирать надо! – вновь послышался знакомый голос.
– Не позволю!
– А тебя, тётя, и спрашивать-то никто не будет!
– Хулиган!.. Нахал!..
– Чьей квартире принадлежит стена? – властным голосом спросил самый главный пожарник.
– Вот её! – раздался всё тот же настырный голос.
– Она не моя, она – государственная! У меня там рояль стоит и ковры на стене персидские развешены. Разбирать не позволю! – возмущалась какая-то женщина с ужасным негодованием в голосе: это, по всей видимости, была «хозяйка стены».
Друзья стали держать совет.
– Что делать-то будем? – спросил Малышев, обращаясь к друзьям. – Надо выручать, ведь и впрямь, на глазах погибает.
– Смазать его надо, – выдал вдруг Сапожков, – смазать, машинным маслом, с помощью огородного распылителя. У тебя, Кузя, он, по-моему, имеется.
– Всё понял! Я – мигом! – воскликнул тот и скрылся в толпе.
– Дяденька! – обратился Саня к главному, по его мнению, пожарному, дёрнув его за рукав.
– Чего тебе, пострел? – Пожарник посмотрел на того отсутствующим взглядом, а весь его вид говорил: «Ну что ты здесь всё крутишься под ногами? И без тебя хлопот не оберёшься!»
– У вас машинное масло есть?
– Есть! – машинально ответил главный, занятый своими проблемами.
– Нам бы целое ведро надо.
– Это кому же – нам? – словно опомнившись, в недоумении спросил он обращавшегося к нему подростка. – Да и на что вам масло-то?
– А мы смажем им пострадавшего, для уменьшения величины силы трения, – отрапортовал за друга вынырнувший из толпы Малышев, в руках которого поблескивал огородный распылитель.
– Ламинарной струёй его, без насадки, – добавил Сапожков. – От турбулентной струи придётся отказаться. – Митька, видимо, решил блеснуть своими познаниями в области гидродинамики.
Главный как-то искоса, недоверчиво посмотрел на ребят, смерив их строгим, озабоченным взглядом, а потом, в сердцах сплюнув и безнадёжно махнув рукой, приказал кому-то из своих подчинённых:
– Булдыкин! Ведро машинного масла сюда, да поживей!
Проём был погружён в зловещую тишину, изредка нарушаемую кряхтением и посапыванием бедного Вовки…
– Готово! – объявил Саня, выкрутив из подающей трубки распыляющую головку. – Качай!
– Поехали! – отозвался Малышев. – Только хорошенько целься, так, чтобы точно между прилегающими поверхностями пришлось.
Митя стоял рядом с длинной четырёхметровой жердиной наизготове. Толпа выжидательно притихла.
– Вовик! – окликнула дрожащим голосом баба Феня своего внука, заглядывая через Санино плечо в темноту щели. – Ты ещё живой? Ты меня слышишь, а?
– Слы-ы-ысу! – отозвался еле слышно натуженным голосом внук, обращаясь неведомо к кому: лицо его было обращено в сторону убежавшей курицы, развернуть голову он не имел возможности по причине малой ширины пролёта.
– Вовик! Ты только не пугайся, ангелочек ты мой, – жалобно приговаривала баба Феня. – Тебя сейчас дяди начнут поливать, так ты уж терпи, родненький!
Кузя уже во всю работал помпой насоса, а Саня сплошной, тонкой струёй машинного масла вёл прицельный полив жертвы несчастного случая.
– А ну, подёргайся! – прокричал Саня малышу.
– Не дё-ё-ёлгается! – проныл тот кряхтя.
– Кузя, качай дальше!
В щель было видно, как, обильно поливаемый маслом, неподвижно и безропотно стоял маленький человечек, покорившись своей судьбе и отдавшись на волю Провидения.
– А ну, ещё попробуй подрыгаться! – вновь обратился Остапенко к терпящему бедствие.
И тут Вовка, немного поюлив пузом по стенке, вдруг сдвинулся с места и мелкими боковыми шажками стал этак быстро-быстро выдвигаться из щели. Через полминуты он стоял перед публикой во всём своём «великолепии». Вид его был жалок. Некоторое время Вовка стоял неподвижно, ещё не веря в своё спасение и обводя незнакомые лица круглыми, перепуганными глазёнками, а потом, медленно скривив свой рот, громко разревелся. Толпа вмиг сомкнулась кольцом вокруг потерпевшего, одаривая отеческой заботой и сочувствиями, забыв о его спасителях…
Малышев хорошо знал шестилетнего Вовку Метёлкина. С ним вечно что-нибудь да приключалось: то он учился летать с зонтиком с крыши одноэтажного дома, или через глубокую канаву, прихлопывая и размахивая руками; то пытался прокатиться на переднем буфере трамвая, сгорая желанием навестить свою маму на работе – к его счастью это заметила проходившая невдалеке совершенно посторонняя женщина, вовремя остановив трамвай; то он, прыгая на верхней ступеньке высокой деревянной лестницы, провалился сквозь неё, зацепившись, к счастью, краем рубашки за верхний угол открытой внизу двери, и повис на ней; то он раздробил себе палец, пытаясь ударить железнодорожным костылём по свинцовому пистону от воздушки в надежде, что тот бабахнет, и многое что другое.
Знал Кузя и самое сокровенное Вовкино желание, о котором тот поведал ему как-то один раз под большим секретом.
– Когда я вырасту большим, – горделиво говорил он, – то куплю моей маме ситцевое платье и барабанные палочки. Вот!
Откуда и как взялось это странное желание, он и сам не мог впоследствии объяснить. Пройдёт очень много времени, ребята станут взрослыми мужчинами, и как-то раз Малышев, случайно встретив Владимира Ивановича Метёлкина – философа с мировым именем, спросит его:
– Ну как, Вовик? Осуществил своё желание?
– Увы! – как-то тяжело вздохнув, с горечью в голосе, ответит тот. – Нет, не успел. Всё чего-то тянул… Умерла моя мама!.. Если б я знал!..
– Да-а-а, – пребывая в задумчивости и вспоминая далёкое детство, с неподдельным сожалением в голосе вымолвит Кузя. – Видать, Вовка, судьбу свою в замочную скважину не подсмотришь! Такие-то, брат, дела!
Но это будет потом, много лет спустя. А сейчас друзья шли, радуясь тёплому, летнему дню, ярким, ласковым лучам небесного светила и чувству сознания честно выполненного долга.
До позднего вечера провозились они над окончательной доводкой аппаратуры радиоуправления, успешно завершив её к тому времени, когда глаза их находились на грани короткого замыкания.
А утром следующего, воскресного дня к Екатерине Николаевне наведались Вовкины родители с… жалобой на непозволительные действия Кузи и его товарищей, приведшие в полную негодность новенький костюмчик их чада, недавно купленный и подаренный ему ко дню рождения.
2. Испытания «Альбатроса»
Близился день лётных испытаний первой реактивной авиамодели – «Альбатроса», как окрестил её Сапожков. Он отлично слушался команд запуска и остановки двигателя, регулировки мощности, управления аэродинамическими рулями, срабатывания тормозных систем и прочее. Предварительно было выбрано и место для проведения испытаний – относительно безлюдная, степная зона с ровной, как стрела, просёлочной дорогой в шести-семи километрах от города.
– Взлётно-посадочная полоса – вот эта самая дорога, – утвердительно произнёс Сапожков, поведя рукой вдоль пыльной ленты дороги, на которой стояли все трое. – Модель выводим на круговую траекторию с радиусом в пятьсот метров с таким расчетом, чтобы, делая каждый раз очередной круг, она пролетала над нашими головами. Это для того, чтобы можно было произвести её посадку на то же место, откуда она взлетела. Высота полёта – тридцать метров. Скорость, по моим скромным подсчётам – бешеная, километров пятьсот в час.
– Ух ты! – невольно вырвалось из Кузиной груди.
– За три минуты работы двигателя, – продолжал Сапожков дальше, – она должна преодолеть путь длиной не менее, чем в двадцать пять километров и сделать около восьми кругов. Безотказность системы управления гарантирована. Работа – ювелирная, особенно «взлёт-посадка». Испытания проводим завтра, с утра…
В четыре часа утра Остапенко с Малышевым на велосипедах подкатили к дому Сапожковых. Через пять минут модель была погружена на поджидавшую их телегу с запряжённой в неё древней кобылой. Управлял транспортным средством такой же древний, низенький, жилистый дед Семён, пообещавший Митьке подкинуть честную компанию к заранее обусловленному месту: сам он ехал на сенокос. Ребята вскочили на телегу и экипаж тронулся в путь.
Утро только занималось лёгким багрянцем далёкой кромки горизонта и дышало свежестью леса, луговых трав и запахом дыма, исходившего и струившегося из печных труб где-то растапливаемых русских печей: пекли домашний хлеб. Покой и тишина, окутывавшие, казалось, всю землю, нарушались лишь мерной поступью кобылы, да монотонным поскрипыванием колёс телеги. Утренняя свежая прохлада, наполнявшая воздух, проникая сквозь все доступные места одежды, отгоняла дремоту и наполняла сознание необыкновенно живительной силой. Наступал ещё один, новый, день планеты.
– Пошто в таку рань выпрямились? – спросил дед Семён. – Аль не спится?
– Не спится, дедушка, – нехотя ответил Сапожков, зябко ёжась и кутаясь в старенький пиджачок.
– Чего среди поля-то будете одни маячить? Никак забота привела?
– Забота, дедушка Сеня, забота: испытывать будем.
– Испы-ы-ытывать?.. Ишь ты! Вона как? – со значением произнёс тот. – Вот эту штоль? – кивнул он в сторону обёрнутой парусиной поклажи и, получив утвердительный ответ, добавил: – Конечно, ежели то всё ради забавы, то это вроде бы и ни к чему, пустое дело. А если с жизненным прицелом, то – благостное. Вот у меня, дома, тоже один испытальник завёлся, внук, значит: ракенту смастерил. До неба, правда, немного не добрала, духу, видать, не хватило, да прямо на крышу так и шмякнулась. Хорошо, что не деревянная, крыша-то – шихфером покрыли намедни, – а то спалил бы дом, как пить дать спалил. Теперя что-то снова мастерит, не говорит – что, секрет, значит. Да-а-а, такие-то дела!
За городом дед Семён припустил гнедую рысцой и через полчаса ребята были на месте. Распаковав модель и бережно взяв в руки, Сапожков установил её на проезжую часть дороги. «Альбатрос» мирно приник к земле и в этот момент больше всего оправдывал своё название, широко раскинув полутораметровые, полусложенные крылья. Отблески утренней зари холодно мерцали и отливали тусклыми полосами и искрящимися точками росы на фольгированной поверхности его корпуса.
– Эко диво! – удивлённо воскликнул дед, узрев необычную конструкцию и, снедаемый любопытством, позабыв об основной цели своей поездки, добавил: – Ну-кась и я с вами маленько потешусь, если вы, конечно, не против.
– Какие могут быть разговоры, дедушка Сеня?! – откликнулся добродушный Сапожков. – Только вы лошадку-то подальше от дороги отведите.
Саня извлёк из хозяйственной сумки передатчик и передал его Мите. На шею себе он нацепил полевой, цейсовский бинокль. Каждому на время испытаний отводилась своя роль: Сапожков должен был управлять полётом, а Остапенко визуально за ним наблюдать и корректировать действия оператора через Малышева.
– Ну что, начнём? – обратился Сапожков к друзьям, включив бортовую, электрическую систему питания «Альбатроса» маленьким движком на его фюзеляже. – В общем, гоняем восемь кругов. Сажаем на этом же самом месте.
Все перешли на обочину дороги, сгрудившись вокруг Сапожкова и наблюдая за его действиями. Дед Семён стоял, с недоверием и любопытством поглядывая то на друзей, то на модель, то на передатчик в Митькиных руках.
– Поехали! – решительно произнёс Сапожков и нажал кнопку питания передатчика, усердно манипулируя его ручками управления.
Конструкция, словно стряхнув с себя сонную дрёму, вздрогнула несколько раз всем своим корпусом в такт гулко чихнувшему двигателю, который стал быстро набирать обороты, переходя в протяжный свист высоких тонов. Холодный, блестящий корпус «Альбатроса», покрытый тонкой водяной плёнкой свежего дыхания утренней зари, мелко дрожал подобно какому-то живому существу, готовому устремиться вперёд, но ещё чем-то сдерживаемому.
– Помалу отключаю тормозную систему, – прокомментировал Сапожков очередные свои действия.
Конструкция плавно тронулась с места и, быстро набрав скорость, через двадцать-двадцать пять метров оторвалась от земли. Подобно стреле, выпущенной туго натянутой тетивой, она красиво взмыла вверх.
– Лево руля! – скомандовал Остапенко, наблюдавший в бинокль. – Круче бери, не то уйдёт!
«Альбатрос» послушно ложился на заданный курс. Он хорошо просматривался невооружённым глазом, сверкая в пробивавшихся из-за горизонта солнечных лучах серебром своих очертаний и оставляя за собой короткий, дымный след молочного цвета, дрожащий в сполохах огня работающего двигателя. Вот он прошёл над одиноким холмом, поросшим березняком, направляясь по окружности в сторону своих повелителей. Все четверо зачарованно наблюдали за его полётом.
– Едрит-т-т-твою мать! – испуганно воскликнул дед Семён, аж присев и разводя в стороны руками, когда «Альбатрос» пронёсся в тридцати метрах над головами наблюдателей. И так каждый раз после завершения очередного круга, когда «Альбатрос» шёл на испытателей и пролетал над их головами, дед повторял одно и то же восклицание, приседая и разводя руками в стороны, будто приплясывал «Камаринского».
Кобыле надо было отдать должное. Её ничуть не волновало впечатляющее зрелище: она мирно пощипывала травку, стоя неподалеку от обочины дороги и довольно помахивала из стороны в сторону своим тощим хвостом.
Шум работающего двигателя, до боли в ушах прослушивавшийся в стенах закрытого помещения, здесь глушился и поглощался вязкостью густого, влажного воздуха, свежестью нежного травяного покрова и живительных испарений пробуждающейся земли.
– Скоро произвожу посадку, – сообщил Сапожков, не глядя в сторону друзей и работая ручками настройки передатчика. – Всех прошу отойти подальше за обочину.
Мелькнув мерцающими огнями раскалённых газовых струй реактивного сопла, «Альбатрос» вышел на завершающий восьмой круг. Было видно, как он, находясь на полпути кольцевой траектории, строго подчиняясь радиокомандам, пошёл на снижение. Посадка – заключительный, самый сложный и ответственный элемент полёта. Качество его выполнения зависит только лишь исключительно от мастерства оператора. В трёхстах метрах «Альбатрос» снизился до высоты бреющего полёта и через несколько секунд с отключённым двигателем бесшумно и плавно коснулся поверхности грунтовой просёлочной дороги и, не сделав при этом почти что ни одного подскока – «козла», кротко и покорно остановился в пятидесяти метрах от командно-наблюдательного пункта. Ответственность момента, правильно осознанная Сапожковым, осталась позади.
Душа друзей ликовала, торжествуя победу. Все бросились к «Альбатросу». Даже дед Семён, и тот поспешно поковылял за ребятами, не поспевая, правда, за ними.
Окружив серебристую птицу, каждый жаждал дотронуться до её корпуса. Совсем ещё тёплая, недавно трепетная и стремительная в воздухе, на земле она нежилась в лёгких прикосновениях и поглаживаниях её создателей и почитателей. Лица друзей, преобразившиеся удлинёнными до ушей ртами, сияли блеском горящих глаз.
– А здорово всё-таки получилось, – промолвил восторженный Малышев.
– А работа, Кузя, – более сдержанно добавил Остапенко, – Митькина работа: ювелирная! Не глаз – ватерпас. Да-а, ты всё-таки, Митька, у нас того – гений!
А тот стоял, скромно потупив свой взгляд, и улыбался простодушной, детской улыбкой.
– Да что там – Сапожков! Если бы не вы, «Альбатрос» ой как не скоро бы ещё взлетел, – ответил он, отдавая должное помощи и поддержке своих друзей. – А может быть и никогда не взлетел бы.
– Забавна, оказыватся, штуковина-то, – в задумчивости молвил дед Семён, делая обход вокруг модели и одобрительно покачивая головой. – Потешили старика-то на исходе жизненных лет, потешили. Только вот в толк никак не могу взять: а прохпеллер-то куды подевался? Потерялся небось?
– А ему не нужен пропеллер, дедушка, он реактивный, – пояснил Сапожков.



