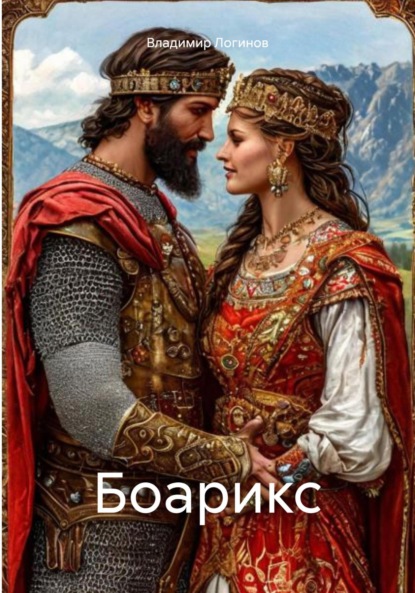
Полная версия:
Боарикс
Вечером, на очередной стоянке, старшина каравана, не сходя с лодьи, уткнувшейся в берег, крикнул охране:
– Эй, Родька! Ходи на тот берег! Хоша выспитесь в спокое!
Охранники загасили разгоревшийся, было костёр, сняли с себя железо, сложили на лодью, и в пропотевшей одежде поплыли с конями на правый берег. Там уже горело несколько костров, разведённых гребцами, пахло просяной кашей из больших общинных котлов и мясом дикой свиньи.
Развесив мокрые подштанники и рубаху на рогатый кол возле костра, Родий нагишом уселся на брошенное тут же седло обсохнуть после невольного купания в холодной воде. Насмешливо спросил старшину, сидевшего рядом:
– Где поросёнком-то разжились? Неужто с собой в таку-то даль везли?
Старшина, седоватый, но крепкий ещё мужчина, коротко хохотнув, ответил:
– Тхе, да оне тута, свиньи энти, толпами ходют! Окромя ромеев из Танаиса кабанов энтих никто не трогает! Для булгар и алан кабан – священная животина! Гунны, иже здесь ране обретались, тако за своево предка кабана почитали! Тако-то вот, паря!
Родий, согласно кивнув головой и посуровев, заговорил о другом:
– Ты, дядя Грива, всерьёз, похоже, мыслишь, што буртасы аль булгары на энтом берегу нас не достанут?
Старшина, указав пальцем на кожаные штаны, висящие на втором колу рядом с мокрыми подштанниками, снисходительно заметил:
– Ты, Родька, молод ишо, меня учить! Хозы свои повесь вон туды, на ракиту, подале от огня, пущай ветерком обдует, не то по утру в их и не влезешь, тако заскорузнут, што и не согнёшь их! А што касаемо воров тех, степных, тако малым числом оне на нас не пойдут, понеже нас тута три сотни! Сам помысли – энто яку рать надобно собрать, дабы нас врасплох, яко кур в ночи, застать? Я ведь, младень, уже двадцато лето к ромеям с товаром общинным хожу, всякова навидалси! На энтой стороне Дико поле давным-давно впусте стоит! По то и кабанов здеся развелось, видимо-невидимо!
Помолчав, Грива добавил:
– Ты вот што, Родий! На ту сторону боле не ходи! Завтрева к вечеру в город придем, а тамо я твою сотню на другой берег переправлю! В городу спросишь, где сыскать словена Гриву, торговца телегами, тебе любой скажет! Посля пойдёте вы степью через булгар до самой Фанагории и Таматархи, а мы на вёслах, да где под парусом, вдоль берега тоже туды придём, тамо и встретимси! Давай поспите подоле! До восхода Ярила спите! Опаски противу грабителев не имей!
Неожиданно Грива обратился к Родию по-гречески:
– Знай, Родион, спать положено ровно треть суток, так говорят ромейские мудрецы. Мозг человека во сне исправляет всякие неполадки в организме, болезнь зарождающуюся, выгоняет шлаки и яды. Кто мало спит, того вскоре одолевают всякие недомогания и болезни, и он уже непригоден для дальнейшей жизни. Так что надо хорошо выспаться, коли есть возможность.
Перейдя на славянский, Грива с усмешкой заметил:
– Внял, сынок? Не забыл ещё ромейский язык-от? Гляди, теперя, он тебе надобен будет кажный день! А булгары и горцы по-тюркски говорят! Ну, энтот язык ты ведаешь! Всё, спать!
Утром, старшина торгового каравана вятичей Грива напутствовал отбывающую в Танаис сотню, назидательными словами:
– Вот, Родька, – Грива подал сотнику белый шёлковый треугольник, на котором красными нитками было вышито несколько знаков и крест, – энтот лоскут покажешь византийскому патрулю, егда прискачешь к Танаису! Скажешь, што мы идём следом по воде! Хоша мы ране тебя придём в город! Пошлину я уплачу ихнему коммерциарию сам! Вона с десяток кабаньих туш, подсоленных, на энтот случай имею! Ромеи зело рады будут свежатинке! Да гляди, младень! – Грива нахмурил седеющие брови, глаза его посуровели. – Своих богов в уме токмо держи, а не то вам там мигом укорот сотворят! В чужих землях держи себя строго, яко гость, не лезь, куды тебя не зовут! Чужих богов уважай, тады и тебя уважат, но держи себя достойно! Помни, што ты есмь представитель могущественнова народа вятичей! В энтом случае ты можешь врать всяко, мол, и земель у нас немеряно, оком не окинешь, и зверья пушнова не счесть, и жита, хоша заглонись им! Люди про чужое богатство слушать любят, рот-от разинув от удивленья! Тута чем больше наврёшь, тем больше веры!
Старшина хохотнул, и, погладив, сидящего уже в седле Родия, по колену, продолжил:
– Народы тамо разные, особливо в Таматархе: и греки, и булгары, и тюрки, армяне, грузины, албанцы, и горцы всяки. Нахваливать будут свою родину, а ты слушай, языком пощёлкивай, главой покачивай, мол, о, яко здорово! Иной наврёт с три короба, а ты делай вид, што веришь. У нево может и земель-то, што под ногами, богатства-то с гулькин нос, с херову душу, а наплетёт чёрт-те што, глядишь весу-то себе и прибавит! А тебе-то начхать – пусть врёт, мели Емеля – твоя неделя! Зато он и тебя уважит в чём-либо, надо ж ему пыль-то в очи напустить чужеземцу, особливо егда тот слушает со вниманьем!
Помолчав, Грива ещё раз одобрительно окинул цепким взглядом конников, прощально добавил:
– Ну, да ладно! Одеты вы справно, ремни новы! Кольчужки, шеломы на вас добры! У их таковых-то нету, не умеют ихние мастера таки кольчужки делать! Токмо гляди, Родька! Буркалами-то не моргай! Оружьем зря не бряцать! Помни, за рукоять меча схватилси – энто уже угроза! Вас тамо живо сомнут! Но и рот-от не разевай – прохиндеев всяких везде хватает! Всё! Давай правь вдоль берега! Перун с тобой!
*****
Танаис, куда к вечеру прибыл конный отряд Родия, поразил молодых вятичей, никогда не бывавших в чужих землях, своим разношёрстным населением. Кроме греков, основателей этого поселения, в городище обитало немалое число и других народов. И, пожалуй, больше, чем греков здесь было булгар и алан, но встречались и выходцы из Закавказья. Весной, как обычно, люди съезжались сюда, да и в другие города и порты Византии, на торги. Здесь, в Танаисе, в людском многоголосом шуме и днём, и ночью всюду преобладала тюркская речь. А ещё много воды, много всяких лодок, каких-то баркасов, лодий и лёгких морских галер. Сотни, а может тысячи их сгрудились на берегах Дона и по морскому побережью. И везде многолюдье, и как тут отыскать нужных тебе людей.
Хорошо человеку, владеющему языками: он чувствует себя среди иноземцев как рыба в воде. Родий обратился к торговцу кожами с вопросом, где сыскать словена Гриву, продавца телег, и тот охотно указал, в каком направлении ехать. Пробираясь со своими конниками через всё это базарное многолюдье, Родий удивлялся такому мирному сосуществованию разных народов, которые в других условиях обычно чаще враждуют меж собой. Здесь же люди, нахваливая свой товар, получали обоюдную выгоду, были довольны, дружески шлёпали друг друга по плечам и договаривались о поставках тех или иных товаров на будущее. Не зря же говорится, что уговор дороже денег: хлопнув по ладоням, стороны свои обещания неукоснительно исполняли. Не выполнить слова уговора у всех народов считалось огромным бесчестьем. Такому плевали вслед, с таким никто больше не заключал торговых сделок, он разорялся, на нём незримо лежала печать презрения.
Родий нашёл стоянку вятичей по телегам, уже выгруженным с лодий. Этих телег было более семи десятков, с уже надетыми на оси колёсами, смазанных тележной мазью и готовых к продаже. Каждая лодья вятичей вмещала, кроме груза пшеницы, льняных тканей, мёда, воска и тележной мази, по шесть-семь телег без колёс, сложенных и увязанных в два пакета. Колёса к ним укладывались отдельно. А ещё были мешки с подковами и гвоздями к ним, берестяная и деревянная посуда, да много всякого, чего не было на рынках византийских городов. Весь этот груз вполне помещался в лодье, ширина которой достигала трёх метров, а в длину она была до двадцати метров.
Обычно телеги и тележную мазь, по договору со степняками и главой города, Грива продавал в Танаисе. Почти наполовину облегчённые лодьи шли потом по мелководью Меотийского (Азовского) озера до Таматархи (Тамань). Рынки Боспора, были тут же, рядом, через довольно узкий пролив, который, кстати, во время отлива, можно было перейти по грудь в воде. Здесь цены на вятскую пшеницу, мёд, воск и льняные ткани были значительно выше. А ещё хорошо продавалась всякая мелочь в виде тех же подков и гвоздей, ременной упряжи и верёвок. Ну и, конечно, нарасхват шли берестяные кружки и туеса, богато украшенные затейливым орнаментом, не говоря уж о резной деревянной посуде и ложках.
Чего Грива не возил в Таматарху, так это глиняную посуду, по одной простой причине: здесь издревле работали свои искусные мастера гончарного производства и славянские горшки с чашками не пользовались спросом, а весили всё-таки много при перевозке.
Основной же товар – пушнину, Грива сбывал только богатому покупателю и уже за большие деньги. Запрашивал не менее фунта серебра за две шкурки бобра или два десятка шкурок выхухоля. А уж за шкурку соболя, куницы, норки, Грива требовал два золотых византия. Для сравнения, в те времена, а именно в начале 6 – го века, за один византий можно было купить стадо коров или табун рабочих лошадей в сорок голов. Медвежью шкуру Грива обменивал на штуку шёлка в двадцать саженей (45 м.), или на серебряный с золотым тиснением кувшин, блюдо или кубок. Иногда он соблазнялся на диковинный по тем временам стеклянный кубок, но чаще брезговал такой посудой из-за её хрупкости и недолговечности.
Одним словом объём торговли у Гривы был гигантским, а потому он и держал при себе такую мощную охрану. Хотя, надо сказать, за двадцать лет его торговой деятельности никто не посмел покуситься на вятское добро. Все в здешних местах знали, что обиды славяне не простят никогда. Знали, и твёрдо верили, что придёт из полуночных земель орда варваров и ничто, и никто тогда не уцелеет, ни в Танаисе, ни в Таматархе, ни в Боспоре. Камня на камне не оставят. Будучи язычниками, добрые от природы славяне, в городах христианской Византии, мстили за обиду, нанесённую их торговцам, может быть даже и нанесённую-то случайно довольно жестоко. Так иногда тоже бывает. Да и вообще, рынок – это табу. За грабёж на базаре вырежут весь род грабителя. Где-нибудь по дороге к рынку этот грабёж и может случиться, что бывает нередко, но то уж забота самого торговца охранить свой товар. Во всяком случае, византийские велиты, хартулярии и коммерциарии давно уж для себя усвоили, что славяне люди щедрые, платят хорошую пошлину и всегда готовы дать бакшиш от всего сердца, от широты своей души, и ведь что интересно – давали ….
Богатые торговые гости, прибывающие по весне на рынки византийских городов со всех сторон, надо заметить, были не только представителями своих народов, но и, как правило, являлись, по сути, послами своих земель. И уж конечно главы администраций, протевоны и местные архонты, по богатству и обилию товаров, по цене подарков, подносимых им, определяли вес и значимость племени, от лица которых разворачивал торговлю этот купец. Такого торговца приглашали к протевону, искали дружбы, просили рассказать о своём народе, завязывали с ним торгово-экономические отношения….
Старшина вятских торговцев Грива пользовался у протевонов городов наибольшим почётом. Ему и торговую пошлину-то снижали до минимума, лишь бы привозил побольше товаров, особенно стратегических, таких как дёготь, тележная мазь, да и сами телеги. Высоко ценились на византийских рынках легкие телеги из берёзы, но не менее высоко, из-за их неимоверной прочности, ценились и телеги из дуба, для тяжёлых грузов в виде камня и железа. Любая телега, сработанная искусными славянскими мастерами, даже при самой интенсивной эксплуатации, служила не менее двадцати, а то и тридцати лет. Этим тележным изделиям, резной посуде, не было равных на рынках Таматархи и Боспора. Да можно сказать и вообще на всём побережье Понта.
Грива, налаженные за двадцать лет торговли дружественные связи с протевонами, предводителями булгарских и аланских орд, использовал умело и давно уж сделался опытным дипломатом. Здесь, на юге, имя Гривы стало нарицательным. Стоило только сказаться, что ты от него, как перед тобой распахивались любые двери и объятья. Сам старшина об этом знал, а потому жестко инструктировал своих помощников, как себя вести в тех или иных условиях, что сказать и где промолчать. Лучшего представителя вятичей в этих краях трудно было себе представить – вот когда о человеке можно было сказать, что он незаменим.
Когда Родий со своей сотней нашёл торговое становище Гривы в Танаисе, тот накормил людей и велел отсыпаться. Сам же, в своей палатке имел с Родием следующий разговор:
– Отвори свои уши, Родька, да запоминай! – Грива слегка приоткрыл вход в палатку и понизил голос. – Завтрева пойдёте через степь на Таматарху! На энтот путь у тебя уйдёт трое, а то и пять суток! Торопко скакать ни к чему!
Красноватые вечерние лучи заходящего солнца мягко ощупали озабоченное лицо вятского старшины. Он вложил в руку Родия тяжёлый кожаный мешочек, в котором звякнул металл.
– Што энто, дядя Грива?
– Энто деньга, сынок! – Грива жёстко глянул в глаза Родию. – Ромейски деньги! Я ж телеги с мазью уже продал! Не все конечно, кое-што и для Боспора оставил! А ты, упреждаю тебя, энтими деньгами перед ордынцами не тряси! Человек он от природы завистлив, а нечиста сила токмо и ждёт случая сподвигнуть ево на бесчестно деянье! Блеск золота ослепляет даже сильного духом человека, лишает его разума! Тако што спрячь кошель куды подале!
Родий распустил сыромятную завязку мешочка, там таинственно сверкнули золотые византии вперемежку с серебряными милиариссиями, но были среди них и тусклые медные фолла.
– На один милиариссий, Родька, – продолжал наставления Грива, – ордынцы пригонят тебе полсотни баранов! Да возьмёшь вон мешок пшена, да овса коням! Хоша весна и степь ещё не выгорела, тако лошадки пущай травку едят. А с другой стороны кони у вас строевые, им без овса неможно. Телегу одну возьмёшь, сложите на неё лишнюю амуницию, жратву, да мёд для протирки спин коням.
Вот тебе ещё мешок рухляди, но гляди, сынок, меха пользовать токмо в случае крайней нужды…. В Таматарху мы придём раньше тебя, а ты егда придёшь, спросишь Гриву – тебе любой укажет, где меня найти! А покуда выспись – потом не до того будет!
Родий согласно кивнул головой, и задал вопрос совсем не тот, что хотел:
– А ты пошто, дядя Грива, бороду свою подрезаешь? Даждьбога ведь обидишь! Волосья на главе словена принадлежат богам!
Грива усмехнулся, но ответил:
– Даждьбог не обидится, Родька, понеже я в ево честь добываю золотые византии, иже они отражают божественный свет ево лика! А потом в здешних местах все тако-то бороды укорачивают, аль не примечал? Понеже жарко, да и с короткой бородой мне красно, кажется! Ладно, спи, давай! Утре я выйду на берег морской, подброшу ввысь горсть муки Стрибогу, повелителю ветров! Он подарит нам попутный ветер, и понеже окажусь я ране тебя в Таматархе!
Часть 2. Б Е Р С И Л И ЯНет для человека меча более опасного, чем его
жадность, и нет для него щита более надёжного,
чем его бескорыстие.
Народная мудрость.
Глава 1. ТАМАТАРХА – БОСПОР
В мужчине всегда присутствуют две силы. Ему не приходится их будить, расталкивать, тормошить – они сами заявляют о себе. Одна сила – это жажда постоянной деятельности, а другая – это тяга к размышлению. Мужчина утром очнулся от сна – прикидывает в уме, что ему нужно сделать в этот день, и уж только потом начинает свою кипучую, или не очень, деятельность.
Присел или прилёг отдохнуть – размышляет, философствует, а зачем ему вся эта канитель? Глядишь и приходит к выводу: надо делать, – если не для себя лично, так для детей, семьи, или для людей, так уж обстоятельства сложились.
В женщине тоже сидят две силы: та же жажда деятельности, но чаще всего не для себя, а для мужа и детей, иногда, в силу тех же обстоятельств, для общества. Встав с постели, она без каких-либо размышлений себя обиходит, наведёт какую-никакую красоту на личико, и начинает хлопотать по хозяйству. В своём доме она полновластная хозяйка. И такой порядок сложился ещё с каменного века у всех народов.
Мужчина сначала мудро, хозяйственно осмотрится и уж только потом приступает к делу. Женщина же всё начинает делать бездумно, сразу, автоматически, по раз и навсегда заведённому порядку. Так её приучили с детства матери и бабки.
Зато вторая сила у женщины – это не философствование, не размышление, а созерцательность. Она смотрит на мир широко открытыми глазами, любуется им, чего-то ждёт от этого мира, обязательно хорошего. В ней всегда тлеет надежда на это хорошее. В женщине подспудно таится, живёт любовь, о которой она поёт, иной раз целыми днями. Это уж зависит от её внутренней энергии, от темперамента.
И вот, вдруг, это, тлеющее где-то внутри чувство, прорывается и расцветает прекрасным цветком, вспыхивает ярчайшим пламенем, обжигает и её, и того, или тех, кого это пламя коснётся. Если этот огонь горячий, то обожжёт любого, а если это пламя только видимость, то причинит женщине боль, но не затронет другого…. Так бывает, часто бывает….
Женщина без огня любви – цветок, так и не успевший распуститься, незажжённый костёр. Её, тусклую, печальную, озабоченную бытом, или крикливую, часто без причины плачущую, сразу видно. Ей обязательно надо кого-то любить, такова её природа. Без любви она пустое место, так – рабсила, у которой всё из рук валится, да и песни-то она поёт тоскливые, заунывные, больше похожие на стенания…. И всё-таки в ней тлеет какая-то искра надежды….
В поступках мужчины почти всегда просматривается расчёт, подкреплённый определённой степенью меркантильности. У женщины же в основе поведения и характера лежит порыв, эмоции. Обычно гормональный взрыв мужчина, особенно парень, принимает за любовное чувство, что его вполне и устраивает. В душе же девушки всегда присутствует эмоциональный фон и на гормональную вспышку в ней обязательно наслаивается романтическая мечтательность….
Там, далеко, в начале У1 века, на настроение девушки, кроме подруг, никто из мужского населения внимания не обращал. Лишь бы парню приглянулась. Да и то, чаще всего, отец семейства на пристрастия сына поплёвывал и женил его на какой-либо девушке по своему усмотрению. Её чувствами не интересовались. Хочешь, не хочешь – выдавали замуж, а там стерпится – слюбится.
В четырнадцать лет мальчишка становился воином или самостоятельным пахарем, мог в одиночку срубить себе избу, а в пятнадцать лет обязан был жениться. В таком возрасте кроме насторожённости и любопытства к противоположному полу могло ли быть всепоглощающее чувство любви? А проснувшаяся любовь у молодой жены взвивалась куда-то ввысь и падала, если не на мужа, так уж на детей – так она становилась взрослой.
Прелюбодеяния жёстко пресекались волхвами и замысловатыми обычаями. Мужу полюбить чужую жену – табу, нельзя, зато он имел все права, а волхвами даже поощрялось, ввести в свой дом вторую жену, погибшего друга, а кроме неё ещё и молодую вдову с ребёнком. А вот жене и полюбить чужого мужа нельзя, и уйти от своего мужа к другому тоже нельзя, можно только тайно вздыхать, да песни жалостливые петь….
Надел пахотной земли многожёнцу община увеличивала, но при условии, что мужчина мог справиться с такой прорвой тяжёлой работы, так что много жён, большую семью и сам не захочешь иметь. Всё в древнем языческом обществе было направлено на увеличение населения, потому что убыль его, по естественным причинам, была очень велика. Часто мальчишка, только что, женившись, погибал в очередной сече, и заботу о молодой вдове с ребёнком этого дружинника брало на себя общество, пока её не брал кто-нибудь замуж. Покалеченному, полагался раб из захваченных в плен врагов, который и обрабатывал надел этого израненного дружинника, пока не подрастёт наследник у калеки. Потом раба отпускали домой, если он хотел, а мог и остаться. Тогда он становился полноправным членом общины. Так было вплоть до конца тысячелетия. Христианство положило конец славянскому, вынужденному многожёнству, у восточных же народов, соседей славян, ислам наоборот закрепил его законодательно.
Хотя семейные обычаи в славянском обществе соблюдались строго и неукоснительно, а всё ж и в нём бывали сбои.
Воевода вятичей Светозар, постоянно занятый в походах особенно в последние годы, не успел вовремя женить сына Родия. Тот же, смолоду пребывая в седле с оружием в руках, участвуя вместе с отцом в битвах, незаметно перешагнул жениховский порог. Светозар заматеревшего сына насильно поженить уже как-то не решился, а тот рвения к семейной жизни не проявлял, сбрасывая иногда гормональную энергию на вдовушек, которых кругом было в изобилии. Тем же было уже всё равно, кто их иной раз осчастливит из дружинников, лишь бы пригнал на двор с пяток баранов или подарил шёлковый отрез на сарафан.
А с Ледой получилось ещё проще. Люди раньше не раз видели Леду с Родием вместе, когда те бегали на учёбу к греку Феофану. И даже после, когда они уже подросли и Родий частенько надолго уезжал из Туманного, людская молва поженила их. Неважно, что никакой женитьбы на самом деле не было, считалось, что Леда принадлежит Родию и всё тут. Естественно Леду никто не беспокоил, и оказалась девушка в каком-то подвешенном состоянии: ни сестра, ни невеста, ни жена и не вдова….
без причины ечальную, озабоченную бытом, или крикливую, часто плачущую но не затронет другого…ком, вспыхивает я
*****
У Родия, проснувшегося утром в своей палатке, первой мыслью было одно – осмотреть эту Таматарху, и, расположившийся за узким проливом, Боспор. Об этих византийских городах он был немало наслышан ещё с детства. Теперь, прибыв сюда, к своему торговому каравану, его разбирало любопытство. А прискакала его сотня только вчера вечером, разбили уртон возле гостевого колодца, наскоро поужинали, да улеглись спать, не обращая внимания на шумливый город, который располагался ниже их стоянки, ближе к проливу.
Родий ткнул в бок спящего ещё рядом Буку. Тот, не открывая глаз, промычал:
– Чево, Родь?
– Подымайся! Коней надо напоить, да самим хоша перекусить!
– Куды едем-то спозарань?
– Оглядеться надо в городу, да дяде Гриве доложиться, што прибыли!
Бука привстал с конской попоны, потянулся, отогнул край полога, закрывающего вход в палатку, выглянул наружу и заворчал:
– В уме ли ты, Родя? Мать-Заря ещё ланиты не красила, волос медных не чесала, а ты уже меня растышкал! Ведал бы ты, яки мне сны Кикимора приятны навеяла, тако не посмел бы меня в бок толкать!
– Ну и што тебе за сны Кикимора в башку твою нечёсану вдолбила?
– А вота приснилось мне, – мечтательно заговорил Бука, – быдто шагаю я по широкому лугу, иже весь в ромашках белых. Впереди речка ракитами обросоша, из ракит тех соловьи заливаютси, дивно щёлкают, а на руках у меня лежит дева красы неописуемой, за шею меня обнимат…. Гляжу, а из дубравы, што сбоку, ворон вылетел, чёрный, яко головёшка, большой, яко поросёнок-трёхлеток, да прям на меня летит, буркалами красными злобными меня сверлит. Похотел тот ворон клювом медным меня ударить, а когтями кривыми деву ту уцепить. Я деву десницей придерживаю, а шуйцей яко ворона того вдарю по башке! Он, было, закаркал, да, вдруг, заржал, яко жеребец стоялый, иже кобылу узрев. Посля рассыпалси углями чёрными, а угли энти хором возопили хулу мне зело пакостну…. Тако я и не познал, што дале-то должно быти…. К чему бы всё энто?
Родий усмехнулся, посерьёзнев, заметил:
– Познаешь ещё, Бука, посля! Заватрева може! Много спать тоже плохо воину! Вон Спок на ногах уже!
– Тако энто ево очередь уртон сторожить! По то и не спит!
Стоянка сотни Родия находилась на возвышенности, возле колодца с журавлём и длинным дубовым корытом, из которого поили коней, верблюдов и овец, прибывающие на торг кочевники. Пока Бука доставал из колодца воду большой деревянной бадьёй и наливал её в колоду, Родий с любопытством разглядывал открывшуюся ему панораму утренней степи, моря и города. Неподалеку с аппетитом щипал, не успевшую ещё выгореть на южном солнце густую траву, конский косяк сотни. Вниз от стоянки вятичей до самого пролива располагались дома, домики и кудрявые сады Таматархи. А сразу за проливом, который по ширине равнялся небольшой речке, виднелись дома и курчавились сады Боспора. Они, эти дома и сады, уступами поднимались вверх, где в утренней дымке просматривалась Митридатова гора.
Внизу, у пролива, сгрудился большой табун разных по размеру лодок, лодий и небольших галер. И за проливом, где уже во всю ширь синел Понт, уткнулись в берег лодки, а чуть дальше, на рейде, стояли на якорях большие морские галеры. Рядом возвышался многовёсельный военный дромон. Это на них будут грузить меотийскую соль в кулях и рабов, привезённых из Танаиса.
Молодые и крепкие рабы пойдут гребцами на дромоны, военно-морские огненосные суда византийцев. Тех, что постарше, да похуже продадут торговому флоту. Женщин и девочек купят богатые греки для работ в садах и по дому в качестве служанок и наложниц. Хотя недавний эдикт императрицы Феодоры запрещал куплю-продажу женщин и девочек, мало кто из торговцев соблюдал этот запрет. «Кодекс Юстиниана» предусматривал суровое наказание – вплоть до ослепления и конфискации имущества. Мальчиков же покупали для военных школ.

