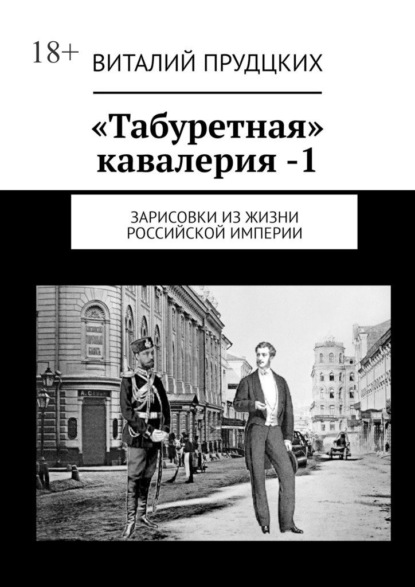
Полная версия:
«Табуретная» кавалерия – 1. Зарисовки из жизни Российской империи
С Законом Божьим вышло ещë проще. Эскадронный священник на последних занятиях выяснил, что из библии и молитв более всего знают выпускники. После чего объявил, что круг задаваемых им вопросов в присутствии экзаменационной комиссии, будет ограничен только тем, что известно большинству. При чëм батюшка предупредил, что если он при ответе экзаменуемого будет держать руку на своëм нагрудном кресте, то, стало быть, ответ в целом верен. А если руку уберёт, то значит юнкер сбивается на околесицу и нужно поправить ответ.
После того как последний экзамен был сдан и юнкерам было объявлено о скором выходе на последние лагерные сборы, было решено по сложившейся традиции устроить торжественные «похороны науки, юношей питавшей». С этой целью в казарме, после команды «отбой» начались приготовления. Опасаться посещения дежурного офицера не приходилось, так как накануне он дал негласное одобрение – на вопрос «Будет ли дозволено?», молча с улыбкой удалился. Возможно, вспомнив как сам по молодости участвовал в подобном.
После чего началась лихорадочная подготовка. Группа, назначенная в «могильщики», выбирала «гроб». Предлагаемые варианты: снять с петель дверь в казарму или использовать одну из кроватей, были отвергнуты из-за своей неправдоподобной громоздкости. Сошлись на тумбочке с поста дневального – по форме подходяще и удобной для «покойника», учитывая его невеликие размеры. В качестве «покойника» выступали связки конспектов. «Могильщики» подошли к делу «обряжения покойного» со всей серьёзностью: связки конспектов укладывались в «гроб» и обматывались наволочками и простынями таким образом, чтобы напоминать некую мумию в саване, правда довольно прямоугольных размеров.
«Духовенство» изобретало для себя из одеял и опять-таки простыней «ризы», а из котелков кадила. В качестве дымящегося ладана было решено использовать дым тлеющего табака.
Эскадронный вахмистр предупредил, что за порчу одеял или иного постельного белья будет отрывать головы виновным, поэтому обходились без ножниц: отверстия для головы и рук делались, стараясь сворачивать соответствующим образом исходный материал и закрепляя булавками, на худой конец примётывали стежками, чтобы потом можно было легко распороть и вернуть всё как было.
Когда приготовления были закончены, по училищным казематам двинулась процессия: впереди «духовенство», нещадно дымящая табачными кадилами и сипло возглашающее поминание «усопшему». Следом, церемониальным маршем, старательно печатая шаг (как ни как науки то воинские) двигались «могильщики» с «гробом». Замыкали шествие все остальные юнкера выпускники, в роли «безутешных родственников».
После того как процессия побывала почти во всех помещениях училища, отметившись и в спальне первогодок, наконец появился дежурный офицер и изображая недоумённое возмущение рявкнул: «Эттто штто такое, отставить! Марш по кроватям!»
Процессия, топоча и хохоча унеслась в спальню, разбирать наряды и приводить в порядок тумбочку-«гроб», закончив веселое обсуждение «похорон» далеко за полночь.
Утром подъём и построение были в обычное время, никаких последствий вечерне – ночное происшествие не имело и даже не упоминалось командованием училища. Лишь по нескрываемым улыбкам преподавателей было ясно, что всем всё известно.
После возвращения в июне из вторых и последних учебных лагерей, в училище состоялось распределение вакансий будущих мест службы в зависимости от проявленных в учёбе и лагерных сборов успехов. Для большинства юнкеров это распределение вызывало полную растерянность, а то и уныние.
На единственную вакансию в гвардейскую кавалерию претендовали трое наиболее преуспевших юнкеров и долгое время считавших друг друга соперниками. Но как оказалось не соперничества им надо было бояться. Когда они официально заявили о своём желании, им негласно было объявлено, что любого из них просто не утвердит вышестоящее командование: в юнкерские училища, в отличие от военных принимались юноши не только из дворян, но и из казаков или мещан. Для того же чтобы утвердили на вакансию в гвардию, требовалось не просто дворянство, а дворянство потомственное. Для этих трёх претендентов, не принадлежавших к числу привилегированных подобное открытие стало буквально землетрясением, разрушившим их надежды. Училищные командиры постарались сгладить у них горечь от обиды тем, что подсказали наиболее подходящие назначения по списку, но это было слабым утешением по сравнению с понесённым унижением.
В результате вакансия досталась юнкеру с достаточно посредственными успехами, но соответствующему гвардейским требованиям. Многим из тех, кто имел подобные ему достижения предлагались для службы места в отчаянной глуши и одному Богу было известно, как там можно было выжить и не наложить на себя руки от душевного унынья, как следствия примитивности тамошнего захолустья.
Яковлеву при средних успехах досталось и среднее по достоинству назначение – во Владимирский уланский полк, который несмотря на своё название был расквартирован не во Владимире, а в Привисленском крае, как теперь после подавления мятежа с недавних пор стало именоваться бывшее Царство Польское. Полк располагался в каком-то захолустном местечке, но по сравнению с аулами Кавказа и пикетами в Сибири, это была какая-никакая Европа.
Всем получавшим назначение присвоили промежуточные звания эстандарт-юнкеров, а офицерские звания корнетов им должны были присваиваться уже по прибытии в место назначения тамошними командирами.
А пока обыватели Твери по неволе стали на два дня наблюдателями безудержного веселья: вчерашние просто юнкера, а завтра офицеры, буйной ордой кочевали по местным немногочисленным ресторанам, иногда рассыпаясь на мелкие группы по трактирам, с тем чтобы спустя некоторое время, столкнувшись на улице вновь объединиться и продолжить пирушку зачастую там, где побывали не так давно.
Вместе с ними, забыв про прожитые годы и плохо залеченные раны, кочевали и многие училищные преподаватели. Теперь уже не было учеников и учителей, теперь были только офицеры российской армии, которые клялись друг другу в вечной дружбе, обещали помнить и не теряться в начинающейся новой жизни. Обещали писать, договаривались о будущих встречах. Встречах, которых зачастую никогда не будет или будут, но не таких как им мечталось в эти хмельные часы.
Спустя три – четыре года станет ясно, что кто-то затерялся безвестно по дальним гарнизонам, а чьё-то имя мелькнёт в газетном списке погибших у Эски-Загры, Рахово, Шейново, да мало ли мест в той Балканской войне, где они будут гибнуть. И встречаться они будут чаще всего не за чаркой вина, а на соседних госпитальных койках, иногда приветливо маша друг другу культями рук не так давно державших саблю.
Пока же все они разъезжались после окончания празднования выпуска по своим домам. Им предстояло целых двадцать восемь дней отпуска! Жизнь прекрасна, господа офицеры! Жизнь, всё-таки прекрасна!
Глава 2
Дворянство, версия жизни – Сафоновы
В то летнее утро 1863 года, когда отец и сын Яковлевы, охотились по утренней прохладе на дальнем озере, за сотни вëрст от них новгородскую усадьбу семейства Сафоновых в продолжение душной ночи, обволакивало маревом угнетающей жары, проникающей в барский дом через раскрытые окна террасы из увядающего без дождей сада. И вместо благословенных сквозняков по дому стлалась духота, нагревая в комнатах стулья, крашеные лаком, с бронзовой фигурной отделкой, бархатные диваны и кресла, от чего на них не то, чтобы сидеть было невозможно, а и прикасаться было неприятно. Единственное, что ещё, казалось, сохраняло прохладное состояние в доме, так это мраморные столики и бронзовое обрамление штучных зеркал над ними. Где и каким образом попрятались обитатели дома оставалось загадкой. Но дом казался пустым, безжизненным.
Хозяин усадьбы Аполлинарий Ильич Сафонов в эту ночь предпочитал спасаться от духоты в садовой беседке. Эта постройка хоть и носила название беседки, но была столь большой, что сошла бы и за флигель, если бы не архитектура, более смахивающая на садовую беседку, исполненную в виде пагоды. Однако, вопреки наружному виду, внутри беседка была уже выполнена в новомодном стиле модерн, соединяя в себе спальню и кабинет, а потому здесь размещались кресла, стол, бюро и кушетка для сна. Стены были задрапированы сине-белой полосатой, с золотистыми прожилками тканью, так же далекой от востока, как и вкусы хозяина от чувства меры.
На некую азиатчину намекал разве что ковёр на полу, покрытый неопределённого вида бордовыми цветами и неестественно зелёными листьями. Эту единственную выбивающуюся из общего стиля вещицу в беседке, хозяин представлял гостям, как невероятно древний и неслыханно дорогой персидский ковёр из дворца самого шаха. На самом деле ковёр был приобретён по случаю у дальнего родственника, пехотного майора, задержавшегося у Сафоновых, проездом из кавказского гарнизона в своё псковское именье, после выхода в отставку.
По большому счёту ковёр семейству Сафоновых был без надобности, но они всегда придерживались того мнения, что с родственниками нужно поддерживать хорошие отношения, так как чем чёрт не шутит, могут и помянуть в завещании, когда придёт их срок окончания жизненного пути на земле.
Поэтому, когда майор, предложил жене Аполлинария Ильича купить ковёр, который она из вежливости похвалила при осмотре дагестанских приобретений майора, супруги изобразив безграничное счастье немедленно согласились приобрести сей ковровый шедевр.
И вот теперь Аполлинарий Ильич, пробудившись от сна в непривычно раннее для себя время – в одиннадцатом часу утра, закутался в халат и направился по приятно покалывающему босые ноги ворсу ковра, к двери из беседки, чтобы выяснить причину странного шума снаружи.
Снаружи происходило нечто непонятное. Несмотря на гнетущую жару по центральной аллее сада, усыпанной красным песком и уставленной скамейками и мраморными бюстами, в сторону главных ворот, выходящих к Новгородскому тракту, спешила вся домашняя прислуга, а по боковой аллее к ним присоединялся работный люд приусадебных служб. Среди всей этой сумятицы мелькнула долговязая фигура гувернёра Герхарда Зоммера, еле поспевающего за своим воспитанником десятилетним сыном четы Сафоновых – Сережей, которого гувернёр именовал на немецкий лад герром Зергиусом.
Аполлинарий Ильич попытался было спросить пробегающих мимо о причине подобной сумятицы, но получил в ответ нечто невнятное: «Ведут!». Это слово было повторено несколькими слугами на разный манер без всякого уточнения: «Кого ведут? Куда ведут? Зачем ведут?» Добиться ясности было невозможно, так как каждый, воскликнув это своё загадочное «Ведут!», исчезал за воротами, предоставив следующим за ним общаться с барином. Поглядев вслед последнему исчезнувшему за воротами слуге, Аполлинарий Ильич понял, что толку ему сейчас не добиться, а посему вернулся назад на кушетку придаваться размышлениям, что после того, как объявили вольную, дворовые становятся всё более наглее и так могут и вовсе перестать обращать внимание на хозяев усадьбы.
Спустя полчаса шум снаружи возобновился, из чего можно было сделать вывод, что прислуга возвращается, оживлённо обсуждая увиденное за приделами усадьбы. Повторно выходить из беседки Аполлинарий Ильич счёл излишним, чтобы не ровняться в любопытстве со слугами в их глазах, а дождаться появления камердинера, который обычно являлся помогать барину одеться. Если событие было столь впечатляющим, что взволновала обитателей дома, то камердинер явно не преминул бы о нём рассказать. Вот только оставалось сомнение: явится ли камердинер сейчас или попытается изобразить неведение, что барин уже невольно проснулся из-за всей этой шумихи, а потому будет тянуть время в ожидании, что его позовут как обычно к в первом часу по полудни.
Придя к этой мысли, Аполлинарий Ильич начал энергично дёргать шнурок над кушеткой, связанный далее через проволоку, проходящую по саду, с колокольчиком в доме.
Почти тотчас же двери в беседку отворились, но вместо камердинера внутрь вбежал Серёжа, в явном волнении от увиденного. Из его торопливого и малосвязанного рассказа, а больше из уточняющих реплик, вошедшего гувернёра Зоммера, Аполлинарий Ильич уяснил следующее: причиной переполоха стала весть, что со стороны Пскова гнали на каторгу группу осуждённых за мятеж поляков. Вывалившая из усадьбы дворня, вместе с барчуком и его камердинером, откровенно в слух гадали, за какое злодейство осуждён каждый из мимо проходивших. Особое удивление и жалость у женской части зевак вызвало появление в кандалах довольно симпатичного юноши. Охи по поводу того «за что же такого молоденького», прервал конвойный фельдфебель, мрачно заявивший, что из всей партии каторжан, сей юный пан Берославский и есть самый злостный «душегубец», потому, как если бы не несовершеннолетние годы, качаться бы ему в пеньковом галстуке на крепостном плацу в Гродно, как его товарищам из банды пана Сотина. Мало поняв в чём же вина юноши, потому как в здешних новгородских местах ни о каком Сотине слыхом не слыхивали, дворня, однако, впечатлилась словом «душегубец» в отношении симпатичного и явно родовитого молодого пана, тем более что он после данной ему фельдфебелем подобной аттестации, ожёг зевак таким взглядом, что некоторые даже попятились и утвердились в правоте федфебельского суждения.
Прослушав подобный сбивчивый и эмоциональный рассказ, Аполлинарий Ильич, не вставая с кушетки, поразмыслив высказался в том смысле, что крайне досадно, когда молодые люди с положением в обществе и прекрасным воспитанием, становятся на скользкий путь противоправных действий к обществу и власти. На этом высоконравственном назидании для сына можно было и считать законченным обсуждение данного происшествия, но герр Зоммер, положив ласково руку на плечо своего воспитанника, брякнул неизвестно где почерпнутую им пословицу: «От тюрьмы и от сумы не стоит зарекаться». Всё это было произнесено с диким акцентом, но с большим апломбом, мол ему эльзасскому немцу тоже понятна вековая народная мудрость русских.
Аполлинарий Ильич, услышав такое и сочтя, что сказанное при подобных обстоятельствах, можно счесть как некое предупреждение его сыну, взглянул на герра Зоммера таким взглядом, которым, наверное, глядел только что упоминаемый молодой пан на окружающих его зевак и конвой. После чего герр Зоммер поспешил убрать руку с плеча маленького Серёжи и заискивающе взглянул на хозяина дома, предположив, что за своё неуместное умничанье может быть и отставлен от места.
Аполлинарий Ильич, счёл необходимым заявить, что подобное возможно только в отношении лиц подлого, простонародного звания, а для дворянина из верноподданической семьи, получившего правильное и систематическое воспитание – это невозможно. А потому главным для любого дворянского ребёнка является выбор правильного круга общения. После чего Аполлинарий Ильич выразительно взглянул на проштрафившегося гувернёра, от чего тот смутился ещё более. Отослав сына и его наставника, наказав прислать «этого лентяя камердинера», господин Сафонов невольно стал припоминать обстоятельства появления герра Зоммера в своём доме.
Особой необходимости в иностранных гувернёрах в российских дворянских семьях давно не испытывали: хватало и своих несостоятельных выпускников университетов, готовых за сходную плату исполнять обязанности воспитателя дворянского отрока. Иностранцы – воспитатели давно стали не в почёте, разве что гувернёры – англичане ещё были востребованы, но Аполлинарий Ильич не относился к англофилам, а потому и не собирался воспитывать из своего сына чопорного лорда. Появление же герра Зоммера было связанно с тем, что семья Сафоновых предполагала в прошлом году выехать в Париж, а случайно подвернувшийся Герхард Зоммер, мог как эльзасец оказаться полезным в этом путешествии своим знанием как немецкой, так и французской жизни, попутно приглядывая за сыном и обучая его языкам. Тем более, что при тех обстоятельствах, в которых Зоммер оказался в России особо ему чиниться не приходилось и он был согласен поступить на место гувернёра за более чем скромное жалование даже для русского – практически то, что называется «за харчи».
Дело в том, что выпускник Страсбургского университета Герхард Зоммер имел несчастье два года назад стать гувернёром в семействе французского инженера-путейца. Предложенные Зоммеру условия были более чем великолепны, так как предполагалось, что семейство инженера выезжает в Россию, где инженера ждал прекрасно оплачиваемый контракт на строительство дороги. Зоммера в родных местах ничто не удерживало, а потому он с радостью согласился. Однако вскоре по прибытии в Россию, жена инженера закрутила роман с одним из именитых подрядчиков-толстосумов с той самой железной дороги, которую и должен был строить француз. Был скоротечный скандал, жена с детьми съехала к любовнику, с инженером расторгли контракт и дали понять, чтобы катился к себя домой, а Герхард Зоммер оказался в чужой ему стране, не зная никого и ничего, да к тому же без средств к существованию.
Кое-как через соотечественников ему удалось достать это место в семействе Сафоновых, чему он был безмерно рад. Аполлинарий Ильич впоследствии, узнав все обстоятельства, даже предполагал, что Зоммер согласился на столь унизительные условия, лишь бы выбраться из России поближе к родным местам, а там просто сбежать. Но и тут случилась незадача: в Царстве Польском начался мятеж, Франция приняла сторону мятежников, Пруссия поддержала Россию, но Берлин Сафоновых не интересовал, а в Париж выехать стало невозможно. Сафоновы застряли в своём новгородском имении, так и не решая куда ехать: возвращаться в Петербург не имело смысла, так как все знакомые успели разъехаться по дачам, гвардию вывели в летние лагеря, столица для людей светских фактически опустела. Взвешивались все за и против поездки через Австрию в Италию: «Так ли это безопасно? Не закипит ли вся Италия, как нынче Польша? Может стоит остановиться только на Вене?»
В любом из этих случаев услуги Зоммера были уже не так необходимы, а учитывая его вероятно неблагоприятное влияние на сына Сафоновых, в свете его неучтивых и неуместных высказываний, то даже и вредны. Обдумав все эти обстоятельства, Аполлинарий Ильич, решил отказать эльзасцу от места.
Так сложилось, что сам Аполлинарий Ильич с супругой не дожили до того часа, когда неуклюжее высказывание эльзасца оказалось пророческим. Оба супруга умерли почти в одночасье в глубокой уверенности, что с помощью родственных связей пристроив своего Сержа в гвардию и в адъютанты к Великому князю, они обеспечили сыну надёжное и достойное будущее.
Смерти их, с разрывом в полгода, Серж Сафонов встретил практически равнодушно. Разумеется, оба раза он испрашивал отпуск по службе, чтобы отъезжать из Петербурга в родительское имение на похороны, но особых горестных чувств он оба раза не испытывал. И не в силу душевной чёрствости, а в силу того, что между ним и родителями не было любви, так же как между самими родителями тоже не было любви и не было верности. То есть не было ничего такого что делает семью семьёй. Было только своего рода негласное соглашение, по которому всем было удобно жить. Родители жили своей светской жизнью, где-то вместе, где-то порознь, в зависимости от требования момента, а маленький Серж, всегда, сколько себя помнил, более общался с гувернёрами, прислугой, деревенскими сверстниками.
Общение же с родителями сводилось к некому ежедневному ритуалу:
– Доброе утро (день, вечер) папа̀ (мама̀н).
– Доброе, милый. Как ты сегодня спал (играл, гулял, учился)?
– Спасибо, хорошо.
– Ну вот и молодец, ступай, будь хорошим мальчиком. Слушайся бонну (гувернёра, учителя).
Разумеется, случались и некие изменения в этих многократно отработанных диалогах. Изменения обычно были связаны с сообщением, что родители уезжают в столицу или заграницу, а чаще к кому-то из многочисленных родственников с целью либо визита вежливости, из расчёта на будущее упоминание в духовном завещании, либо уже на похороны и хлопоты по вступлению в наследство.
Благодаря такому жизненному подходу семья Сафоновых постоянно успешно балансировала на грани светского великолепия и разорения. Деньги утекали как вода в песок, но и всегда волшебным образом возникали откуда-нибудь вновь. В подобном течении дел даже можно было усмотреть некое странное постоянство.
Когда Сержу исполнилось девятнадцать, годами любовно создаваемый и отлаживаемый его родителями механизм родственных и дружеских связей, через череду визитов к персонам важным, преподнесло ему чин корнета в кавалергардском полку. Дальнейшие родительские визиты уже к персонам не просто важным, а значительным, принесло звание поручика и место адъютанта при Великом князе Николае Константиновиче, который летами был старше своего адъютанта года на три, а потому при совпадении интересов, они довольно быстро сошлись характерами.
Что же касается той родительской заботы, благодаря которой он так блистательно начал свою карьеру, то Серж прекрасно сознавал, что делалось это во многом не только ради него самого, но и ради их самодовольства: «Наш сын кавалергардский офицер и адъютант Великого князя! Князь и многие из свиты Его Императорского Величества ценят Сержа».
В кругах Сафоновых это тоже было своего рода капиталом, как и знакомства или перспективы богатого наследства. Серж, это понимал, будучи от природы юношей неглупым и получившим хорошее образование (спасибо всем тем учителям, кого родители регулярно нанимали и с такой же регулярностью увольняли), он интуитивно чувствовал в подобном некую неправильность, но тем не менее пользовался подобным состоянием вещей с удовольствием.
В двадцать два года, помимо кавалергардского мундира и необременительной адъютантской должности, он имел по мнению дамского общества привлекательную внешность: высокий, стройный с выразительными глазами. Был в меру насмешлив, ненавязчиво галантен. Для замужних дам и вдов интересен как необременительный и приятный любовник, а для девиц на выданье как перспективный жених.
В общем кавалергард Сафонов был не обделён женским вниманием. Что же касается до мужской дружбы, то и здесь он имел успех. В гвардейском кругу он с лёгкостью попадал в тон общения, рассуждая о породах лошадей, их достоинствах и недостатках. Помимо того, его память хранила немалое количество анекдотичных историй, произошедших с его родственниками, знакомыми или им самим, что позволяло оживлять разговор к удовольствию собеседников.
В тоже время он с такой же удивительной ловкостью вёл общение и со штатскими из числа чиновников или купцов, зачастую даже старше себя по годам. При этом очаровывая их своим умением нетривиально обсуждать материи самые приземлённые: подрядные работы, поставки, делопроизводство и тому подобное. Где он и когда успел приобрести таких знаний, для собеседников оставалось тайной. В то время как никакой тайны в этом не было. Серж просто умел слушать их самих, запоминая сказанное, систематизируя и анализируя услышанное, а после пересказывая к случаю.
Умение пить наравне с другими, но в отличии от них оставаться на ногах, умение беспечно проигрывать и выигрывать в карты, умение сочетать резкость в выражениях с учтивым достоинством, помогали ему избегать осуждения как со стороны гвардейского офицерства за дружбу со «шпаками», так и со стороны штатских, считавших гвардейцев чванливыми баловнями судьбы.
Так пролетели три года службы: в шумных веселых кутежах и приятных салонных беседах, флиртах, картах. Деньги появлялись, деньги исчезали. Любовь приходила, любовь испарялась, освобождая место для новой. Всë было прекрасно и, казалось, так и будет всегда, но, как принято писать в романах, судьба нанесла Сергею Сафонову неожиданный удар. Хотя, пожалуй и ударом это назвать было сложно. Сам Сафонов спустя время воспринимал происшедшее с ним в то прекрасное морозное мартовское утром 1875 год как принудительное купание в бочке золотаря, разве что запаха не осталось, но вот душевные чувства были соответствующие.
По началу все показалось ему неким казусом: при выходе из дома, двое городовых не дали ему сесть в извозчицкую пролётку, чтобы ехать во дворец матери Великого князя Николая Константиновича, при котором он состоял адъютантом. Учитывая то, что со своим патроном он не виделся последние три дня ввиду того, что каждый из них развлекался в разных компаниях и на разных концах Петербурга, Сафонов, хотел уточнить у князя: будет ли в нëм надобность в ближайшее время.
Однако, как уже было упомянуто, его остановили двое полицейских чинов и с почтением, хотя и очень настойчиво, пригласили проехать с ними, якобы именно по делам, касающимся особы Великого князя, о сути которых ему разъяснят по прибытии на место. Заинтригованный происходящим, Сафонов выполнил это не то требование, не то просьбу и в результате оказался в кабинете полицейского пристава Василеостровского участка.
Увиденное там Сафонова насторожило. В кабинете помимо самого пристава, сидящего за столом и явно агрессивно настроенного, находился ещë один полицейский, по виду исполняющий обязанности писаря, так как пристроился в углу за конторкой с кипой листов бумаги и чернильницей. Кроме этого, у стола пристава притулилась на стуле некая личность, явно нервничающая и заискивающе поглядывающая на пристава. Уже наметанным в общении с разного рода людьми глазом, Сафонов определил личность как существо торгашеского типа.



