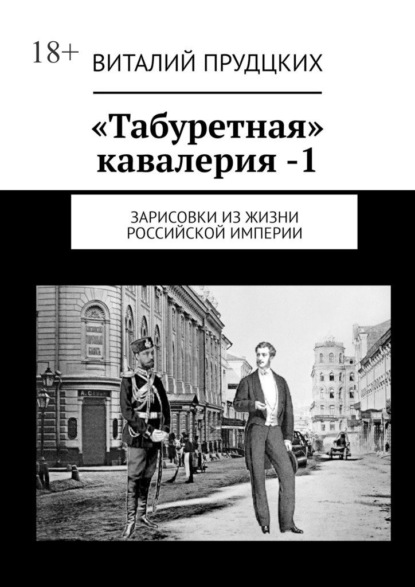
Полная версия:
«Табуретная» кавалерия – 1. Зарисовки из жизни Российской империи

«Табуретная» кавалерия – 1
Зарисовки из жизни Российской империи
Виталий Прудцких
© Виталий Прудцких, 2025
ISBN 978-5-0065-7029-0 (т. 1)
ISBN 978-5-0065-7030-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Часть 1
Эх, судьба-судьбинушка…
Глава 1
Дворянство, версия жизни – Яковлевы
Семейство Яковлевых слыло среди соседей помещиков за честных и несомненно умных, но и в то же время глупых людей. Это кажущееся на первый взгляд несоответствие между наличием ума у всех в роду Яковлевых и их глупостью объяснялось соседями очень просто: «Не умеют они жить как должно».
Умение жить в понимании соседей помещиков определялось кратко: «Не зевай, а то упустишь каравай». Соответственно все и старались не упустить «своё»: удачную женитьбу на невесте с приданным или карьеру на «тёплых» местах, а лучше и то и другое вместе. Поэтому редко кто из соседей Яковлевых, в молодости избравших военную или штатскую службу, уходили в отставку в чинах ниже майора или коллежского асессора, а так же при жёнушке и её капитальце, солидно дополненном своими накоплениями за время долгой беспорочной службы.
Мужчины же из Яковлевского рода, имея явные задатки к любой службе, не извлекали из неё никаких дополнительных выгод, даже тогда, когда выгоды, казалось, сыпались сами в руки, только ладони горстями подставляй.
С женитьбой у них тоже постоянно случались странности: не брали Яковлевы в жёны соседских невест, даже с хорошим приданным, а всё откуда-то привозили. Тут надо сказать, привозили конечно красивых, ни чего тут не попишешь, но уж с гонором: кроме мил-друга муженька никто такой был не интересен, даже в полковничьих эполетах. Хотя чего бы такой ерепениться, коли ей не последние люди в уезде, а то и губернии внимание оказывают? У такой ведь кроме мордашки и фигурки, за душой приданного полушка.
Опять же до того, как пару лет назад случилась эта «невольная воля», после которой все как с ума посходили, Яковлевы со своими крестьянами общались тоже странно. Нет, тех нигилистических бредней, как-то крестьянских детей грамоте учить или ещё чего хуже – больницу построить, этого не замечалось. Тут уж в нигилизме Яковлевых было точно не упрекнуть. Но при вечной ограниченности в средствах, нет чтобы оброк или барщину этим лентяям крестьянам поднять, они иному какому ещё и отсрочку давали, да ещё и без процента. А сами-то по закладной на имение в Дворянском банке проценты выплатить не всегда могли. Ну как таких за умных держать?
Но, с другой стороны, почему-то у них в имении никогда поджогов не случалось или там чтобы хозяйской скотине вилами живот пропороли, тоже никто не слыхал. Чем местные капитан – исправники были всегда недовольны. У иных помещиков, у которых периодически появляется потребность в действиях полицейского рода, исправнику и выпить, и закусить поднесут. В кармане помогут чем-нибудь зашуршать. А вот к Яковлевым и повода заехать не сыщешь.
Но всё едино, при таких неоспоримых качествах, именьице у Яковлевых было так себе. Взять, к примеру хотя бы сад при доме – это сплошной хаос из акаций, сирени, стареньких беседок и ветхих скамеек. А ведь можно же было нанять знающего и умелого садовника, чтобы кусты художественно подстриг, дорожки с розовым гравием наметил. Не так уж это дорого обойдётся – полгода службы, не упуская своего и всё тебе будет! Будет тебе из садика приличествующий дворянской усадьбе парк! Ан нет, ничего умнее грядок клубники и малины со смородиной вдоль забора не придумали. Прямо домострой какой-то допетровский, а не дворянская усадьба.
О помещичьем доме и говорить нечего. Архитектура у него годами сохранялась совершенно непонятная: не то на какой-то древний недострой нахлобучили крышу от чего-то задуманного, но нереализованного, не то под задуманной крышей дом когда-то частями перестраивали. Кто и когда, да и зачем никто и упомнить не мог. Несуразица внешнего вида какая-то, одним словом.
Комнаты в доме тоже были примечательными – широкими, но с низкими потолками. С красно-коричневыми полами, как в присутственных местах, с мебелью, сделанной по древним канонам бог знает когда и потому лишённой современного удобства и изящества. К примеру, в столовой стояли стулья, крашенные белой краской, с высокими спинками и по ним разрисованы некие лютики-букетики. Среди них – круглый стол с тоненькими ножками, никак не соотносящийся с массивностью стульев, но хоть цветом тот же. В углу возвышались стенные часы с гирями, которые по размеру и внешнему виду сошли бы за башню тевтонского замка, а маятник за секиру грозного стражника в воротах, постоянного ею махающего.
В рабочем кабинете первое что бросалось в глаза, так это книжные шкафы, сплошь закрывающие три стены кабинета и набитые книгами: тут тебе и Спенсер с социальной статистикой и синтетической (слово-то прости Господи какое!) философией; недавно почивший, вечный российский враг Бокль со своей историей Англии; Адам Смит со своими нравоучениями о природе капитала (что-то его мудрствования Яковлевым не очень в приобретении капитала помогали). А уж от авторов древних с их Афинами, Римом и деваться было некуда! Хорошо хоть цензурой данные книги были одобрены.
Такое чтение не могло не вызывать уважения к хозяину кабинета, ясно же что книги пишут люди неглупые, а тот, кто их прочесть может, да ещё в таком количестве и сам человек неглупый, но вот как подумаешь, что это вот для практической жизни достойной дворянина российского пользы не имеет, так и заскучаешь. Само в голову лезет: «Ты бы мил друг чем деньги свои немногие на мудрость людскую переводить, лучше бы интерьер домашний в приличествующий вид привёл».
Однако были там по мнению соседей вещи, несомненно, достойные: журналы «Москвитянин», новомодный «Сын отечества», потрёпанные номера «Современника» и «Вестника Европы». И не беда, что той Европы о которой писал Карамзин уже и в помине нет, но чтение явно любопытнейшее и назидательное. Да и из книг тоже находились вещицы интересные Загоскина, Гоголя, Одоевского.
Таким образом что-то в быте семейства Яковлевых соседями порицалось за глаза, а что-то одобрялось, как приличествующее дворянскому сословию. Например, несомненное одобрение заслуживала страсть к охоте. Хотя если честно говорить, то у Яковлевых это страстью назвать было сложно, так страстишка: ни тебе большой своры породистых собак, ни тебе солидно обставляемых охотничьих выездов с егерями, загонщиками и погребцом со всем эдаким, чтобы приличествовало выпить и закусить. Не имея ни чего такого мужчины из семейства Яковлевых предпочитали бродить по лесочкам в одиночку с парой беспородных собачек без совершенной приличествующей русскому помещику солидности, будто какой земский докторишка или учителишка.
Но, как бы то ни было, Яковлевы охотой занимались из поколения в поколение. При этом отцы зачастую обучали сыновей не только умению стрелять или не пропасть в незнакомом месте, но и чему-то такому, чему и сами бы не смогли найти название, но интуитивно чувствовали, что знать подобное ребенку будет не лишним, пригодится в его будущей даст Бог долгой жизни.
Для такого вот необычного обучения и вëз Платон Яковлев в то раннее летнее утро 1863 года своего семилетнего сына Андрюшу к затерянному в лесу озеру. Золотисто-розовые лучи подымающегося солнца пробивались среди крон деревьев, отбрасывая удлинённые тени от стволов на росистую траву. Где-то в вышине среди листвы перепархивали, щебеча птицы, сообщая друг другу о начале нового дня и о тех, кто двигался внизу по лесу.
Хотя Андрюша уже сам умел держаться в седле, отец не решился в этот раз доверить ему самостоятельно ехать на лошади: мальчика подняли рано, и он явно еще хотел спать, а потому мог просто не удержаться в седле, уснув в дороге. Поэтому Яковлев-старший усадил сына с собой и всю дорогу прижимая дремлющего ребёнка к себе, правил вдоль русла небольшого ручейка, впадающего в озеро. Ехали долго и неторопливо по чавкающему под копытами осклизлому берегу, в сопровождении двух собак, постоянно мечущихся по сторонам.
Наконец узкая долинка ручья постепенно начала расширяться и впереди за стволами деревьев мелькнуло серебро озерка: по берегу заросли тростника, а впереди саженей за двести на островной песчаной отмели была видна стая дремлющих диких гусей. Дремали спокойно, завернув головы под крылья, в глубокой уверенности, что в безопасности: отмель по середине озера, все вокруг просматривается, да и по краям отдыхающей стаи сторожевые гуси не дремлют.
Старший Яковлев остановился в камышах, не показываясь на виду гусям. Будя, потормошил сына, затем слез с лошади и снял следом Андрейку. Немного подождали, пока мальчик окончательно проснётся и начнёт проявлять интерес к окружающему. Собаки тем временем не таясь бегали по округе, встревожив своим шумом дальнюю стаю. Там перестали дремать, но и особого беспокойства тоже не выказывали в уверенности, что собаки далеко, не доберутся не замеченными.
Тем временем отец начал пояснять сыну происходящее:
– Вот посмотри, как гуси там сытно и уверенно устроились. Не доплыть к ним, не дойти. Отсюда издалека стрелять – можно промахнуться, а от выстрела вся стая снимется и улетит. Вот теперь скажи мне: можно их достать или нет? И не одного, а несколько? Стоило разве в такую даль за одним тащиться?
Андрейка, помолчав, ответил.
– А, думаю, что и можно, отчего же нет.
– А как?
– Не знаю, – простодушно ответил мальчик.
– Вот тебе и раз, – удивился отец. – Не знаешь, а говоришь, что можно. Как так?
– Да уж так. Если бы нельзя было их достать, ты бы меня сюда не привез. Сам сказал: «Стоило ли в такую даль тащится?» Притащились, значит стоило и ты покажешь, что, да как.
– А ведь правильно сообразил, – усмехнулся отец. – Давай тогда пешочком пройдемся направо, к леску на песчаном бережку вон с тем валуном. Там одну штуку испробуем.
Спустя минут двадцать на упомянутом песчаном берегу появились собаки. Ни на кого не обращая внимания, они метались взад – вперёд, подбирая что-то на песке. Гусиные сторожа вытягивали шеи от любопытства – что делают, чего мечутся. Угрозы стае вроде не было, а любопытством всё зверьё страдает, а не только человек, самый страшный и беспощадный из всех зверей.
Наконец один старый гусь решился посмотреть поближе на происходящее, заковылял с дальней отмели в воду и поплыл к берегу. За ним рискнули двинуться ещё двое помоложе, не менее любопытных, чем старик. Вот уже они выгребают всё ближе и ближе к берегу. И теперь видно им как из-за валуна кусочки хлеба вылетают, а собаки, за ними в азарте кидаются. Каждой хочется другую опередить, не столько хлеб этот нужен, как чувство превосходства – я проворней, быстрей, успешней. Так у и людей случается: кто-то подкидывает, а кто-то норовит побольше и побыстрее подобрать.
Гуси жались всё ближе к берегу: чего собак-то бояться, всегда можно улететь. Но тут грянули выстрелы, ударив эхом по берегам и далее затихающими раскатами по лесу. По окрестностям пронеслась сумятица: птичье царство застрекотало, заверещало, запищало на все лады, спеша предупредить друг друга об опасности.
Гусиная стая снялась с отмели, уходя ввысь от беды. У берега остались только старый гусь со своим житейским опытом и пара молодых гусей, которые никогда и ничему больше не научатся. Двух подстрелил отец из своей двустволки, одного успел достать Андрюша.
Собаки, вспомнив свои обязанности, сплавали, принесли добычу, с ней Яковлевы и вернулись к оставленной лошади. Отец заинтересованно поглядывал на Андрюшу, видя, как тот сосредоточенно обдумывал что-то. Наконец мальчик спросил:
– Почему они подплыли? Ведь они такие осторожные были, а тут взяли и подплыли. Почему?
– Любопытно им было. Вот на любопытство мы их и приманили. А дальше ты сам видел, чем неосторожное любопытство кончается. Если любопытство или что иное сильнее осторожности, то и приманить можно любого: что зверя, что человека.
Вот на будущее и думай, чтобы тебя или друзей твоих, или любимых тебе людей обманом не взял кто из непорядочных людей. А коли с каким бесчестьем самому бороться придётся, так хитрости не стесняйся. Хитростью иногда больше справедливости добиться можно, чем прямодушной честностью.
Разговор этот младшему Яковлеву может и не запомнился слово в слово, но вот последняя фраза, сказанная отцом, видимо подсознательно стала для него очень важной и не раз в последствии сослужила полезную службу.
Подобным вот образом протекала жизнь Андрюши в родовом поместье ещё почти три года, после чего семья Яковлевых перебралась в соседний уездный город. Родители сочли, что ребёнок должен от домашнего обучения перейти к более систематическому и после сдачи вступительных испытаний, мальчик стал учеником первого класса реальной гимназии. От обычной гимназии эта формально ничем не отличалась, разве что некоторыми мелочами: туда принимали детей всех сословий, а такое соседство претило некоторым родителям дворянских детей. Аттестаты об окончании реальной гимназии при поступлении в университеты «принимались к сведению на усмотрение университета», то есть были как бы второго сорта. Считалось, что после шести классов, ученики – реалисты могут продолжить обучение в седьмом классе по коммерческой или технической части или поступить в юнкерское училище. На последнее и рассчитывали Яковлевы в будущем для сына.
Разумеется, Яковлевы могли как потомственные дворяне устроить Андрея и в престижную классическую гимназию, но таковой в уездном городе не было, так сказать не полагалось по статусу, а переезжать в губернскую столицу было бы обременительно для семьи, стеснённых в средствах и отрывающихся от поместья.
Отправлять же Андрюшу на пансионное обучение при его малых летах и мать, и отец сочли жестокосердным: с семьёй ребёнку всегда легче принять трудности нового.
Как выяснилось трудностей хватало. Губернские власти, как уже упоминалось, относились к реальным гимназиям как к второсортным, соответственно и направляли туда подобных учителей. На место математика был определён человек желчный в прямом смысле, так как мучился от застоя желчи и камней в желчном пузыре. А потому уроки чаще всего либо не проводились из-за очередного приступа у преподавателя, либо заключались в указании разобрать новую тему самим, с тем чтобы на следующем уроке высказать ученикам, что они все «ослы, не разумеющие простых вещей». Попытки родителей обратиться к начальству, чтобы сменить учителя не давали успеха: разъяснялось что иного из губернии не пришлют, за неимением желающих на вакансию. Кроме того, говорилось, что математику осталось не так уж много лет до выхода в отставку и было бы не по-христиански увольнять его без выслуги и пенсиона. Таким образом реалисты обучались математике кто как мог и у кого мог, а именно: у более сообразительных товарищей или своих родителей. Андрюша Яковлев спасался тем, что, не сумев разобраться в чëм-то, шёл к отцу, а тот зная положение дел вспоминал, то, чему его самого учили.
Преподавание немецкого языка проводилось так же экстравагантным способом – учитель был из чистокровных немцев, но практически не говорящим по-русски, а потому обучение состояло из долгих зачитываний отрывков из Гейне, Гëте и Шиллера, с последующим заучиванием: «Ви думпкопф и должен наполница гросс литература». Такой метод обучения имел два последствия. Первое – часть реалистов возненавидев немецких классиков, стали использовать их имена как зашифрованные ругательства. Согласитесь проорать в коридоре однокласснику что он «совершеннейший Шиллер!» безопаснее, чем назвать его иным привычным русскому уху словом и быть услышанным классным инспектором или учителями, а значить и быть наказанным.
Второе последствие было даже в некоторой степени полезным в изучении немецкого языка: появился своего рода тотализатор – пока преподаватель бубнил очередной отрывок без всякого объяснения, участники «тотализатора» строчили на листах кто что и как понял, с тем чтобы после урока объединиться и похохотать над сами собой и своими переводами, а заодно распределить выигрыши среди тех, чей перевод хоть от части соответствовал оригиналу. Ставками обычно были обеды из дома, иногда что-то ценное в детской среде, очень редко деньги, ввиду их отсутствия у учеников. Однако вскоре эта игра угасла, так как выявилось несколько лидеров, всегда выигрывающих, а потому смысл игры потерялся.
Преподавание древних языков так же приобрело своеобразный оттенок: учитель после первых же месяцев учёбы начал высказывать каждому ученику с глазу на глаз, что тот де не успевает по предмету (что часто соответствовало действительности), и потому ему надобно брать частные уроки у учителя за 15 рублей в месяц, что будет гарантировать ученику достойный балл за год. Мало кто соглашался, просто по причине ограниченности средств в семье. Да и просить денег на взятку за оценку по древнегреческому языку или латыни, житейская необходимость в которых была сомнительной, мог только «совершеннейший Шиллер». Андрей Яковлев по примеру большинства, отказался от подобного предложения, заявив, что ему будет достаточно оценки «посредственно».
Так протекали шесть лет обучения, в которых у многих оценки в табеле не соответствовали полученным знаниям, а сами знаний ученика-реалиста уездной гимназии больше зависели от его желания учиться, чем от достоинств наставников. А потому в конце апреля 1870 года, гимназисты, державшие испытание за все шесть лет обучения, немало удивили комиссию из губернского комитета народного просвещения: многие из тех, кто по гимназическим представлениям числились в «хорошистах» оказались с оценками «посредственно», и наоборот. В числе последних оказался и Андрей Яковлев, получивший аттестат преимущественно с оценками выше тех, что ему выставлялись гимназическими учителями большую часть времени обучения.
На семейном совете решено было по данному поводу устроить небольшой праздник, а кроме того, приняли окончательное решение, о том, что младший Яковлев ни в какой седьмой класс для продолжения учёбы не пойдёт и постигать тайны коммерции или премудрости технические не будет, а продолжит обучение в Тверском юнкерском кавалерийском училище, выбранном опять-таки из соображений наибольшей близости к родным местам.
Как показала жизнь выбор этот оказался своевременным: на следующий год реальные гимназии были низведены до уровня училищ и с аттестатами об их окончания можно было думать только о карьере приказчика в лавке или техника в промышленной артели, но к тому времени новоявленный юнкер Яковлев отбыл к началу занятий в кавалерийском училище без всякого сожаления о гимназии, более того в ожидании чего-то нового, интересного.
Нового было с избытком, начиная с того, что само Тверское училище было новым – оно было открыто за четыре года до поступления в него Андрея. Все обучающиеся, а их было сто двадцать, на военный манер составляли эскадрон. Соответственно Андрей оказался в полуэскадроне первогодков. Далее новым для бывшего реалиста Яковлева оказалось и то, что общеобразовательные дисциплины можно преподавать не абы как, а с толком. Соответственно и спрос был серьёзный. Но вчерашние гимназисты, а сегодняшние юнкера и здесь умудрялись хитрить: заготавливали шпаргалки или отвечали друг за друга, пользуясь тем, что мало кто из преподавателей был способен сразу запомнить все шестьдесят лиц юнкеров младшего полуэскадрона, одинаково подстриженных и одинаково одетых.
Для юнкеров из семей невоенных в новинку были шашечные или ружейные приёмы, вольтижировка на лошадях, хотя в седле умели держаться многие. Совершенно ошарашивающим было обучение работе в кузнице. Хотя вновь поступившие и были из разных сословий, но детей ремесленников среди них не встречалось, а потому никто не был готов к подобному.
Так же как оказалось, что все были не готовы к длительной оторванности от родных и жизни в общей казарме. Нет, разумеется, они все это предполагали и первоначально оказаться без родительского догляда, в новой среде было интересно каждому. Однако уже со второго месяца один за другим юнкера первогодки становились тоскливыми и норовили найти укромное место, чтобы побыть в одиночестве и привести в порядок мысли и чувства. Некоторые, чтобы успокоиться, сбегали после отбоя в самоволку с тем только чтобы побродить где-нибудь в малолюдном месте, чаще всего у реки, берега которой поросли ивами и ольхой, а верхушки были унизаны птичьими гнёздами.
Кому-то это удавалось без последствий, кому-то не везло, и они попадали в «лишки», то есть лишались увольнения в город в свободное время или получали внеочередное назначение в дневальные. Не миновал сего и новоиспечённый юнкер Яковлев. Но постепенно большинство младших юнкеров как-то пообвыклись и по окончании первого года обучения, сдачи экзаменов и месяца лагерных сборов на Ходынском поле Москвы, были отправлены по домам в отпуска.
Домой Андрей Яковлев добирался с нескрываемым чувством радости. Радости от предстоящей встречи с родителями, встречи с пусть и неказистым, но ставшим вдали таким милым родным поместьем, радости от солнца, травы и деревьев. Радости, что всë наладилось с учёбой и можно, не стыдясь рассказывать об успехах всем знакомым. Все вокруг для Андрея было прекрасно, и будет прекрасно и сейчас, и всегда, потому что просто иначе быть не может.
Дома его встретил только отец и прислуга. Мать выйти не смогла. Из еë спальни по дому распространялся запах камфоры, которой уездный лекарь, мешая с селитрой, пытался остановить желудочные кровотечения. Помогало мало, так же, как и горячие припарки на живот. Больше всего облегчение давало молоко, но кровотечение оно остановить не могло. Оказывается, мать угасала уже несколько недель, но в письмах, которые получал Андрей в училище из дома, мать скрывала о болезни, чтобы не волновать сына, которому как она понимала и так нелегко даётся новая жизнь.
Быть возле себя, несмотря на увещевания сына, мать особо не разрешала, ссылаясь на то, что ей не хочется, чтобы еë беспокоили. Поэтому посещения больной родными были в основном краткими. Постоянно рядом больная терпела только меняющихся сиделок. В середине июля, оставшись с сыном один на один она завела краткий разговор:
– Чувствую, сынок, умру я скоро. Ты не спорь и не пытайся меня успокаивать. Что поделать: так уж суждено, что оставляю тебя, милый. Но ты не сокрушайся, живи ради меня как должно. Мне же оттуда радостно будет видеть, что у тебя всë хорошо. Будь только честен и даст Бог счастье к тебе со временем придëт. Отца береги. Я же вижу, что он сам не свой ходит. Его лишний раз пожалей, а меня жалеть… что уж, если так Господу угодно. Я его благодарю за всë: за то, что дал мне тебя и за годы с прожитые с твоим отцом. Жалею только, что не увижу тебя офицером. Ну вот и всë, что мне хотелось тебе сказать. Ступай, отдохнуть мне нужно. Я теперь и от разговоров устаю.
В конце месяца её не стало. Хоронили еë на сельском кладбище и местный батюшка несмотря на то, что собирались тучи, провëл отпевание неторопливо, с чувством. И природа будто восприняв скорбь людскую, деликатно воздержалась мешать им, заплакав дождëм лишь после того, как люди покинули кладбище.
Оставшийся месяц до возвращения в училище Андрей провëл в странном двойственном состоянии: бывая с отцом он, стараясь того поддерживать, бодрился, говорил какие-то малозначительные, затасканные фразы, а оставаясь наедине с собой, уже не имея сил на эту напускную душевную крепость, еле сдерживался от того, чтобы не заплакать по-детски навзрыд от душившего горя, боясь быть услышанным кем-нибудь из домашних.
К концу августа, утешив насколько было возможно отца, с обещанием писать почаще и с тяжелым сердцем, Андрей возвратился в училище. Предстоял второй заключительный год обучения, наполненный иными заботами. Для Яковлева прошлогодние тяготы казарменного обучения вдруг стали спасением. Они как бы прятали постигшее его горе куда-то глубоко в душу, туда откуда оно светилось неким напоминанием, но уже не жгло как ранее.
Год как-то незаметно промелькнул и началась подготовка к последним экзаменам. Наибольшие опасения как у юнкеров, так и преподавателей вызывали почему-то не химия или механика, или иностранные языки, а тем более воинские дисциплины, а казалось бы, уже выштудированные ещë в гимназиях русский язык и Закон божий.
После некоторых раздумий, для сдачи письменного экзамена по русскому языку нашли следующий выход: каждый юнкер был обязан заготовить письменный ответ на один из доставшихся по жребию вопросов из объявленного перечня. Накануне экзамена ответы разложили по порядку вопросов в парты и юнкеру, взявшему билет, оставалось только сесть за парту, соответствующую номеру билета и готовиться отвечать. Делалось это явно с ведома преподавателей, но портить жизнь юнкерам за-ради грамматики никто не хотел. В конце концов, если кому-то захочется стать Бестужевым-Марлинским или Львом Толстым, пусть доучивается сам.



