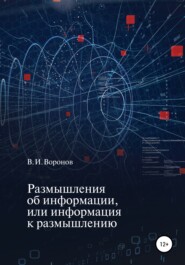 Полная версия
Полная версияРазмышления об информации, или Информация к размышлению
Несмотря на то, что описания феноменов РМЛ известны ещё с XVIII века, до сих пор отсутствует общепринятое представление о том, что они собой представляют, и даже само существование такого расстройства подвергается сомнению. Это связано с тем, что в рамках ЕНП нет понимания того, каким образом в мозге интегрируется информация, связанная со множеством психических функций, которые ассоциируются с личностью. И тем более не ясно, как могут формироваться и захватывать управление телом обособленные субличности, использующие выделенные и закрытые для других личностей ресурсы мозга. В этой связи, чтобы избавиться от неопределённого термина «личность», РМЛ даже переименовали в диссоциативное расстройство идентичности (ДРИ), что, впрочем, не вносит в проблему РМЛ никакой дополнительной ясности.
Важно отметить, что, в отличие от многих других необычных состояний сознания человека, в изучении которых главную роль играют нарративы, РМЛ связано с возможностью объективного фиксирования фундаментальных изменений в поведении, не вытекающих из опыта предыдущей жизни.
Описанные в литературе тысячи случаев РМЛ с точки зрения ИП являются убедительным свидетельством того, что личность – это не принадлежность тела, существующая в виде информационных процессов в мозге, а отдельный организм, принадлежащий иной реальности и обладающий своим индивидуальным феноменальным опытом. Но это организм, развитие которого происходит в симбиотической связи с телом.
Существование множества личностей, ожидающих вступления в симбиоз с телом, указывает на то, что личность способна обходиться и без такого симбиоза. Однако стремление к симбиозу, по-видимому, необходимо личности для развития и реализации своих целей в материальном мире. При этом тело играет подчинённую роль, являясь исполнительным органом, осуществляющим целенаправленное поведение, сформированное личностью.
Возможно, многое в природе существования личности стало бы яснее, если бы удалось понять причины возникновения РМЛ. В патопсихологии РМЛ рассматривается как защитный механизм, возникающий в мозге в ответ на стрессовую ситуацию, пережитую в детском возрасте, когда закладывались основы личности. Задача такого механизма заключается в том, чтобы вытеснить воспоминания о травмирующих событиях или даже о целом периоде жизни. Однако использование такого изощрённого подхода, как создание субличностей, для решения довольно простой задачи, связанной с амнезией, вряд ли выглядит убедительно.
Но если воспринимать субличности не как системы идентичностей, сформированные в мозге, а как отдельные организмы, утратившие симбиоз с изначальным телом, то представляется, что при РМЛ работает, скорее, некий «беззащитный» механизм. И этот механизм позволяет субличностям завладеть телом, вытеснив основную, травмированную стрессом личность.
Конечно, ответ на вопрос, каким образом возникают свободные от симбиоза личности, лежит за пределами физической реальности. Но указание на то, что такие личности существуют, можно найти в нарративах околосмертных переживаний (ОСП) пациентов, испытавших клиническую смерть.
Действительно, в случае смерти тела симбиотические связи разрушаются и происходит утрата единого сознания самости. Однако личность как организм продолжает существовать в иной реальности, а её сознание, лишённое перцептивных возможностей тела, способно использовать собственные органы восприятия.
Из числа лиц, переживших клиническую смерть, ОСП наблюдаются не более чем у 18 % пациентов, и лишь 12 % способны отразить их в нарративах. При этом феноменальные образы и смыслы ОСП невозможно выразить адекватно в вербально-логической форме, связанной с физической реальностью. И тем не менее нарративы ОСП являются одной из немногих возможностей получить представление об иной реальности в контролируемых условиях, когда можно фиксировать отсутствие активности мозга, то есть И-сознания.
Изучение этих нарративов выявляет их высокую целостность и повторяемость, а также исключает влияние психологических, физиологических или фармакологических факторов, приводящих к галлюцинациям. Наиболее часто в нарративах описываются ОСП следующих типов:
• переживания, связанные с ощущением выхода из тела и возможностью видеть и слышать окружающих и собственное тело со стороны;
• исчезновение ощущения собственного «я»;
• просмотр эпизодов прошедшей жизни;
• встречи с умершими родственниками и друзьями;
• ощущение прохождения через туннель с ярким светом в конце;
• переживание необыкновенно сильных положительных эмоций;
• переживания Любви и Света как присутствия Бога;
• ощущение достижения некой преграды или границы.
Кроме этого, фиксируется отсутствие тактильных, вкусовых и обонятельных ощущений, изменение восприятия пространства и времени и невозможность повлиять на что-либо в происходящем. Отмечается также угасание вербального мышления и логического понимания воспринимаемого при сохранении образного мышления и интуитивного понимания смыслов.
Подобное содержание ОСП практически не зависит от исторической эпохи, культуры и религиозной принадлежности человека.
Конечно, нарративы ОСП абсолютно субъективны, но, хотя ЕНП не может рассматривать субъективные описания в качестве научных фактов, массовость феномена, задокументированного во множествах нарративов, не позволяет их игнорировать и требует какого-либо естественно-научного объяснения.
Однако чтобы получить такое объяснение, необходимо признать, что при клинической смерти, когда электрическая активность мозга уже отсутствует, но нервные клетки ещё продолжают жить, в мозге возможны процессы, приводящие к осознаваемым переживаниям, хотя когнитивная составляющая сознания полностью исчезла. Характер таких переживаний в некоторых исследованиях связывают с изменением метаболизма нейронов в условиях кислородного голодания и с избытком концентрации углекислого газа, вызывающего галлюцинации и ощущение пребывания в туннеле. При этом последовательность и повторяемость ОСП определяется последовательностью дезинтеграции и деградации различных структур мозга.
Но объяснения такого рода должны опираться на убеждение, что физические структуры мозга способны самостоятельно генерировать феноменальные переживания, хотя, как об этом уже многократно говорилось, никакого механизма такой генерации наука предложить не может.
Содержание нарративов, представленное выше, отражает лишь наиболее яркие моменты восприятия иной реальности, но спектр переживаний при клинической смерти, по-видимому, гораздо шире. Просто не все из них могут быть впоследствии логически осмыслены и вербализованы в нарративах обычными пациентами. И в этом плане большой интерес представляет взгляд профессионального психиатра, изложенный Львом Литваком в его книге [Литвак, 2007]. В этой книге Литвак на основе анализа собственного опыта ОСП, полученного в течение 26 дней пребывания в состоянии комы, описывает несколько фаз ОСП. Кроме позитивной эйфорической фазы, обычно представленной в нарративах, им выделена ещё бессознательная фаза, связанная с переживанием тьмы, и депрессивная фаза, характеризующаяся восприятием серых обезличенных образов на фоне ощущений страха и тревоги.
Подобное развитие ОСП самым естественным образом может быть интерпретировано на основе обсуждаемой симбиотической структуры сознания человека. Действительно, клиническая смерть, связанная с прекращением функционирования органов чувств и угасанием мозговой активности, приводит к исчезновению информационного и вербального сознания, а также сознания тела в целом. При этом сознание самости, оказавшись в условиях глубокой депривации, воспринимает это состояние как переживание тьмы, лишённой каких-либо осознаваемых ориентиров. Следующую, депрессивную, фазу можно связать с разрушением симбиотических связей и дезинтеграцией тела и личности, что должно сопровождаться ощущениями тревоги и страха, переживаемыми личностью, теряющей связь с телом и остающейся в неведомой ей иной реальности. И наконец, третья – эйфорическая – фаза соответствует начальному этапу самостоятельного существования организма личности. Однако прежде чем стать организмом, способным существовать вне физического мира, личность должна пройти стадию определённой трансформации – некоего метаморфоза, в результате которого она обретёт возможность не только воспринимать иную реальность, но и активно действовать в ней.
Трансформации, происходящие в эйфорической фазе, по-видимому, не являются критическими, так как не затрагивают способности личности к восстановлению симбиоза с телом. Но, как отмечают многие испытавшие ОСП, они приводят к существенной позитивной перестройке мировоззрения человека, что выглядело бы странно в теориях, связывающих ОСП с дезинтеграцией умирающего мозга.
Одной из первых трансформаций личности является обретение собственной способности к зрительному и слуховому восприятию физического мира и мира иной реальности. И эта способность реализуется в том числе для слепых и глухих от рождения людей, что указывает на принадлежность этих мод восприятия именно личности, а не телу.
Однако не все люди, пережившие клиническую смерть, могут сообщить об ОСП и, следовательно, не для всех доступна эйфорическая фаза трансформации. Возможно, это означает, что некоторые личности и без симбиоза с телом могут оставаться в определённой связи с физическим миром, сохраняя способность к новым симбиотическим отношениям, проявляющимся, например, в феномене множественных личностей.
Следует также отметить, что внетелесный опыт, представленный в некоторых нарративах ОСП, даёт принципиальную возможность убедиться в существовании личности как отдельного организма. Для этого нужно лишь документально зафиксировать существование наблюдаемых личностью предметов, недоступных для восприятия телом. Предпринятые в этом направлении попытки ввиду недостаточной статистики пока успехом не увенчались.
Итак, мы рассмотрели два вида психических проявлений, связанных с полной диссоциацией симбиоза тела и личности. Это околосмертные переживания (ОСП), происходящие во время клинической смерти, и расстройство множественных личностей (РМЛ). Но кроме РМЛ в психиатрии известен ещё один вид расстройств, которые можно ассоциировать с нарушением информационного симбиоза тела и личности. Это расстройства деперсонализации и дереализации [Нулер, 1981], характеризирующиеся трансформацией Я-образа и неадекватным восприятием окружающей реальности.
В рассматриваемой структуре самости человека такие расстройства могут возникать при разнообразных диссоциативных нарушениях симбиотического единства, приводящих к доминированию сознания тела или сознания личности. Причину таких диссоциаций, как правило, связывают с нарушениями нейрохимического гомеостаза, вызванными стрессовыми ситуациями или наркотическими отравлениями. При этом важнейшей отличительной чертой расстройств деперсонализации является нормальное функционирование органов чувств при сохранении рационального мышления и адекватного поведения.
Результаты клинических наблюдений за людьми с расстройством деперсонализации позволяют сделать вывод, что Я-образ в сознании таких пациентов делится на два частично изолированных блока – «я» действующее, связанное с телом, и «я» наблюдающее, связанное с личностью. При этом в доминирующей части сознания, с которой отождествляет себя человек, исчезают или блёкнут ощущения, связанные с другой частью сознания, что позволяет структурно разделить функции сознания тела и сознания личности.
В том случае, когда доминирует тело, возникают ощущения утраты определённых черт своей индивидуальности, своего «я». При таком типе расстройства, диагностируемом как аутопсихическая деперсонализация, проявляются следующие симптомы нарушения самости человека:
• возникает ощущение отсутствия мировоззрения, выражающееся в невозможности сформулировать собственное мнение и взгляды;
• искажается восприятие размеров, пропорций и самого существования собственного тела;
• ощущается угасание или исчезновение чувств и эмоций, связанных с близкими людьми, вплоть до восприятия их как чужих;
• всё окружающее утрачивает смыслы, превращаясь в пустые декорации, а в тяжёлых случаях дереализации мир предстаёт как нечто нереальное, населённое непонятными существами;
• воспринимаемые цвета блёкнут, и на эмоционально сером фоне исчезает понятие настроения;
• затрудняется образное мышление и притупляется восприятие живописи и музыки;
• исчезает осознанный контроль над волей;
• возникает ощущение пустого, лишённого мыслей сознания.
Можно предположить, что при аутопсихической деперсонализации все перечисленные утраты в сознании самости определяются сознанием личности. И эти утраты полностью соответствуют той структуре сознания человека, которая приведена на рис. 2. Действительно, именно через личность осуществляется доступ к слоям Ф-сознания, связанным с восприятием квалиа, феноменальных смыслов и переживанием социальных чувств и эмоций. И именно личности принадлежат феноменальные объекты Ф-пула, определяющие мировоззрение человека и его представление о собственном теле.
Но в то же время при аутопсихической деперсонализации продолжают осуществляться все основные функции сознания тела.
И хотя феноменальные смыслы, связанные с восприятием окружающей реальности, становятся недоступными самости, смыслы, включённые в когнитивную деятельность мозга и связанные с вербальным мышлением, продолжают существовать, обеспечивая адекватное поведение и речь. И даже при субъективном отсутствии эмоций, мимика и реакции пациентов остаются вполне соответствующими эмоциональной ситуации. Однако, несмотря на сохранение всех когнитивных функций, интеллекта и рационального мышления, восприятие, требующее понимания невербальных смыслов, и образное мышление оказываются подавленными.
Итак, на основе клинических наблюдений за изменениями сознания самости при расстройствах аутопсихической деперсонализации можно выделить главные функции, связанные с сознанием личности. К ним относятся:
• восприятие квалиа и смыслов окружающей реальности;
• переживание чувств и эмоций, связанных с социальной жизнью;
• формирование мировоззрения, позволяющего иметь собственные взгляды и мнения;
• функционирование образного мышления и образной памяти;
• обогащение вербального сознания феноменальными смыслами;
• принятие целенаправленных решений;
• формирование представлений о теле.
Другой тип расстройств, диагностируемый как соматопсихическая деперсонализация, связан с нарушениями симбиоза, при которых в сознании самости доминирует личность. При расстройствах такого типа наблюдаются следующие симптомы:
• отчуждение от собственного тела и потеря контроля над ним;
• нарушение координации движений;
• восприятие поведения тела как автоматического;
• искажение и притупление болевых ощущений, вплоть до полного их отсутствия;
• исчезновение чувства голода и насыщения;
• изменение вкусовых ощущений;
• снижение тактильной чувствительности и ощущений температурных контрастов;
• отсутствие сексуального удовольствия;
• нарушение чувства веса тела;
• искажение восприятия пространства и времени.
Все перечисленные феноменальные качества, подавленные в сознании самости при доминировании личности, безусловно, играют важнейшую роль в сознании тела. Конечно, решаемые при этом задачи достаточно утилитарны и связаны в основном с обеспечением функционирования организма тела. Это пространственно-временной контроль поведения, поддержание гомеостаза и целостности организма, а также обеспечение согласованной работы всех органов тела.
Однако основная часть управления телом и формирования его поведения происходит не на феноменальном, а на когнитивном уровне, характеризующемся бессознательным принятием решений, определяемых информационными процессами в мозге. И эти процессы протекают достаточно независимо от сознания самости и не затрагиваются его расстройствами. Это касается, в частности, и вербального мышления, и связанного с ним уровня интеллекта. Поэтому вербальное сознание, объединяющее вербальные тексты и соответствующие им феноменальные смыслы, при соматопсихической деперсонализации не нарушается.
Не нарушается также полноценное функционирование зрительных и акустических мод восприятия, в то время как феноменальная составляющая других мод гаснет. Это связано с тем, что акустическая и зрительная перцепция ассоциирована с физическим слоем Ф-сознания, доступ к которому имеет личность, а другие моды восприятия ассоциированы с организменным слоем, замыкающимся на тело. Поэтому при доминировании личности феноменальные качества слуха и зрения остаются доступны сознанию самости, а для феноменальных качеств организменного слоя этот доступ ограничен.
По результатам клинических наблюдений при расстройствах соматопсихической деперсонализации можно сделать вывод, что основные функции, связанные с сознанием тела, включают:
• информационное отражение окружающей реальности на основе сигналов от перцептивных органов;
• бессознательные информационные процессы, обеспечивающие работу тела;
• принятие алгоритмизированных поведенческих решений;
• функционирование информационной памяти;
• обеспечение информационного мышления, продуцирующего вербальные тексты;
• пространственно-временное восприятие физического мира;
• доступ к организменному слою Ф-сознания, содержащему переживания телесных восприятий, ощущений, чувств и позывов.
Описанные расстройства деперсонализации предоставляют уникальную возможность структурировать функциональные составляющие, вносимые в сознание самости телом и личностью. Открывающаяся в психике при таких расстройствах структура сознания находится в полном соответствии со схемой, представленной на рис. 2. Центральное место в этой схеме занимает В-сознание, которое объединяет тексты, порождаемые вербальным мышлением тела, и феноменальные смыслы, возникающие в результате образного мышления личности.
Важно, что при любом типе расстройств деперсонализации функционирование И-сознания и, в частности, вербального мышления не нарушается, что указывает на относительную независимость информационных процессов, протекающих в мозге человека, от влияния личности. Но тем не менее, хотя при клинической смерти вербальное мышление отсутствует, после возвращения к жизни феноменальные переживания личности могут быть вербализованы в нарративах ОСП. А это значит, что не связанные происхождением с телом феноменальные объекты Ф-пула могут преобразовываться в информационные объекты И-пула посредством сознания самости.
Итак, мы рассмотрели трансформации самости человека, происходящие при смене личности в РМЛ, при деформациях симбиотических связей в расстройствах деперсонализации и при утрате тела во время клинической смерти. Наблюдаемые в этих случаях психические проявления позволяют сделать вывод об объективном существовании обособленной части человеческого сознания, которую в психологии отождествляют с личностью, а в философии и религии – с душой. С информационной точки зрения это соответствует существованию двух ИС, одна из которых связана с телом и оперирует информацией, представленной в символьной форме, а другая, связанная с личностью, использует феноменальную информацию, воспринимаемую в форме осознанных переживаний квалиа, чувств и образов.
Эти две ИС решают принципиально разные задачи. Сознание тела, использующее символьную информацию, выстраивает иерархию воспринимаемой реальности от единичного к общему, связывая информационные объекты логическими отношениями в соответствии с изначально существующим в системе тезаурусом. Сознанию личности реальность даётся сразу в обобщённой форме феноменальных образов, отдельные детали которых связаны множеством феноменальных смыслов. И если задача сознания тела состоит в том, чтобы собрать из разрозненных деталей конструкцию реальности мира, то задача сознания личности заключается в вычленении из общей картины отдельных осознаваемых частей и в постижении связывающих их смыслов. Другими словами, работа сознания тела основывается на рациональном мышлении, использующем логику, а работа сознания личности – на образном мышлении, использующем интуицию.
Объединение возможностей таких разнородных ИС в симбиозе самости позволяет человеку воспринимать мир не только в пределах врождённого тезауруса, но и познавать его с совершенно новых позиций, возникающих на интуитивном уровне.
Смена личностей при РМЛ и активная деятельность Ф-сознания при клинической смерти тела достаточно убедительно демонстрируют, что ИС личности не может рассматриваться как обособленная информационная структура мозга. А по современным физическим представлениям, она также не может быть представлена какой-либо внешней физической системой, не связанной с мозгом. Но это значит, что ИС личности должна быть реализована в иной реальности, на которую не распространяются пространственно-временные ограничения физического мира.
Однако на вопрос, что представляет собой эта реальность и какие функции отведены в ней личности, невозможно ответить, используя лишь знания о замкнутом физическом мире. Но описанные в главе 2 «трудные» проблемы науки, связанные с информационной открытостью физического мира, указывают на существование нематериальных ИС, играющих важную роль в эволюции Вселенной, в зарождении биологической жизни и в онтогенезе человеческого организма. Анализ этих проблем с информационной точки зрения приводит к представлению о материнском организме Наблюдателя – Творца, обеспечивающего эволюционную и информационную поддержку биологической жизни. Но так как Ф-сознание является единственным информационным каналом, связывающим организмы разных реальностей, то симбиоз ИС, использующих символьную и феноменальную информацию, является одним из инструментов такой поддержки.
В этой связи возникает ряд вопросов: каким образом и когда начинается совместный онтогенез тела и личности, чем он заканчивается и что вообще может представлять из себя ИС личности, реализованная в иной реальности? Конечно, ответы на эти вопросы – дело будущего, но уже сейчас существует достаточно фактов, чтобы предметно пофантазировать на эту тему.
Действительно, личность, как и тело, имеет индивидуальные черты, связанные с характером и психическими особенностями. И эти черты могут наследоваться от родителей, раскрываясь в процессе онтогенеза так же, как наследуются и проявляются с возрастом определённые телесные признаки. Но если все виды наследственных особенностей связаны с геномом оплодотворённой яйцеклетки, то можно говорить об одновременном зачатии тела и личности.
Генетическая информация ДНК, как и любая другая символьная информация, может быть ассоциирована с феноменальными образами единого языка Ф-сознания. И именно в таком виде она становится доступной одной из множества свободных ИС иной реальности, предоставляемых Наблюдателем как материнским организмом. Образующийся в результате «эмбрион личности» оказывается сразу в симбиотической связи с эмбрионом тела. И такая связь совершенно необходима, так как в эмбрионе личности содержится вся необходимая информация для задания начального тезауруса биологического организма и для осуществления гносеогенеза. На основе полученной генетической информации личность выстраивает динамическую модель развивающегося многоклеточного организма, являющуюся основой энтелехии, которая объединяет «проектную» и управляющую информацию, осуществляющую онтогенез организма тела и, в частности, его морфогенез.
Совместный онтогенез тела и личности продолжается на протяжении всей жизни человека. Но если онтогенез тела определяется структурными изменениями образующей его физической системы, то онтогенез личности носит чисто информационный характер и связан с активацией её генетически обусловленных информационных структур, то есть фактически с психогенезом человеческого организма. Аналогично тому, как онтогенез тела, базирующийся на генетической информации, зависит от окружающей среды, так и психогенез личности, имеющий генетические предпосылки, определяется окружающей информационной средой, то есть теми феноменальными объектами, которые заполняют Ф-пул личности.



