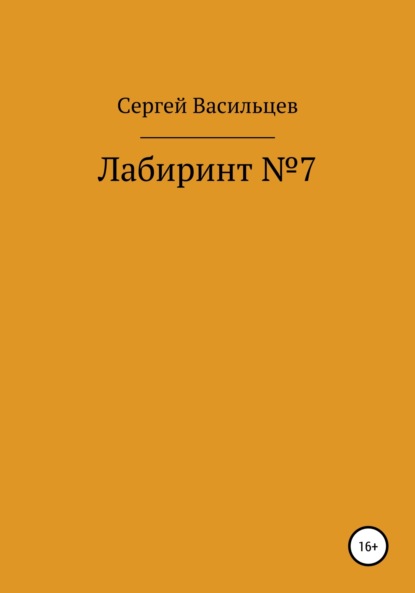 Полная версия
Полная версияЛабиринт №7
– Мне тоже, если откровенно …
Она улыбнулась.
– Знаете, во всем том, что про меня болтают, мало правды.
– Правды?
– Не знаю, зачем все это говорю. Я про мои связи и измены. И … Да что там! Все разговоры о нравственности ведутся из страха, что чужая баба сведет твоего мужика. А я не боюсь! Как можно изменить человеку, если вы с ним – единое целое? Если он у тебя внутри. А если его там уже нет, то ты все равно изменяешь, даже если сохраняешь ему внешнюю верность. В этом случае, ты уже изменяешь себе самому.
– «Не возжелай жены ближнего своего». А самый ближний – это я сам. Тавтология получается. Евдокия…
– Лучше – Даша.
– Хорошо, Даша, – улыбнулся хозяин. – Я никогда не о чем таком про Вас не думал. Мне было комфортно с Вами общаться. И все.
– И все… – Она задумалась. – А если я расскажу шефу? Он ведь вернет Вас. И снова будет, как было.
– И все пойдет своим чередом? Нет, не пойдет. Время собирать камни еще не настало. Вы знаете, как они все тогда на меня бросились.
– Подумаешь! Это разве повод для обиды? Потрендят и забудут. Они и так говорят, что вы не такой как все.
– И поэтому хуже других. Но главное не в том. Шеф этого не сделает. У него другая мотивация, и я о ней знаю. Да и у меня теперь тоже. Поговорим о чем-нибудь другом.
– Знаете, когда я была маленькой девочкой, мне очень нравилась книжка про Алые паруса. Повзрослела и все равно оставалась идеалисткой.
– «Алые паруса» не такая уж глупая книжка.
– Отчего же глупая?
– Неправильно… К тому, что романтизм там прагматический.
– Ну и что? Ждать и дождаться – разве это не мило?
– А что потом?
– А какая разница? Самое главное в жизни уже сбылось.
– А у Вас, Евдокия?
– Даша… Пока не знаю.
– И в чем же тогда ваш идеализм?
– В этом и есть. Идеализм – это дух, который бессмертен и ненасытен.
– А тело?
– Тело тоже должно к этому стремиться. Во всяком случае, дух должен постараться уговорить тело…
– Забавное у Вас мироощущение…
– Скорее – трагическое.
Странная безотносительная нежность разлилась в окружающем пространстве. Наверное, оба почувствовали это. И молчание на несколько минут заполнило кухню.
– На самом деле, – сказал Сергей, чтобы заполнить паузу, – реализуется принцип «чувственного переноса». Человек формирует в себе чувство, вынашивает и уже потом подбирает объект для его воплощения. Так же как Мозес создал народ для поклонения своему Богу. Ролевое ожидание – только и всего.
– И все-таки… – сказала Евдокия.
– Что все-таки? – ответил он с деланной непринужденностью.
– Все-таки я к Вам пришла. – «Чего же боле?» – подумал хозяин квартиры, улыбнулся и решил, что у русских мужиков вместо психоаналитика существует два «последних клапана» – «водка» и «молодка», и оба играют роль огнетушителя, когда на душе так тошно, что хоть иди да топись. Или вешайся на подтяжках. Может быть у нас оттого так много алкашей, что молодок не хватает?
Как тут не поверить в закон равновесия? Как только судьба что-нибудь отнимает, она тут же подсовывает что-то взамен.
– Вы верите в судьбу? – пробормотал размышляющий.
– В судьбу не верить нельзя. У нас против нее никаких шансов. И все-таки иногда очень хочется, чтобы она была к нам чуточку добрее.
Сергей продолжал произносить слова и двигаться, но делал это словно бы под гипнозом. Тело Евдокии становилось все более провокационным, и развитие сюжета продолжалось до того ожидаемо, что скорее напоминало рекламный ролик. А сам герой – попугая с единственным слоганом в башке: «Не уходи!»
Кожа у нее была удивительно нежная.
Ночь выдалась длинной и бессонной. А когда он все-таки забылся на несколько минут, то увидел пирамиду, которая вращалась в аморфном пространстве, поблескивая гранями, и в каждой ее плоскости – свое лицо. «К чему бы это?» – подумал Сергей еще во сне. Не нашел ответа и начал просыпаться. Ощутив его пробуждение своей кошачьей сущностью, рядом зашевелилась Даша.
– Ты был таким жадным этой ночью. – Она приоткрыла глаза и потянулась, окинув комнату плавающим взглядом.
– Моя доктрина существования в очередной раз развалилась на части.
– Мне нравится слушать, как бьется твое сердце. Мы еще увидимся?
– А может быть и не стоит строить никаких доктрин?
– У меня до сих пор бродят колики по животу. Такие легкие мурашечки.
– Я навертел слоеный пирог из разных смыслов и теперь не могу его проглотить.
– А еще ты так забавно ворочаешься во сне. Прямо как медвежонок.
– А может быть сон и есть ключ ко всем версиям существования? Недаром же еще у древних хазаров числятся ловцы сновидений. Они же – главные провидцы. Или не у хазаров? Не помню. Медведь – это опасность. Он уже приходил ко мне один раз.
– А я тогда так сильно прижалась к тебе, что чуть не получила удовольствие. Одна. Представляешь? Мы выполнены по особому заказу – друг для друга – и только. Это какая-то особая ошибка природы. Я так давно хотела это сказать.
– Взаимодействие души и тела можно представить как две точки, живущие по разные стороны плоскости. Я бы так изобразил границу жизни и смерти. И душа там – за этой гранью, «по ту строну», потому что смерть ее не касается. Но проекция души на плоскость не совпадает с проекцией тела. Она всегда впереди. И знает главное – что будет.
– Я тебе уже говорила, что ты мог бы быть прекрасным мужем… Не бойся – не для меня!
– А раз она знает, что будет, то ей приходится все время оборачиваться и готовить тело к свершившемуся событию, как к будущей данности. Поэтому провидцы всего лишь умеют читать у себя в душе. У них проекция совпадает. А еще мы видим сны. И сквозь них проходит весь мир. Как?.. Утлая идея.
– Мой мир течет сейчас через тебя. Но ты меня совсем не слышишь.
– Я уже здесь. Кажется.
– Что у тебя на душе?
– Кошки скребут.
– Из-за меня? – она приподнялась на локте.
– Нет, конечно. Ты – моя спасительница.
– Не надо преувеличивать. Просто должен же ты высказать то, что накипело.
– Накипело? Пожалуй. Но давай лучше помолчим, – она согласно прильнула к нему губами. Выходило, что ей становилось хорошо, когда им обоим было плохо. Или он теперь это придумал? В конце концов ее губы высосали из него остатки мыслей. И стало тепло и уютно. Прежнее ощущение нежности затопило его мозги.
Бывает так, что любовь концентрируется в молчании. Любовь?
«Мы любим иногда, не ведая о том, но часто бред пустой Любовью мы зовем», – резюмировал некогда Мольер. Быть может, в этом и есть сермяжная правда жизни?
Подойдя утром к зеркалу, он обнаружил там человека с растроганным и глуповатым выражением лица. Ему стало стыдно, что он при своей сноровке так обмишурился. Но волна расслабленной чувственности, снова прокатившаяся сквозь него, оставила после себя только одно – покой насытившегося тела.
Оглянувшись, он увидел Евдокию, которая расчесывалась, завернувшись в банное полотенце. Сергей никогда не замечал, что у нее такие длинные, густые, вьющиеся волосы. Как ей удавалось их прятать? Как это у него получалось ничего не видеть вокруг!
Он смотрел на нее и думал, что женщины в критическом возрасте становятся особенно – он никак не мог подобрать слово: прелестны? – нет, привлекательны? – не то, пикантны? – в точку. Очарование зрелого возраста…
– Что мы решаем? – проговорила Евдокия, стягивая на затылке тугой узел.
– Что? – испугался Сергей.
– Я про Настеньку…
– О Господи! А что про нее решать?
– Так-таки все и оставить?
– А как? Как можно судить человека только по одному поступку? – сказал он, думая скорее про себя. – Мы ведь не знаем, ни того, что она делала «до», ни того, что собирается делать «после». У каждого должно быть право на собственную стратегию поведения.
– Я знаю – это раз. Так можно и любое убийство оправдать – это два.
– Верно, – согласился он. – Однако делать мы все равно ничего не будем. И без нее проблем хватает. – Последнюю фразу каждый понял по-своему.
– На все воля Божья. Так? Какое у тебя зеркало забавное! – восхитилась гостья. – Как будто с двойным дном. – И хозяин обрадовался смене направления утренней беседы и пошел готовить завтрак.
Притворив дверь за своей гостьей, Сергей пошел мыть посуду. Обнаружил пустоту в холодильнике и начал собираться.
«До чего все-таки женщины заражены любовностью, – думал он, направляясь в ближайший супермаркет. – Они даже на службе стремятся установить сердечные отношения, чтобы наполнить свой мир эмоциями. Это физиология».
Впрочем, на выходе из магазина он успел полаяться с кассиршей и тут же изменил свое мнение. Попробовал сосредоточиться на проблемах текущей жизни. А в ней теперь он был: 1. безработным; 2. свободным от всяческих обязательств; 3. искателем потерянного счастья; 4. обладателем неких раритетов, о цене и значении которых представления не имел. Еще у него были друзья, родные и Анна. А теперь и Евдокия. Но думать о ней сейчас особенно не хотелось. То ли к стыду, то ли от стыда.
Позвонил Анне, но у нее сработал автоответчик. И так весь день.
– Хочу много позитива! – пробормотал он, болтаясь по квартире. – Но где искать?
У родителей, между прочим, надвигался очередной юбилей их совместной жизни. Так что можно было переключиться на мысли о визите, подарке и прочей ерунде.
Он вспомнил о пачках денег, рассованных по карманам его куртки, и обрадовался, что хотя бы этой проблемы у него теперь не существует.
Сергей всегда восхищался своими родителями. Они умудрялись все делать во время и к месту: на банкетах слушать спичи и вежливо подмечать обновки соседей; за столом говорить о еде; по дороге на службу обсуждать последние новости, а, придя на нее – особенности кадровой политики. Когда удавалось выбраться в театр, в антракте они пили кофе с коньяком и выражали свое отношение к драматургии. В музеях их интересовала живопись, в книгах – литература. Их сыну иногда казалось, что и он был рожден потому, что этим следовало заниматься прежде, чем отойти ко сну.
Поездка к родителям на праздник была штатной, но поздравить их очень хотелось. Поговорить не выйдет? Да и ладно – в другой раз!
Гостей прибыло много, и все они успешно изображали радость встречи после вынужденной разлуки. Звучали программные тосты и дежурные фразы. Тут Сергею напомнили, что у отца есть брат, который сидел в тюрьме и о котором стараются не говорить.
– Как дела? – спросил родитель, вырвавшись из роли юбиляра.
– Нормально, – ответил сын. К чему распространяться?
– Поговорим еще? – спросил отец.
– Безусловно, – ответил сын. – Найдем время.
Зазвучала музыка. В большой зале стояло огромное пианино фирмы DIEDERICHS FRÉRES, которое по одной версии принадлежало самому Скрябину. По другой – он имел точно такой же инструмент. Сейчас оно выдавало бравурное:
«Эй, наливай тем, кто поет,
Кто не поет, нальет себе сам…»
Гости за столом изображали хоровое пение.
Сергей перешел в отцов кабинет и решил поиграть во внимательного слушателя. Понимающе смотрел в глаза собеседникам, иногда кивал, согласно мычал или поддакивал. Так что гости сочли его очень проницательным и культурным молодым человеком. К концу вечера он даже весело нажрался – разотмечался вдрызг – и был блестящ и остроумен – во всяком случае, по собственным оценкам. Изобретательно танцевал с фигуристой партнершей, и ей это безумно нравилось, пока он не уронил ее под стол. Что ж господа: «Кто не грешил, не будет и прощенья, лишь грешники себе прощенье обретут».
Глядя на родителей в праздничной суете, он вдруг отчетливо представил себя малышом. Сухие степи летнего юга. Поля подсолнухов. Море. Глинистые обрывы над узкой полоской каменистых пляжей. Белый шелковистый глянец, лежащий на водной глади. Далекие корабли, уходящие за горизонт.
Когда он был маленьким. А когда он был маленьким? Был когда-то.
Память не может сохранить детского ощущения бесконечности. Но свет утреннего солнца… голоса родных… шершавую кожу ладони деда… запахи лета, радости, родного дома, медленную реку среднерусской равнины. Они еще приходят и живут рядом с нами. О чем это я?
Дед Сергея по матери умер давно. В этом мире парень не знал других пращуров. Только этого сухого старика с голубыми до белизны холодными глазами. Помнил, как они удили рыбу на рассвете, и над полотном реки в утренней тишине поднималось солнце. Туман таял медленно. Исчезал, возвращая миру краски и влажную магию утренней росы. В омуте у обрыва бурунила крупная рыба. И впереди был еще целый счастливый день – долгий-долгий как сама жизнь.
Помнил, как дед любил сидеть с внуком на завалинке, теребя до боли его вихры.
– Убить человека, внучек, – скрипел старик, – проще, чем высморкаться. Бабка твоя хорошо это знала. Из-за нее я свой первый срок отмотал. – Он пожевал губами и добавил:
– Жизнь прошла зря, – подумал и переставил слова местами. – Зря прошла жизнь… Зря прошла… – внук ничего не понял, но спросил:
– Деда, а расскажи про человека.
– Про кого?
– Ну про того, кого убили.
Дед снова задумался и сказал:
– Быть добрым только для того, чтобы умаслить этот мир? Смешно! И человек здесь ни к чему не нужен… Бабка твоя очень красивая была… Но ее я всегда жалел, потому что любил. А вот их…
Он подхватил одну из разгуливающих возле ног куриц и пристроил ее к колоде. Поднял топор и рубанул почти без замаха. Птичья голова с хрустом отскочила в сторону, а тело выпорхнуло из рук деда и понеслось по двору, ударилось о забор и завалилось на бок, расплескивая кровь и все еще трепыхая крыльями.
В десять с четвертью карета с Людовиком XVI Капетом, его духовником и двумя жандармами прибыла на площадь Революции, где должна была совершиться казнь. Эшафот возле пьедестала, на котором некогда возвышалась статуя Людовика XV, кольцом окружали войска. За ними колыхалась толпа. Она ждала.
Все мужество приговоренного уходило на то, чтобы хранить величие. Ему удавалось. Он не спеша взошел по лестнице, снял воротник и сюртук. Хладнокровие изменило ему лишь в ту минуту, когда палач взялся остригать длинные пряди волос и вязать руки.
– Я не позволю этого! – король покраснел от гнева.
– Держитесь, государь. – прошептал подоспевший Эджерворт. – Осталось немного. Это не больно.
– Откуда Вы знаете? – удивился Капет и неожиданно успокоился. Подойдя затем к краю эшафота он прокричал в толпу, – Я прощаю своим врагам! – На большее сил не хватило.
Его уложили на длинную доску, доходящую до ключиц. Король смог рассмотреть лишь стертые волокна деревянного ложа гильотины, за которыми виднелась корзина. Ее тростник отливал золотистой желтизной.
Десять часов двадцать минут.
Духовник ошибся.
Боль впилась в него остротой бесконечности. А затем он начал падать. Лицом вперед. Тростник, ринувшись навстречу, стукнул по носу. И стало темно от залившей глаза крови.
«Смерти нет! – была последняя мысль. – И бессмертия тоже».
– Да здравствует нация! – заорала толпа, увидев мертвую голову в поднятой руке палача.
Мальчик Сережа был настолько поражен этим зрелищем, что даже позабыл заплакать.
– Не рано, Никифорыч, кур бить начал? – Заглянул во двор сосед – местный бригадир Андрей Платонов.
– Вишь, внук приехал, – скосил на него глаза дед. – Свеженьким угостить, не в городе, чай! – облизнул кровь с лезвия топора. Продолжил. – Как у вас с продовольственной программой? Решаете?
– Программа есть, продовольствия шиш. Правильно говорю. Нет? – съязвил бригадир и решил высказаться. – Рассуди, Никифорыч. Вот ведь во мне лежит огромный заряд жизни, а как почну им палить в наше дело, так кой-что одна малость выходит… Ты стараешься все по-большому, а получается одна мелочь – Сволочь! Ты скот этот напитаешь во как! Я сам силос жую, прежде чем ее угощаю, а отчет мне показывают – по молоку недоборка, а по говядине скотина рость перестала!… На центральном взяли сорок рабочих всякого пола с завода – на выручку. По сговору, – мне два помощника, два умных на глаз мужика досталось. Что ж такое?! Ходят они, бушуют и стараются – я сам на них пот щупал, – а все в бригаде как было плохо, так стало еще хуже… Недосмотрю сам – скотина стоит в траве голодная, а не ест: не поена! А мужики енти аж скачут от ударничества, под ними быки бегом бегут, а куда – неизвестно. Одно слово – пролетарьят. Кликнешь – они назад вернуться, прикажешь – тужатся, проверишь – проку нет. Это ж что такое, это откуда смирное охальство такое получается? Злой человек – тот вещь, а смирный же – ничто, его даже ухватить не за чего, чтобы вдарить… Выходит, в злобе сила. Навык ей только и нужон. Правильно говорю. Нет?..
Тут мальчик Сережа пришел в себя и заорал во все горло.
Историю своей жизни дед рассказывал постепенно. Про то, как угостил парня, который решил приударить за его женой, вилами в бок; как пошел по этапу, как началась война и он – уголовник – оказался в штрафной роте; как он в первом бою сдрейфил, не хватило духу схватить и выбросить из блиндажа гранату, и она искромсала пятерых молодых парней, а его даже не царапнуло; как штрафники проводили разведку боем, когда из каждой десятки в живых остался только один; как немец, который уже висел на его штыке, успел полоснуть деда по горлу; как валялся потом в санбате и зверел от клопов и бессилия; про то, как он – сельский механизатор – попал в бронетанковые войска, а когда их командир сгорел под Прохоровкой вместе с танком, получил офицерский чин; как поймали власовцев и вырезали их как скот – по-тихому, чтобы никто не видел; как нашел в немецком окопе альбом с голыми фрейлейн и ни разу не смог досмотреть его до конца – так тянуло на женскую плоть, но любил всегда только жену – единственную в мире; как вошли в Германию, где уже весной 45-го подбили их танк, и он – раненный в ногу – так и остался при штабе, а потом стал комендантом маленького городка в Саксонской Швейцарии и полгода жил при коммунизме; как добирался домой на трофейном «Хорьхе», который до сих пор пылился у него в сарае; как встречали героя-орденоносца и посылали учиться, а он не поехал, не захотел оставить жену, зато породил и выучил дочь, вот она-то и стала матерью Сергея.
Дед и после войны характер имел горячий и безудержный. Связываться с ним боялись. Разве что внук.
К старости дед пристрастился читать разные книги – все больше философическую прозу. Внук часто замечал, как старик сидит возле дома, уставясь за реку – на закат – туда, где после дождя вставала над лугом радуга – и думая то ли о тайнах местного мироздания, то ли о сущности уходящей жизни. Люди – даже бабка – были ему тут без надобности. Разве что внук.
«Правильного пути нет в принципе, – всплыли в памяти слова деда. – Одна вера». А еще – как мальчик Сережа уезжал от деда в последний раз. Как тот потрепал внука за вихры и пошел было к дому. А когда Сережа оглянулся в последний раз, старик так и остался стоять у калитки. Стоял и плакал, пряча лицо в тени забора.
– Разве что внук… – проговорил мой герой, очнувшись на утро, следующее за банкетом.
Мать гремела посудой на кухне. Подошел отец.
– Проснулся. Как голова? Не махнуть ли нам на охоту, а? Гуси летят.
– Не пап, времени нет, – соврал сын.
– Зря. Когда ждешь вальдшнепа на вечерней тяге, природа в тебя вливается.
– Пап.
– А?
– Слушай, а ты куриц когда-нибудь того. Ну в смысле сам.
– Сам – нет. Не смог. Понес ей голову рубить, а она пристроилась у меня на руках и беседовать начала… Не смог.
– Это тебе не вальдшнеп на тяге.
– Вот тут ты и не прав, – грустно сказал отец. Повернулся у пошел на кухню.
Минул уже изрядный срок, после того, как он сблизился с Евдокией. Встретился и расстался. Без обязательств. И все-таки. Сергей так и не смог решить для себя, что значила для него эта встреча. Или – хотя бы – что она означала.
Собравшись с духом, он набрал свой бывший рабочий номер и хотел было уже отключиться, когда услышал ее неторопливое:
– Слушаю Вас.
– Привет! Это я! – не придумал он ничего умнее. Говорил беззаботно, а это уже неплохо.
– Здравствуйте, Сергей Николаевич… – холодность ее голоса выбила его из колеи.
– Я, собственно, звоню только засвидетельствовать Вам свое почтение, – постарался вписаться он в предложенный тон. И ему снова стало безотносительно стыдно. Словно вошел в парадном костюме в женскую баню и ждешь комплиментов. «Что это?» – успел подумать Сергей.
– Что-нибудь не так? – поинтересовалась дама. Подождала с минуту и продолжила. – Сергей, извините. Извини, но я очень люблю своего мужа. Несмотря ни на что. И, видимо, навсегда. И убеждаюсь в этом каждый раз, когда ему изменяю.
– Зачем же изменять? – выдавил из себя Сергей.
Натура, видно, у меня такая блядская, – она хотела сказать еще что-то, но промолчала. – И потом, тогда мне было действительно жаль с тобой расставаться. Очень даже. Вот так. И все это намешалось в тот замечательный вечер. Но потом. Не стоит давать этому продолжаться.
– Боишься испортить впечатление? – ухмыльнулся собеседник.
– Не начинай это делать уже сейчас.
– Пожалуй… Созвонимся?
– Когда-нибудь, – она повесила трубку.
Бывает же, что люди расходятся полностью удовлетворенные друг другом.
Приближалось первое апреля. Позвонил Сашка и обещал зайти в гости с сюрпризом.
Сергей решил не ударить в грязь лицом и подготовился основательно: выкрутил все лампочки в подъезде. Закупил в магазине приколов череп с красноватой подсветкой и упаковку резиновых кишек. Выставил покупки на тумбочке у входа. А сам нацепил на голову капроновый чулок и пристроил в него на место глаз два апельсина, предварительно выкрасив их фосфорической краской. Когда раздался звонок, он подкрался к двери, поправил экипировку. Приоткрыл.
– Позволь представить тебе… – услышал Сашкин голос и проговорил заученно-замогильным басом:
– Вход в преисподнюю открыт. Ваша очередь…
Следующим в мизансцене был легкий всхлип и звук, как будто на лестнице случайно уронили мешок с картошкой.
Из-за апельсинов не видно было не хрена. Сергей завозился, стягивая с головы свою амуницию. А когда у него это получилось, увидел друга, сосредоточенно приводящим в чувство хорошенькую девочку в светлом пальто.
– Хотел познакомить новую пассию с ученым другом, – произнес тот, закончив пыхтеть и материться. – Произвести впечатление.
– Что ж, – отметил хозяин квартиры. – По-моему удалось. Как считаешь?
Весь последующий вечер дева пролежала на ложе с компрессом на голове, грустно вздыхая и, вероятно, думая о том, что умных мужиков не бывает в принципе, а ей и вовсе попадаются стопроцентные идиоты.
Шли дни. Весна растворилась в крови. Текла ощущением праздности мироздания.
Сергей решил не обременять себя поисками работы или смысла жизни. Не сейчас! Он не был уверен, что хочет принадлежать именно этой реальности, если эта реальность была.
Все свое время – а его теперь оказалось у него предостаточно – он проводил в библиотеке, пытаясь идентифицировать свои реликвии. С одной стороны Сергей понимал, что за ним наверняка наблюдают, но с другой… С другой было совершенно ясно, что не поняв: «откуда оно взялось», «зачем», «почему» – выпутаться из этой истории абсолютно невозможно.
Он узнал массу захватывающих подробностей о существовании древних народов. Писаная история, однако, выглядела дробной и дублированной. Многие пласты, наложенные один на другой, при ближайшем рассмотрении оказывались тем же самым сюжетом.
Известные трактаты в большей или меньшей степени переписывали друг друга. И любая гипотеза, повторенная несколько раз, становилось непреложным фактом, а первоисточник объявлялся истиной в последней инстанции. Хотя в любом случае точка начала отсчета оказывалась именно там, где всякий смысл терялся окончательно.
Но Сергей был лишен догматики исторического образования и не собирался понимать, например, почему хронология славянских племен начиналась пришествием Рюрика. И как это: «Придите к нам и владейте нами»? Какое такое национально-государственное образование могло добровольно передать себя в руки завоевателей. Это как наши ребята в Афганистане? «Пришел, увидел, захватил». Переписал летописи…
Марионеточные правительства были тогда еще не в моде. Тут уже татаро-монголы. И, кстати, кто они, откуда? Пойди разберись. Кара-карум, Сарай – великие центры Империи, которая сотни лет правила миром. Где они? Куда делись несметные сокровища, собираемые данью с сотен народов? По кибиткам растащили? В каких землях скрыты фундаменты этих столиц.



