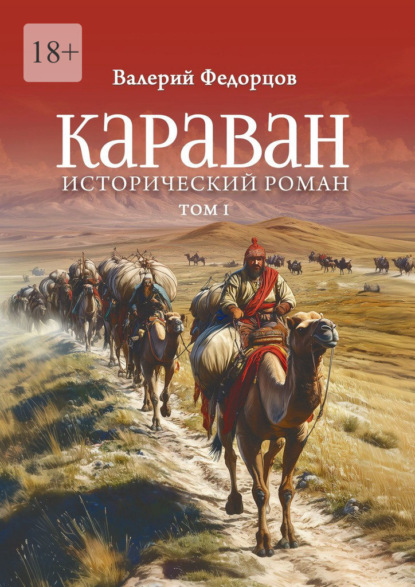
Полная версия:
Караван. Исторический роман. Том I
– Так и эти тоже стоят без дела, переправлять ведь некого! – ответил Салимбег, – Посмотри-ка туда! Сейчас вон бечевники* по реке расшиву* тянут. Но останавливаться здесь они не собираются, и дальше это судно мимо нас вверх потянут. Им Самар не нужен. Это торговая расшива* из Нижнего Новгорода, вон на её мачте нижегородский, перевёрнутый туг*.
– Почему перевёрнут? – спросил его Эргаш, – Это что, какой-то тайный знак или сигнал?
– Какой там тайный знак? Просто управляют расшивой* тёмные людишки, потому они и эти туги* вывешивают, кому и как вздумается, – ответил Салимбег.
– Ещё одни непуганые идиоты! – сквозь зубы процедил Бури, – Амир-ал-умар*, за глумление над тугом*, повесил бы не раздумывая. Тохтамыш наверняка, отсёк бы виновникам головы, а у этих урусов* всё, как будто так и надо, прицепили свою святыню как попало, и безмятежно вино попивают на палубе.
– Откуда у них вино? – возмутился Салимбег, – Пьют они обычно корчму*. Это куда крепче вина и проще готовится. Потому, выпив корчмы*, эти люди перестают кого либо, и чего-либо бояться. У нижегородцев теперь за всех и за всё боится их собственный нойон*. Будете в Нижнем Новгороде, убедитесь в этом сами. Нет трусливее нойона* во всей вселенной!
– Ну что сказать. Этого нойона* я конечно не знаю, – вмешался Камол ад-Дин, – Однако, об этом народе один наш улем* в медресе как-то сказал, что урусы*, они хоть в Азии, хоть даже в самой Африке, урусы*. Над ними даже если самого Иблиса* властителем поставить, не поможет. Они и его обратят в свою веру и заставят жить по их неписаным законам, если этим шайтанам* что нибудь не понравится.
– А что такое Африка? – переспросил его Салимбег, – Азию – знаю, Европу – знаю, а вот про Африку, лишь краешком уха слышал. Например, от торгового люда часто приходится слышать выражения, что «верблюд, он и в Африке верблюд или докажи что ты сам не верблюд, и тем более не африканский». Но в эти смыслы мало кто вдаётся, в том числе и я, ваш покорный слуга.
– Я, честно признаться, Африкой и сам почти не интересовался, в том числе в медресе*, – пояснил Камол ад-Дин, – Знаю лишь, что это, кажется большая страна, где нет зимы, а люди там, в основном чёрнае, как уголь, так как ходят голые и их сильно обжигает солнце. Потому и страну эту часто зовут, выжженной солнцем и забытой богом. Говорили нам, что Всевыщний к правоверным прислал пророка Мухаммеда, к европейцам Ису, а к этим чёрнам людям пока никого не прислал. Вот и бегают они там без одежды, не стыдясь никого, словно обезьяны. Правда, встречаются среди них и стыдливые, одевающие тазобедренные повязки, но это редкость. А верблюды в Африке, в основном одногорбые и худые, в отличие от наших двугорбых великанов-бактрианов*. Отсюда, наверное, и те выражения, о которах ты сейчас упомянул.
– И посему выходит, что урусы* тоже вроде шайтанов*? – едко заулыбался Бури, – Тем не менее, мы к ним, кажется, завтра даже в гости собрались! Чтож, добро пожаловать в ад к неверным, непревзойдённые воины ислама!
Все как-то скромно промолчали, не решаясь пресекать довольно странную и неуместную выходку Бури, который вероятно в этот день был не в настроении. Первым и тут заговорил, прервав паузу Салимбег.
– Как я понимаю, сегодня мы переправляться на тот берег не собираемся? – неуверенно заговорил он, переводя разговор в другое русло, – А это значит, что на завтра нам необходимо заранее предупредить паромщиков, чтобы те, из Самара*, ещё ярыг* взяли. А представляете, когда Шёлковый путь вновь в полную силу заработает! Тогда на паромы опять целые очереди выстроятся. Что тут тогда будет …!
– Зачем тогда столько плотов и паромов здесь держать? – уточнил у него Эргаш.
– Затем, чтобы в случае необходимости войско быстро через Итиль* переправить, – ответил Салимбег.
– Это сколько же ярыг* необходимо здесь без дела держать? Войны ведь, не каждый день бывают? – не унимался Эргаш.
– На случай похода здесь только канаты надо будет на тот берег лодками перекинуть, а воины сами вместо ярыг* с паромами да плотами справятся, – ответил Салимбег.
– Вниз по течению Итиль*, отсюда какие сакмы* имеются? – начал расспрашивать Салимбега уже Камол ад-Дин.
– По степям левобережья, до самого Сарая*, проходит Старая сакма*, а по правобережью Крымская*.
– А города Укек* и Бальчимкин* на каких сакмах* находятся?
– Укек* в этих местах больше известен как Увек*, он на Крымской сакме*. А вот второй город, не совсем понял, как ты его назвал? Кажется, такого города вообще в Орде* не существует.
– Как же не сушествует, там ещё переволока между реками Итиль* и Таном* должна быть? Говорят, даже суда по ней на брёвнах таскают?
– Так это же Бельджамен*, переводится как город дубов! Он немного в стороне от Крымской сакмы*. Чуть подальше в сторону, расположен город Тортанллы*, а рядом с ним, самая большая в Орде Туратурская переправа*. Через неё можно дальше, прямиком в Сарай* попасть.
– Тебе по Самарской сакме* раньше приходилось ходить? Как она обустроена?
– Обустроена она, как и все ордынские сакмы*. Предлагал же я вам через Симбер* пойти? Дошли бы быстрее. До Мокши* караван-сараи* будут, а там лишь умёты* и постоялые дворы. Они для скотины мало приспособлены, но сейчас лето, не пропадём. Ямской линии* на ней точно нет. Здесь она только на Крымской*. Её даже на Старой* нет, между Сараем* и урусами*, ямы* лишь вдоль Базарной сакмы*.
– Послушай, а из чего ордынцы* канаты делают, что они так много находясь в воде, не размокают и не рвутся?
– Это пенька*. Её, кстати, урусы* много производят и продают по всему свету. Эти канаты не только в обычной воде не гниют, но и в морской тоже. А ещё они хороши для метательных машин, при штурме крепостей.
– Всё, пошли, нужно отдохнуть перед дорогой, – сказал Камол ад-Дин, обращаясь к присутствующим, – а ты Эргаш, иди к паромщикам и договорись на завтра по поводу перевоза на тот берег нашего каравана.
Эту ночь, перед отправкой в Москву, Камол ад-Дин долго не мог заснуть. Он обдумывал произошедшие события. Всё складывалось для посланца* вполне благоприятно. Теперь Камол ад-Дин не только знал о месте нахождения мастера-оружейника и его оружия, но и услуги каких джете* можно использовать для нападения на караваны, следующие по здешней ветви Великого шёлкового пути*. Это значило, что он теперь точно представляет, как выполнить ещё одно повеление Умар-Шейха. Но сейчас главное, добраться до Москвы и разыскать этого, да сохранит его для Амира-ал-умара* Всевышний, мастера Аса*! При нём ещё затесался какой-то тезэтуче*. Этот иноземец якобы знает, как вести из туфангов* навесную стрельбу по невидимым целям. Это ещё лучше. Будет неожиданный и приятный подарок Амир-ал-умару*. В том, что с ходу не удалось заполучить ни оружия, ни мастера, лично его, посланца*, вины нет. Так уж у них сложились обстоятельства. Но возможность для осуществления задуманного, остаётся, и Камол ад-Дин пытается ею воспользоваться. Получены сведения об устройстве и принципе работы Самарского перевоза*, только вот оставить и обустроить здесь в данный момент некого. Пока, в целом, сделано маловато, но перспективы обнадёживающие, думал посланец*. Исходя из полученых сегодня сведений, срочное оповещение у ордынцев* отлажено неважно, ямские линии* имеются не на всех, даже основных сакмах*. Ну что же, эти кыпчаки*, наверное, пока могут себе подобное позволить. Кого им собственно бояться? Браво куманы*! Продолжайте и дальше в том же духе! Да воздаст вам Всевыщний по заслугам за вашу святую беспечность! Нам же конечно, на Всевыщнего тоже надеяться не помешает, но и самим никак нельзя плошать! Уже завтра надо поспешить в Москву. Там теперь будет решаться судьба миссии. А окажется она раем или адом, выясниться на месте, и будет зависеть от того, в какую сторону повенётся фортуна.
Глава 7: Самаркандская посланческая миссия в Москве
Переправившись на противоположный берег Итиль*, караван продолжил движение по Самарской сакме* на северо-запад. Не встречая по пути следования серьёзных преград, посланцы* Тимура добрались до Москвы. По меркам тех лет, это был большой город. В нём проживало до сорока тысяч жителей, хотя Москве было не сравниться с подобными городами Орды* и других стран Центральной Азии. Привычных для азиатских торговцев караван-сараев* в этом городе не существовало в принципе, и путники разместились в одном из постоялых дворов, недалеко от белокаменной цитадели* города, называемой здешними жителями кремлём. Условия проживания в этом заведении, были похуже, чем в восточных караван-сараях*, уже привычных Камол ид-Дину и его спутникам, но вполне сностные. Кутфи, как обычно, занялся торговлей на местном базаре*, что находился на главной площади Москвы перед цитаделью*, а Камол ад-Дин и его основные спутники, занялись сбором сведений о мастере Асе* и его туфангах*. Языка урусов* ни он, ни Эргаш, ни Бури, не знали, поэтому толмачём при Камол ад-Дине был Салимбег. Они ходили по посаду, посещали пивные лавки и торговые ряды, расспрашивая горожан о делах московских и иногородних, но и не забывая при этом, собирать сведения и сплетни, за которыми собственно сюда и приехали. Обращаться к своему прежнему саиду*, Салимбег конечно опасался, так как после своего длительного отсутствия, связанного с побегом, неизвестно как тот бы отреагировал, и к каким последствиям привела бы их встреча. Кутфи также нанял себе толмача, которого использовал в своих целях и Камол ад-Дин, тем самым давая «передышку» этому калеке Салимбегу. Пообщавшись, таким образом, со многими из горожан, посланец* выяснил, что асосий* мелик* урусов*, нойон* Адам-Москвалик*, которого после победы над Мамаем в Москве звали Дмитрием Донским, из соображений секретности и безопасности содержал мастера Аса* в одной из небольших крепостёнок за пределами Москвы, но где именно, никто не знал. Поговаривали, что та крепостёнка называлась Кузнечной слободой*, но так ли это было на самом деле, никто толком пояснить не мог. Многие же москвичи, наоборот утверждали, что эта слобода, якобы, давным-давно сгорела. Однако на самом деле, она не сгорела. Находилась же та слобода в Замоскворецких лесах, где Ас* и в самом деле был полностью занят изготовлением для урусов* неведомого оружия, которое те на свой лад звали в основном тюфяками*. Но сам мастер, это название использовал в отношении несколько иного оружия. В Москве, из-за недостатка металла, Ас* начал мастерить деревянные туфанги* из дубовых стволов, укрепляя те, железными обручами. Это оружие выдерживало один, максимум два выстрела и разрывалось, принося увечья обслуживающим его стрелкам, а то и вовсе убивая последних. Но Ас* и здесь нашёл выход. Стволы деревянных туфангов* стали изготавливать коническими. В них помещали уменьшинные заряды из зелья*, а вместо железных или каменных шаров, называемых ядрами, в них заряжали рубленые гвозди, другую мелкую и ненужную металлическую всячину или мелкий камень. Такие заряды называлось картечью или дробью. Они могли быть использованы исключительно для стрельбы по скоплению людей. Но по дальности стрельбы, эти деревянные туфанги* уступали железным или медным, за что мастер Ас* звал их тюфяками*. Для непросвешёных же людей, все туфанги* были тюфяками*. Урусы* устанавливали туфанги* на московских крепостных стенах и бдительно их охраняли. Помощника же Аса, Тюляка, нередко можно было видеть вместе с самим мастером, когда те наведывались в город. Поговаривали, что Великий князь Московский Дмитрий Иванович Донской, возвёл обоих в боярское сословие и подарил им небольшие вотчины для прокорма, но где находились эти уделы, тоже никто не знал. Для Тюляка, якобы, мастер изготовил отдельный туфанг*, который тот в шутку называл «шайтаном»*. Говорили, что этот туфанг* был крупнее других, но никто из опрошенных посланцами, его лично не видел, и тем более не знал, где находился этот самый «шайтан»*.
Несмотря на повышенные меры секретности, Камол ад-Дину, с вновь нанятым толмачём Ильясом, путём подкупа нескольких стражников, однажды удалось подняться на крепостную стену кремля и осмотреть там несколько орудий. Их конструкция, как показалось посланцу*, на первый взгляд оказалась не такой уж и сложной. Орудие представляло собой трубу из железных пластин, скреплённых обручами. С одной стороны, в трубе было отверстие, называемое дулом. Противоположная часть трубы была наглухо заделана, а сбоку имелось маленькое отверстие. Труба крепилась к деревянному приспособлению, называемому станком или лафетом, в зависимости были там колёсики, или нет. Находившийся возле одного из туфангов* урусовский стрелок, был словоохотлив, но пользы от этого было мало. Нанятый купцом Кутфи толмач, куман* Ильяс, слабо знал язык урусов*. Камол ад-Дин пожалел, что в этот раз не взял с собой калеку Салимбега. Кроме всего прочего, во время разговора со стрелком, подошёл какой-то ратник, повидимому амир* этого стрелка, и обругал того какими-то непереводимыми словами. О чём амир* кричал на стрелка, Ильяс перевести естественно не смог, сказав лишь, что это были очень плохие слова, которые на другие языки, с урусовского*, переводу не подлежат.
Следующие десять дней для Камол ад-Дина и его людей прошли впустую. Московский ратный люд к чужеземцам относился с подозрительностью. Никто из крепостной стражи на хитрые уловки Камол ад-Дина и его людей больше не поддавался. За всё это время им ни разу не пришлось увидеть или услышать стрельбу этех туфангов*. Поиски оружейного мастера Аса* и его помощника Тюляка, также ни к чему не приводили и Камол ад-Дин был не в себе. То, ради чего он сюда прибыл, проделав путь не в одну тысячу фарасан*, было рядом, но и в то же время недосягаемым. Камол ад-Дин обдумывал план дальнейших действий.
Первое, что пришло ему в голову – захватить хотябы один туфанг* силой. У него было два десятка отборных и хорошо вооружённых воинов, которых посланец* отбирал сам. Сейчас эти люди находятся здесь рядом, под видом боевого охранения каравана. Каждый из его аскаров* стоит десятка воинов-урусов*, охранявщих стену. Этого достаточно, чтобы ночью совершить нападение и истребить охрану на одной из частей стены. Можно даже ещё продержаться какое-то время. Но для этого, нужно ещё проникнуть в эту крепость! А дальше что? Туфанг* необходимо снять со стены, для чего нужны приспособления и время. Можно конечно сбросить саму трубу без станка или лафета (как они это зовут) с внешней стороны стены, чтобы потом не выбираться с ней из крепости, но подоспевшае урусы*, наверняка не дадут такой возможнеости. А учитывая, что там вал со рвом, эта затея не годилась в принципе. И люди будут потеряны, и цель не достигнута. Кроме того, туфанг* без мастера и стрелка, ненужный кусок железа. Что толку его иметь, если не знаешь, как этим оружием пользоваться? Однако возвращаться обратно «пустым», тоже нельзя. А эщё этот, навязанный Умаром-Шейхом Бури. Он хоть и был Камол ад-Дину другом детства, но теперь наверняка приставлен «присматривать» за караваном. Значит, уже не соврёшь, что туфанга* и мастера вовсе не существует. Бури обязательно сообщит Тимуру, что Камол ад-Дин и его люди вруны и трусы. Тогда конец всему!
Следующую попытку поиска мастера и его туфанга*, Камол ад-Дин решил осушествить путём знакомства с бывшим саидом* Салимбега, старшим дружинником Московского князя Дмитрия – Василием Непрядой. Вначале Салимбег от этой затеи наотрез отказывался, объясняя возможной местью ему за побег со стороны последнего, или же возможное склонение своего бывшего пленника к лазутничеству. Однако, после того, как Комол ад-Дин пообещал ему заплатить ещё сто дирхем*, Салимбег согласился, но при условии, что тот заплатит ему не сто, а двести дирхем*, сто из которых, в качестве аванса. Не смотря на то, что при помощи Камол ад-Дина, Салимбег без проблем сумел добраться до Москвы, при этом попутно получив от чужеземцев за сопровождение их каравана солидное вознаграждение, теперь булгарин стал обдумывать возможность побега от иноземцев, так как больше посланец*, ему уже был не нужен. Получив аванс в сто дирхем*, Салимбег рассчитывал исчезнуть и отсидеться в каком нибудь тихом селении под Москвой. Далее, он решил наняться к какому нибудь урусовскому* саиду* тарджуманом*. Салимбег успел пожить среди урусов*, изучить их характер, привычки, нравы, повадки, обычаи, и жизнь среди этих людей его вполне устраивала.
На следующий день, Салимбег получил обещанные Камол ад-Дином деньги и направился к крепости, на территории которой проживал Непряда. Однако, не дойдя до её ворот, он свернул в сторону и улочками выбрался из посада, а затем по мосту переправился на другой берег Москвы-реки. Миновав заставу, со спящими там стражниками, Салимбег направился по неизвестной ему дороге прочь от города. Его мало интересовало, куда ведёт эта дорога. Раз она имеется, то куда нибудь приведет. Про Кузнечную слободу* он тоже, разумеется, слышал. Но что это такое, в подробности не вдавался. Шёл он долго и немного приустал, особенно от стрекотания сорок, о которых здесь ходили всякого рода легенды. Например, как те в своё время выдали верховному правителю урусов*, властелина этих мест с интересным прозвищем Кучка*, что на языке урусов* маленький бугорок. Вскоре к этой дороге присоединилась ещё одна, по которой не спеша ехала телега, запряжённая старой клячей. На ней сидел мужик в захудалой одежонке, обросший лохматыми нечёсаными волосами и бородой.
– Куда едем? – спросил Салимбег мужика по русски.
– А куды эта шкапа* привезёт, туды и едем? – ответил тот, – В слободу, наверное.
– Подвези бедного странника, заплачу без обиды.
– А ты случаем не шпиён? – поинтересовался старичёк.
– С меня лазутчик, как породистый жеребец с твоей шкапы*, – ответил Салимбег.
– Тогда гони монету и садись.
Салимбег вытащил и протянул мужику серебряный дирхем*, при этом пожалев, что нет при себе медного пула*. Этому оборвышу, и пула* хватило бы. Наверняка не разбирается.
– Где изранили то так? – спросил мужик, – Не иначе, как воевал, да чего доброго, ещё и с нашеми на Куликовом? А теперь ещё и прижился средь нас бусурманин*, как ни в чём не бывало?
– Все сейчас друг с другом воюют, а потом продолжают жить, кому и где вздумается. Разве мало урусов* живёт среди ордынцев*, да и вообще среди татар*.
– Русские в Орде* живут поневоле, как челядь* и пашуть там от зари до зари, потому как деватися некуды. А татары* здесь живут как жирные барсуки без всякой на тоть надобности.
– Многие урусы* и в Орде* лучше ордынцев* прижились. Их там никто не держит, но назад эти люди тоже почему-то не спешат, потому, как там они освобождены от ясака*, в отличие от ордынцев*. Да ладно, забудем всё это. Уважаемый! Ты побыстрее, как нибудь, ехать можешь?
Мужик подстегнул кобылу длинной хворостиной.
– Гей, Никоноровна, но, но-о-о-о, – стал он покрикивать на свою «полудохлую» клячу.
Кобыла громко пукнула, испустив из заднего прохода «дурной» воздух, попыталась ускорить шаг, но повидимому не осилив нагрузки, опять стала плестись таким же медленным шагом и в раскорячку.
– Не получитця, – посетовал мужик, – С виду, она вродь ещё как на кобылу похожя, а на деле, в любой моменть возьмёть, да и подохнеть!
Не смотря на то, что внешне мужик походил на лешего из московских сказок, или нищего из городских помоек, в его телеге лежал какой-то деревянный предмет, расчертанный полосками, над которыми были выцарапаны несколько арабских цифр. Это говорило о том, что предмет принадлежит знающему грамоту человеку.
– А не топчи* ли случайено, является твой боярин? – сам не зная, с какой стати, обратился Салимбег к мужику, поглядывая на предмет.
– А твое, какое собачье дело-то? – ответил мужик, вспомнив, что накануне, новый боярин строго запретил звать его даже по собственному имени, – Давай помолчим ка лучше. Молчание, как молвють у нас, золото!
Так и плелись они по лесной дороге, пока позади не раздался топот лошадиных копыт. Телегу догнали два молодцеватого вида всадника.
– Эй, ребяти! – окликнул скакавщих мужик своим беззубым ртом, – Гляньте-ка сюды, какого я вам бусурмана* пымал! Берите, узнате, чё этот маракуша* в вашу слободу спешить.
Один из всадников подъехал к телеге, и не сказав ни слова, ловко подхватил с неё за шиворот Салимбега, положив его на лошадь впереди себя и животом вниз. После этого, всадники ускакали вперёд.
Лишь под вечер Салимбег пришёл в себя, когда уже находился в полуподвальной темнице. Свет в неё проступал только лишь через небольшое окошко, сверху у потолка. Кроме него в темнице находилось ещё двое, неизвестных ему людей.
– Ас-саляму алейкум*, – обратился он к присутствующим.
– Ва-алейкум*, если не шутишь, – произнёс один из них. Другой промолчал.
По тому, как тот ответил на приветствие, Салимбег понял, что это урус*, немного знакомый с некоторыми мусульманскими обычаями. Он также мог быть знаком с этими обычаями и в достаточной мере, но специально дерзил из ненависти к ордынцу*. После победы над Мамаем, многие урусы* ведут себя высокомерно по отношению к ордынцам*. Но к чему теперь выяснять отношения двум невольникам? Тем более не ясно, кто из них здесь в более, или менее завидном положении?
Сейчас нужно попробовать хотя бы разговорить этого уруса*, выяснить, кто третий и прочее. А там видно будет, как дальше себя вести.
– Кто ты и как тебя зовут? – вновь обратился Салимбег к урусу*.
– Я Сава, княжеский дружинник, – ответил урус*, – А ты кто?
– Я Салим, бывший толмач одного вашего эмира*, воеводы повашему. Сейчас являюсь толмачом у одного самаркандского купца торгующего в Москве. Ну а твой друг! Почему такой неразговорчивый?
– Он мне не друг, он иноземец из неметчины. Наверное, нашего языка не знает, вот и молчит. К тому же, он вообще нелюдимый.
Салимбег подошёл к незнакомцу и, показывая на себя пальцем, произнёс, – Я Салим, – затем, показывая на уруса*, сказал, – Это Сава, – а потом, переведя палец на незнакомца, спросил уже его, – А ты кто?
– Яков, – ответил незнакомец и заговорил что-то непонятное на своём языке.
Как не пытался, хоть что-то понять Салим из его речи, это ему было не под силу.
– Ладно, пусть лучше молчит, – вмешался Сава, – Что толку от его бормотания!
– Мне кажется, он келар*, – начал гадать Салимбег, – Некоторые слова из их языка мне понятны. Ладно, пусть молчит, а ты за что в темнице оказался?
– Лишнего взболтнул. Я учился оружейному делу у одного татарского мастера и на кремлёвской стене тюфяки* устанавливал. Туда иноземцы пришли и попросили показать им это, по ихним меркам чудо-оружие. Что я и сделал. За плату конечно. Но один из старших дружинников это заметил и воеводе сообщил. Вот я в темнице и оказался, не успев даже охнуть.
– Это вероятно был мой нынешний саид*.
– Нет, у него кажется, другое имя.
– Саид*, это повашему, господин, хотя у мусульман и имена подобные имеются. Меня тогда с ним не было, был другой толмач. Но я об этом слышал.
– А зачем, этот ваш купец тюфяками* интересуется? – спросил урус*, – Он что, их купить их для себя желает?
– Это как получиться. Если продадут, купит, нет, так украдёт, или силой возьмёт.
– Интересно, как он это намерен сделать, имея всего лишь пару десятков своих людей?
– Не знаю. А у вас туфанги*, почему тюфяками* зовут?
– В Москве недостаёт железа и меди, чтобы этого оружия вдоволь наделать. Тогда, этот Ай*, предложил делать стволы орудий ещё и из дубового дерева, перетягивая их железными обручами. Только таких стволов всего на один или два выстрела хватает, после чего они разрываются, убивая и своих и чужих. Отсюда их и прозвали тюфяками*, а потом так стали называть всё огнестрельное оружие, кроме ручниц*.
– А ручницы*, что это такое?
– Тот же тюфяк*, только небольшого размера, и их можно при стрельбе держать в руках. Но стреляют это оружие, не так далеко и сильно.
– А ты сам бы теперь смог это оружие сделать?
– Деревянное смог бы, это не трудно. Вот только для стрельбы ещё зелье* нужно, а его из китайской соли* делают. Без зелья* оружие стрелять не будет, а делать его не каждый может. Я вот тоже не умею. А тебя что, в слободу самаркандцы заслали?
– Нет, я от них сбежал. Взял у них то, что заработал и сбежал. Мне эти чужеземцы нужны были, чтобы опять в Москву вернуться, а теперь от них надо бежать «куда глаза глядят»*, да спрятаться, пока отсюда уйдут.
– Но почему? Разве им толмач и проводник уже не нужен?
– Толмач с проводником, этим людям, конечно нужны будут и дальше, но уже не такие как я. Это люди Тамербека*, который сделал правителем Орды* Тохтамыша. Говорят, это ужасный человек, а значит, не менее ужасны и его люди, которых он сюда прислал. Они не те, за кого себя выдают. Мой саид* не купец, он лишь таковым прикидывается. Настоящий купец его отец, а он, как мне кажется, тайный посланник Тамербека*. Его люди охотятся за мастером и его огнестрельным оружием, и если его не добудут, сюда придут другие люди Тамербека* и сделают это, чего бы им то дело, ни стоило. От меня самаркандцы получили всё, что могли, и об Асе*, и о туфангах*. Теперь им калека Салим, больше не нужен. Вдруг я сообщу урусам* об истинных намерениях этих лжекупцов и сорву ихние замыслы? Поэтому, они бы меня, в ближайшее время наверняка устранили бы потихому. Вот я и пытался бежать, да тихо отсидеться поблизости. Откуда я знал, в какую дыру меня занесёт нелёгкая? Как ты думаешь, что со мной теперь будет?



