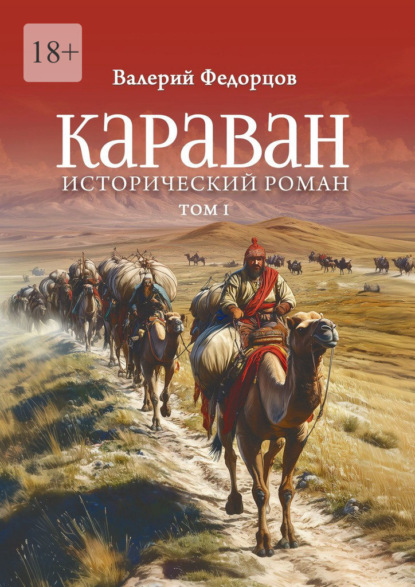
Полная версия:
Караван. Исторический роман. Том I
– Не знаю. Мне, наверное, язык отрежут. Урусы* с болтунами так поступают. Буду потом сидеть как этот немец, или кто он там ещё. Хорошо ещё, что семью не успел сюда перевезти, а то и до них бы добрались. А ты расскажи им про самаркандцев всё, что знаешь. Глядишь, и смилостивятся. Князю нашему, всё эти их дела, тоже не безинтересны будут.
– Куда деваться, расскажу, если слушать станут.
Глава 8: Провал миссии Ак-Ходжи в русские княжества
Когда ордынское посольство въехало в Рязанскую землю, то Ак-Ходжа* сразу заметил, что жители сёл и деревень по отношению к ордынцам настроены явно не дружелюбно. Несмотря на многочисленность ордынского отряда, рязанцы внешне держались пристойно и почти ничего, к чему послу можно было бы придраться, себе не позволяли. В то же время, глядели на ордынцев* зло и угрюмо, на большинство вопросов отвечали нехотя и незнанием, повиновались же очень медленно и с явной неохотой.
– Что-то не нравится мне это рязанское гостеприимство, – сказал один из трёх ехавших впереди посольства всадников.
– Тебе что. Разве здесь кто-то хлеб с солью обещал? – ответил другой, ехавший рядом посередине.
– А Айдар вон меня уверял, что рязанцы наши холбоотоны*, и москвачей* вроде как не особо любят, – ответил первый, по имени Азат.
– Ну как союзники? – нехотя засмущался Айдар, – на Саснак Кыры* и с москвачами* не пошли, да а нам помочь обещали, но почему-то, на битву опоздали. Видимо не случайно! А насчёт союзничества, я не уверял. Сказал лишь то, что хотелось бы иметь на самом деле.
– Подобные союзники хуже врагов, не знаешь, что от них ждать, – заметил ехавшей посередине всадник.
– Байондур. А ты зачем с нами, – обратился к нему Азат, – Тебя же в подобные поездки ранее не посылали?
– Раз послали, значит так нужно, – ответил Байондур, – Я что, перед вами отчитываться должен?
В одной из деревень, куда въехало посольство, люди стояли в шапках и угрюмо смотрели на ордынцев*.
– Это ещё что! – рассверепел Ак-Ходжа, – Пусть станут на колени и снимут шапки.
Азат перевёл жителям деревни сказанное послом.
– Теперь Русь, перед всякими погаными*, шапки не снимает, – ответил один из деревенских мужиков.
Азат перевёл сказанное послу, после чего тот рассверепел ещё пуще прежнего.
– Смельчака хорошенько отстегать плетью, – распорядился Ак-Ходжа, – Деревню сжечь.
– Будь моя воля, я бы их всех повесил, – вымолвил Айдар и принялся стегать мужика плетью.
– На подобные расправы наш чубатый друг черезчур уж горазд, что тут скажешь! – с насмешкой сказал Азат, намекая Байондуру на Айдара.
Ордынцы принялись грабить и жечь деревню, и к вечеру от неё осталось лишь пепелищё.
Раздражённый произошедшим событием, посол доехал до Переяславля-Рязанского* и сразу же потребовал к себе Рязанского князя. Олег Иванович явился немедленно. Прошло всего месяц, как он возвратился на своё княжение, признав себя младшим братом Московского князя Дмитрия и поклявшись ему «руку его ворогов впредь не держать»*. В то же время Олег Рязанский панически боялся ордынцев*, которые почти ежегодно опустошали его княжество. Этот суеверный страх перед Ордой*, являлся основной причиной всех его политических ошибок, причинивших столько зла русской земле. После Куликовской битвы он также не верил, что Москва способна успешно защитить Русь от ордынских нашествий, а так как его княжество лежало на пути этих набегов первым, то Олегу Рязанскому не хотелось рисковать.
Олег Иванович покорно принял разнос от Ак-Ходжи, оправдывался перед ним как мог, и поклялся «всегда быть его пресветлому величеству, хану Тохтамышу, преданным слугой».
Простояв в Переяславле-Рязанском четыре дня и получив от Рязанского князя богатые подарки для себя и Великого ордынского царя*, повеселевшей Ак-Ходжа со своим посольством отправился дальше. Но прежде чем ехать в Москву, ему ещё захотелось наведаться и в Нижегородское княжество, которое находилось в стороне от путей, связывавших Рязанские земли с Московскими, и попугать там урусов*.
Миновав земли Мокшей*, Ак-Ходжа вступил в пределы Нижегородского княжества и сразу понял, что самое неприятное ещё только начинается. За постоянные набеги и грабежи, здесь Орду* ненавидели особенно люто. Не в пример рязанцам, нижегородцы обычно в долгу не оставались. Они отвечали частыми мятежами и беспощадными избиениями ордынцев*, как по разным причинам постоянно проживающих в Нижнем Новгороде, так и случайно там оказавшихся. Страха перед Ордой* здесь и прежде не было, а после Куликова поля нижегородцы были уверены, что её владычеству пришёл конец, и поэтому, появление вооружённого отряда ордынцев, проявлявшего ещё большую наглость чем прежде, вызывало особенное негодование, что в подобном случае и следовало ожидать.
В первом же нижегородском селе, куда зашли ордынцы*, их встретили такой открытой враждебностью, что Ак-Ходжа приказал бить плетьми без разбора всех мужчин, а село разграбить. Но во втором селе, вышло ещё хуже. При вьезде ордынцев*, здесь все продолжали заниматься своими обыденными делами, словно и вовсе не видели ни самого посла, ни его нукеров*. Поведя сузившимися от гнева глазами, Ак-Ходжа остановил их на коренастом мужичке, который стоял в шапке и спиной к послу, спокойно прилаживая к своему тыну новый кол, взамен прогнившего старого. По знаку Ак-Ходжи, ехавший за ним Айдар подскочил к мужичку и ударом плётки сбил с его головы шапку. Но мужик не растерялся и размахнувшись колом так огрел им Айдара, что тот едва удержался в седле. На него тут же набросились четверо ордынцев*, которые избив, связали его и поставили перед послом.
– Как ты посмел, подлый и жалкий раб, поднять руку на моего аскера*?! – в бешенстве закричал Ак-Ходжа.
– Не стерпел обиды, вот его и шмякнул, – сплёвывая кровь, ответил мужичок, когда Азат перевёл ему вопрос Ак-Ходжи, – Пускай не дерётся, нонче мы Орде* не подвластны.
– Не подвластны?! Cейчас мы посмотрим! Ты знаешь, что бывает за оскорбление царского посла?
– Знаю, – ответил мужичок, обращаясь к толмачу, – Смерти мне и так не миновать, а ты скажи своему послу …, – и он добавил такое, что Азат в растерянности уставился на мужичка, не решаясь переводить.
– Что он сказал? – нетерпеливо спросил Ак-Ходжа.
– Он сказал …. Я не могу этого повторить, пресветлый мой саид*.
– Говори, – в бешенстве крикнул посол.
– Этот грязный урус*, да испепелит его Всевышний своим гневом, очень плохо сказал про твою почтенную матушку, пресветлейший саид*.
– Уруса* этого, посадить на кол, всех остальных перепороть, село разграбить и сжечь, – распорядился Ак-Ходжа.
Пока нукеры* занимались всеми этими делами, спустились сумерки и ордынцы* расположились на ночлег тут же, на опушке леса, буквально в ста шагах от догорающего селения. Ночь прошла спокойно. Но наутро, когда Ак-Ходжа отдал приказ выступать, к нему явился его тарджуман* Азат и сообщил, что исчез один из его близких друзей Айдар, а с ним ещё один член посольства. Спустя непродолжительное время обратились ещё двое эмиров* из кошуна* сопровождения. Они сообщили, что среди их людей так же отсутствуют по одному человеку. Так как бегство из войска в Орде* было крайне редким явлением, то Ак-Ходжа сразу подумал нечто другое.
– Всю ночь, наверное, забавлялись с урусовскими бабами, а теперь спят где-нибудь в лесу, – зло процедил он, – Немедленно разыскать этих похотливых ногаев* и привести ко мне.
Пропавшех искали долго, и нашли в версте от опушки на маленькой лесной поляне. Все четверо были посаженны на колья. Айдар ещё мог разговаривать и поведал, что ночью, когда он вышел в лес по нужде, его оглушили ударом по голове и принесли сюда. Остальное пояснений не требовало. Покарать за содеянное было некого, так как ночью все жители сожжённого села исчезли и Ак-Ходжа хорошо понимал, что в этих лесах их теперь уже не найти. Он дал распоряжение, прикончить этих несчастных, чтобы не мучились, и трогаться дальше. Следующее село на пути движения было покинуто жителями. Грабить в нём тоже было нечего, так как его жители унесли с собой весь скарб и угнали скотину. Ак-Ходжа приказал сжечь село и продолжил свой поход дальше. В этот же день он миновал ещё одну такую же безлюдную деревню и сжёг её. Но ночью, у Ордынского посла, вновь убили двух нукеров*, а у нескольких, выпущенных на пастбище стреноженных лошадей, перерезали на ногах сухожилия.
Далее, также изредка продолжали встречаться покинутые жителями селения. Подобным образом, ордынцы* проехали ещё три дня. Но теперь, на ночлегах, Ак-Ходжа выставлял усиленное охранение, да и люди его научились осторожности, в связи с чем, новых потерь у ордынцев* больше не было.
На четвёртый день Ак-Ходжа подошёл к укреплённому городку Курмышу, рассчитывая на его жителях отквитаться за всё случившееся, но ворота ему не открыли. Напрасно посол именем Великого ордынского царя* требовал отворить их и впустить его в город. Со стен ему отвечали насмешками и бранью.
В ярости Ак-Ходжа попробовал взять городок приступом, но был отбит, потеряв человек сорок убитыми. Понимая, что у него слишком мало сил и времени для осады, посол двинулся дальше к Нижнему Новгороду, обещая вернуться и стереть Курмыш с лица земли.
Разгневанный от своей неудачной миссии Ак-Ходжа через два дня прибыл в Нижний Новгород, и сразу же направился ко двору Нижегородского князя, где с ходу излил на того весь накопившейся гнев. Он тыкал князю под нос царскую пайцзу* и топая ногами кричал, перечисляя все свои обиды и унижения, произолшедшие в дороге. А расстраиваться послу было из-за чего.
– Как только возвращусь в Сарай*, – пугал он, – оттуда двинется огромное войско, которое превратит Нижегородскую землю в вызженную пустыню.
Престарелый князь Дмитрий Константинович, никогда не отличавшийся мужеством и на своём веку немало натерпевшийся от ордынцев*, не на шутку испугался. Он бестолково и сбивчиво оправдывался, пытаясь всю вину свалить на Мамая, потерпевшего поражение от Московского князя Дмитрия, а также последнего, своей победой подорвавшего уважение русского народа к Орде*.
– В моей земле это ещё ничего, – сказал он под конец, – Это так, озорство, не более. Виновных я велю разыскать и покараю их сам, да так, чтобы другим неповадно было. А вот поедешь дальше, сам увидишь, что будет в московских землях, там народ вовсе потерял страх к Орде*. Лучше бы ты посол туда не ехал, перебьют вас всех по дороге. А Великому хану*, да сохранит его Господь на долгие годы, доведи, что выйти из его воли я и в мыслях не имею, и что Нижегородский князь первый ему на Руси преданейший слуга.
Но понадобилось ещё много уговоров, подарков и покаяний, чтобы умилостивить посла. Наконец Ак-Ходжа смягчился и сказал, что готов предать забвению всё происшедшее и обещает Нижегородскому князю царскую милость.
Однако, в связи с пережитым в дороге, своевременный совет Дмитрия Константиновича не ехать в Москву, показался Ак-Ходже вполне разумным. Пройденный путь наглядно показал, что большой кошун* на Руси привлекает к себе слишком много внимания и вызывает ненависть. Но исполнить волю Великого царя* всё-таки было необхидимо, и Ак-Ходжа написал ему срочное послание. Посол направил его в Сарай* с одним из самых доверенных царских кешектенов* Байондуром, дав тому приличное сопровождение. Затем Ак-Ходжа перепоручил свою миссию одному из сопровождавших его эмиров*, и тарджуману* по совместительству, Азату, приказав тому взять с собой только десяток нукеров*. Сам же Ак-Ходжа остался ожидать своего гонца в Нижнем Новгороде.
Через три недели его посланец благополучно вернулся назад, но ответ привёз совсем не такой, кокого ждали Ак-Ходжа и Тохтамыш. Московский князь Дмитрий ехать в Орду отказался наотрез и передал, что ныне Русь дани никому платить не будет вообще, но если с Великим ордынским царём* у него наладится дружба, то подарки от случая к случаю присылать ему будет. Теперь с этим ответом Ак-Ходже предстояло вернуться в Сарай*, чтобы обо всём сообщить Тохтамышу.
Глава 9: «Щедрые подарки» темника Мамая Дмитрию Донскому
Старший дружинник Московского князя Дмитрия Ивановича, Василий Непряда, прогуливался по стене белокаменного московского кремля. На стене возле многих бойниц были установлены неведомые доселе самострелы, которые стреляли железными и каменными шарами, называемыми ядрами, изрыгивая при этом из себя огонь и дым. Выстрелы сопровождались невероятной силы громом. Василию самому несколько раз приходилось это видеть. Применять самострелы в бою дружине князя Дмитрия, прозванного Донским после победы над темником* Мамаем, ещё не приходилось. Но из бывавших в Европе московских купцов, многие были наслышаны, что это очень грозное оружие и очень хорошо помогает, как при штурмах, так и при защите крепостей. У литовцев и поляков оно якобы уже имелось, но делиться секретом его изготовления и применения они с соседями не спешили. Однако, через торговый люд, сведения об огнестрельном оружии до Москвы доходили всё чаще и чаще, и здесь уже знали, что поляки зовут его пушками, а стрелки, владеющие им, пушкарщиками или пушкарями. Теперь, наконец, подобное оружие, вместе с мастерами его изготавливающими, заполучила и Москва. А произошло это следующим образом.
Во время битвы с войском Мамая на Куликовом поле, Василий Непряда со своими дружинниками находился в составе засадного полка, которым командовал шурин князя Дмитрия Московского – Дмитрий Боброк-Волынский. Когда наступил перелом в сражении и ордынцы* обратились в бегство, Василию и его товарищам было велено атаковать Красный холм*, на котором находилась ставка Мамая. При приближении русских воинов, Мамай и его свита покинули холм, спасаясь бегством налегке. При этом шатёр и всё его имущество осталось на том холме и в качестве трофеев досталось русским. У подножия холма находились два неизвестных русским дружинникам железных предмета, с виду похожих на трубы, с которыми они первое время не знали, что делать. Затем выяснилось, что среди пленных ордынцев*, находится и тот, кому принадлежали эти трубы. Русским, ордынец назвался мастером Аем* и просил пощадить его, взамен обещая научить воинов пользоваться этими трубами, а также научить русских самих их изготавливать. Находясь в состоянии ярости за погибших товарищей, дружинники сначала чуть было не убили мастера, но возле них вовремя оказался Дмитрий Боброк и заступился за него. Так мастер Ай*, вместе со своими чудо-трубами, оказался в Москве, где научил русских делать такое же оружие, зелье* к нему и стрелять из этих штуковин. Это оружие мастер называл туфангами*. Из-за недостатка железа, Ай* предложил делать туфанги* из стволов деревьев, в частности из дуба и лиственницы. Однако эти орудия выдерживали, как правило, один, или самое много несколько выстрелов, после чего разрывались, либо загорались. Да и заряды из деревянных туфангов* летели куда слабее. А поэтому, московский люд прозвал их тюфяками*. Для несведущих, это название перешло на все туфанги*. Оно вскоре укоренилось среди русских как общее название всех огнестрельных орудий. Исключение составляли самые маленькие, которые звались ручницами*. Вместе с Аем*, в русский плен попал и ещё один знахарь тех дел по имени Тюляк. Он какими-то методами мог рассчитывать траектории полётов ядер, в зависимости от углов наклонов стволов туфангов*. В результате, хотя и не всегда, заряды туфангов*, как и стрелы, могли попадать в цель не только при прямой наводке, но и из-за укрытий. Так как имя этого учёного-математика князь Дмитрий Московский и его ближайшее окружение старались держать в тайне, то москвичи располагали о нём лишь обрывочными сведениями. Поэтому, большинство москвичей полагало, что словом тюляк, зовутся стрелки, стреляющие из туфангов* и тюфяков*, и оно якобы, не является людским именем, так как отсутствует в «святках»*. Бывавшие в Москве смоляне называли эти орудия на польский лад – пушками, от издаваемого теми звука, похожего на «пух». В Литву подобное оружие попало, якобы от немцев. Вскоре в Москве нашлись и свои мастера-умельцы, которые стали вводить в оружейное дело свои новшества. Так один из княжеских дружинников Юрий Чопа, путём проб получил более совершенное зелье* для стрельбы. Он заметил, что древесный уголь, изготовленный из ольхи, больше подходит для изготовления зелья*, чем такой же уголь из других пород деревьев. В частности, тюфяки* с использованием такого зелья* стреляли лучше. После этого, для изготовления зелья* стал использоваться древесный уголь, изготовленный в основном из ольхи. К счастью для москвичей, в те годы в подмосковных лесах ольховые деревья произрастали в избытке.
Василию Непряде было велено изучить возможность более правильной расстановки орудий на стенах московского кремля, чтобы в случае штурма крепости нанести неприятелю наибольший урон. На тех башнях, где имелись ворота, или тех местах, где противник мог близко к стенам подтащить стенобитные или метательные приспособления, ставились металлические орудия. На менее опасных участках стен – деревянные тюфяки*. Для своего подмастерья Тюляка, Ай* соорудил отдельное орудие повышенной убойной силы, которое мастера прозвали на бесерменский* лад, «шайтаном», или «шайтан-трубой». В случае штурма, «шайтан» предполагалось извлечь из укрытия и установить в створе Фроловских ворот* кремлёвской крепости. Это требовалось для обеспечения уничтожения стенобитных таранов противника, на случай его попыток пролома главных кремлёвских ворот.
Всё, что было связано с огнестрельным оружием, князь Дмитрий Донской велел держать в глубокой тайне, поэтому к огнестрельному оружию допускались лишь самые верные и наиболее надёжные его люди. Иноземцев же было велено без надобности вообще не пускать на стены и башни кремля, а тем более, посвящать в дела, связанные с этим, неизвестным ранее оружием.
Но однажды случилось неладное. Проходя по кремлёвской стене, Василий Непряда увидел, как один из его знакомых дружинников, по имени Савостей, показывал иноземцам одно из орудий и что-то увлечённо рассказывал о нём. Что это были именно иноземцы, у Василия сомнений не вызывало. На них была широкая одежда, которую обычно носят магометане*. Больше всего Василия озадачило то, что это был именно Савостей, один из самых неважных учеников из числа княжеских дружинников, которые были отобраны для обучения стрельбе из огнестрельного оружия. «Сам ни хрена ничего толком не понимает, а уже других учить пытается, да ещё кого!» – посетовал Василий. Он согнал со стены иноземцев, а Савостею велел следовать с ним в караульное помещение. Там тот был арестован и помещён в темницу. Ночью Савостея вывезли из Москвы к князю Дмитрию Донскому, который последнее время жил в Кузнецкой слободе недалеко от столицы. Там, этого болтуна, также поместили в темницу. За болтливость, ему хотели отрезать язык, но решили повременить до приезда в слободу Василия Непряды, которому было велено «приглядеть» за черезчур любопытными иноземцами, появившимися невесть откуда в столице. Василий задерживался в Москве, а обитателям слободы казалось, что княжеские люди вообще забыли про невольника темницы, продолжавшего ожидать своей участи.
Прошло какое-то время и Василию Непряде сообщили, что возле той слободы дружинниками задержан его бывший толмач, пленённый им на Куликовом поле, который впоследствии неизвестно куда исчез. Это сильно насторожило не только Василия, но также Великого князя Дмитрия Московского, и мужа его сестры, воеводу Дмитрия Боброка-Волынского.
Через день после задержания толмача, Василий Непряда прибыл в слободу, где его ждал Дмитрий Боброк. Они разместились в одной из казённых изб, служившей своего рода острогом при той слободе, перекусили с дороги, выпили медовухи, после чего Дмитрий велел привести одного из невольников. В избу ввели высокого светловолосого молодого парня. Его имя было Ямонт, о чём знал лишь один человек, литовский князь Остей, перешедший на службу к Дмитрию Донскому воеводой. Вместе с ним в Москве появился и Ямонт, за которым на русский манер закрепилось имя Яков, или перосто Яша. Москвичи к нему привыкли, и никого не интересовало, откуда он здесь появился, чем занимается, и на какие средства живёт. Между тем Ямонт (Яков) зарабатывал себе на жизнь, выполняя разного рода секретные поручения, как самого Остея, так и и его московских покровителей, Великого князя Дмитрия Донского, с его ближайшего родственника Дмитрия Боброка-Волынского.
– Здорово Яшка, – обратился к нему Дмитрий, – Садись и поешь, небось проголодался уже? А это свой человек, – кувнул он на Василия, – Можешь говорить при нём всё, что угодно не таясь. Зовут его Василий.
– Благодарю, – ответил парень голосом с необычным акцентом и, пододвинув к себе жареного глухаря, стал жадно его уплетать.
– Ну что, не раскусили тебя эти двое? – вновь обратился Дмитрий к парню, не дожидаясь пока тот закончит трапезу.
– Вроде как нет. Хорошо, что их теперь двое. Я прикинулся не знающим вашего языка, – ответил Яков, – Они теперь болтают меж собой, не обращая на меня никакого внимания, что мне и нужно.
– Скажи, кто они и о чём говорили? – спросил Дмитрий Боброк.
– Тот, кто сидит дольше, русский дружинник, – продолжил Яков, не отрываясь от трапезы, – Он пушкарь, говорит, что сам может сделать пушку, но только деревянную. А вот заряд для неё сделать не сможет. Говорит, что посадили его за то, что показывал иноземцам, как устроена пушка. Второй, что посадили позже, татарин, был толмач у московского воеводы, бежал, но в Татарии* оказался никому не нужен, так как калека. Поэтому, он решил вернуться, а заодно и заработать, нанявшись проводником в чужеземный караван. Только это не обычный караван! Караванщики с него, только прикидываются торговцами. Это самаркандские лазутчики, присланные их владыкой заполучить здесь пушки и мастера, который их делает. Они не смогли это сделать в Татарии, так как опоздали с приездом, и теперь прибыли сюда. Тот татарин, якобы очень боится этих чужеземцев. Говорит, что своё дело сделал и теперь им больше будет не нужен, а значит, теперь те могут его убить. Поэтому он от купцов и бежал, а в слободу попал случайно, так как не знает здешних мест и дорог. Ещё он говорил, что по пути следования в Москву, караванщики очень интересовались переправами через какую-то большую реку в Татарии. На одной из переправ они уже были. Там татарский город Самар* имеется. На другую, такую же переправу, хотят посмотреть на обратном пути. Это якобы самая большая ордынская переправа. Интересовалить другими татарскими городами, но я их названий не запомнил, сложно произносятся.
– Пока довольно и этого, – произнёс Дмитрий, – А ты поешь ещё, да хорошенько, в темнице кроме затирухи* ничего не дадут, а тебе снова придётся этих невольников послушать. Мы их трогать пока не будем, поглядим, о чём меж собой дальше болтать станут.
– Времена нынче пошли непонятные, – посетовал Василий, – татары, чуть что, к нам бегут, а наши к татарам. Нижний* почти на треть из татар, а в Сарае*, куда не глянь, одни рожи рязанские. В Москве тоже татарвы хватает, а простолюдины-то и врагами друг друга считать перестали. Удивляться совсем не приходиться, откуда здесь лазутчики берутся.
– Иноземные лазутчики не так страшны, – перебил его Дмитрий, – Их хоть как-то видно. А вот свои, они намного хуже, особенно из числа нашего завистливого и продажнего боярского сословия. Продадут тебя с патрохами, ахнуть не успеешь.
Яков был возврашён в темницу. Савостею и Салимбегу решено было учинить допрос на следующий день, однако, ближе к ночи из Москвы прискакал гонец и сообщил, что в дом Василия Непряды наведались неизвестные восточные иноземцы, передали дорогие подарки и просят с ним встретиться.
– Это становится чересчур уж очень интересным! – сказал Боброк, – Не успели ордынских послов кое-как выпроводить, а тут уже новые иноземцы что-то затевают. Придётся тебе Василий срочно отбыть в Москву. Поторгуйся с ними как следует, да не оброни чего лишнего. По всему видать, эти «купчишки» народец ушлый. Послушаешь, что они скажут, а потом вернёшся и все вместе, с нашими арестантами потолкуем по душам, как быть дальше.
– Слушаюсь воевода, – ответил Василий, – А во мне будь уверен, не подведу, и уж конечно не продешевлю. Послов Тохтамыша ни с чем назад в Нижний* выпроводили, и с этими, думаю, как нибудь справимся.
При последних словах Василий хитро засмеялся. Этой же ночью он вернулся в Москву, где ему предстояла встреча с иноземными гостями. Что те задумали и как намерены были задуманное осуществлять, Василию предстояло, уже выяснять на месте.
Глава 10: Игра посланцев
в «кошки-мышки» с урусами
Невозвращение Салимбега обеспокоило Камол ад-Дина. Что с ним могло случиться? В наказание за побег, того могли закрыть в острог, а это больше всего не устраивало посланца*. Если Салимбег расскажет урусам*, каким образом тот прибыл в Москву, а также поведает об истинных причинах нахождения здесь самаркандского каравана, всех их, от Камол-ад-Дина и до простого караванщика, немедленно арестуют и возможно казнят. Умар-Шейх и его люди, в Москве караван искать не будут, так как Камол ад-Дин о своём походе сюда, вестей в Самарканд не посылал. Однако, думал посланец*, если урусы* их до сих пор не арестовали, значит Салимбег пока, о целях самаркандской миссии молчит. Поэтому, следует попытаться его из урусовской* неволи высвободить, а затем тихо ликвидировать. Не будет, теперь уже ненужного им человека, не будет с ним и проблем, решил Камил ад-Дин. Поинтересовавшись, какие из восточных товаров наиболее предпочитаемы для урусов*, посланец* отобрал несколько подарков. Затем, он попросил Эргаша передать их бывшиму саиду* Салимбега, обговорив с тем условия их встречи. В качестве же основного подарка, для этого уруса, посланец*, приготовил кинжал из дамасской стали с позолоченной рукоятью. Его Камол ад-Дин намерен был вручить урусу* лично, а не вместе с остальными дорогими «побрякушками». Возвратившейся Эргаш сообщил, что их подарки, нукеры* этого уруса* приняли. Это означало, что встреча состоится, а урус* на неё, настроен вполне доброжелательно.



