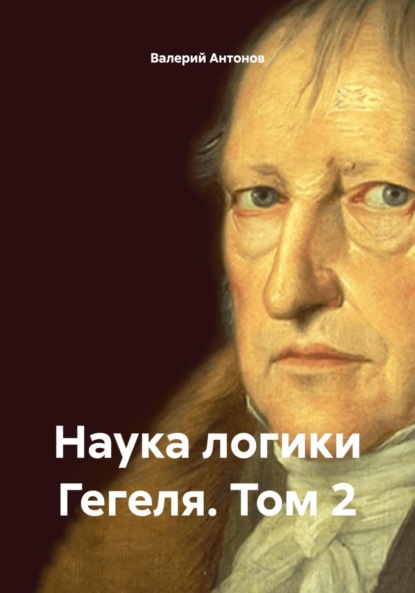
Полная версия:
Наука логики Гегеля. Том 2
Чистое понятие – это абсолютно бесконечное, безусловное и свободное. Чтобы понять его природу, нужно проследить его происхождение:
– Бытие переходит в сущность, а сущность – в понятие. Однако это не просто последовательное развитие, а процесс отталкивания от самого себя, где возникшее (понятие) оказывается безусловным и первоначальным.
– Бытие, превращаясь в сущность, становится видимостью (положенностью), а его переход в иное – полаганием. Но рефлексия сущности снимает себя и восстанавливает как неположенное, как изначальное бытие.
– Понятие – это проникновение этих моментов: качественное и первоначально-сущее существует лишь как полагание и как возвращение в себя. Это чистая рефлексия, которая есть одновременно становление иным – бесконечная, самоотнесённая определённость.
1. Всеобщность как простое тождество.
– Понятие – это абсолютное тождество с собой, существующее как отрицание отрицания или бесконечное единство отрицательности.
– Всеобщность – простейшее определение понятия, но именно в этой простоте заключена абсолютная отрицательность, содержащая в себе высшую определённость.
– Бытие – простое и непосредственное, но оно сразу переходит в свою противоположность (небытие) и исчезает в становлении.
– Всеобщее же – простое, но богатое внутри себя, поскольку оно есть понятие.
2. Всеобщее как опосредствование.
– Всеобщее – это простое отношение к себе, но также и абсолютное опосредствование (хотя не нечто опосредованное извне).
– В отличие от абстрактного всеобщего (которое противопоставлено особенному и единичному), истинное всеобщее содержит в себе снятые определения, а не просто исключает их.
– Отрицание отрицания здесь не внешнее (как в абстракции, где "отбрасываются" лишние свойства), а имманентное самодвижение понятия.
3. Всеобщее как субстанция и сила.
– Всеобщее – это субстанция своих определений, но не в смысле случайных проявлений, а как собственное опосредствование понятия с самим собой.
– Оно не погружается в становление, а пребывает в нём неизменным, сохраняя себя.
– Оно не ограничено своими определениями, но свободно переступает их, оставаясь у себя в ином.
– Это свободная сила, любовь, блаженство – ведь оно относится к иному как к самому себе.
4. Определённость всеобщего.
– Хотя понятие пока рассматривается как чистое всеобщее, оно уже содержит в себе особенность и единичность.
– Первое отрицание даёт особенность,
– Второе отрицание (отрицание отрицания) – единичность и конкретность.
– Всеобщее – это тотальность, конкретное содержание, а не пустая абстракция.
– Его определённость – не внешняя граница, а имманентная рефлексия, где различение возвращается в единство.
5. Истинное всеобщее и конечные понятия.
– Низшие роды разрешаются в высшие всеобщие, но истинно высшее всеобщее – то, в чём внешнее различение возвращается внутрь (как в жизни, Я, духе, абсолютном понятии).
– Абсолютное понятие – это идея бесконечного духа, где положенность есть прозрачная реальность, в которой дух созерцает себя в своём творении.
6. Особенность как самоопределение всеобщего.
– Истинное всеобщее свободно определяет себя, его ограничение – не переход (как в бытии), а творческая сила абсолютной отрицательности.
– Оно различает себя внутри себя, но эти различия остаются всеобщими, не распадаясь на изолированные конечные формы.
– Творчество понятия – в том, что оно облекает свои различия в форму всеобщности, сохраняя их как моменты себя самого.
Проверочные вопросы.
1. Как возникает понятие из бытия и сущности? В чём отличие этого перехода от простого последовательного развития?
2. Почему всеобщее нельзя свести к абстрактной простоте? Как в нём сочетаются единство и определённость?
3. Чем опосредствование в понятии отличается от опосредствования в сущности?
4. Как всеобщее связано с отрицанием отрицания? Почему это не внешнее, а внутреннее движение?
5. В чём проявляется творческая сила понятия? Как оно соотносится со своими определениями (особенным и единичным)?
6. Почему абсолютное понятие можно назвать "свободной любовью" или "бесконечным блаженством"?
7. Как низшие роды соотносятся с высшими всеобщими? В чём отличие формально высшего рода от истинно абсолютного понятия?
8. Как понятие "удерживает" свои различия, не позволяя им стать внешними и конечными?
B. Особенное понятие.
Определенность как таковая принадлежит бытию и качественному; как определенность понятия она есть особенность. Она не есть граница, так чтобы относиться к иному как к своему потустороннему, а, как только что показалось, есть собственный имманентный момент всеобщего; последнее, таким образом, в особенности не находится при ином, а просто при себе самом.
Особенное содержит всеобщность, составляющую его субстанцию; род остается неизменным в своих видах; виды не отличны от всеобщего, а различаются лишь между собой. Особенное имеет с другими особенностями, к которым оно относится, одну и ту же всеобщность. В то же время различие между ними, в силу их тождества со всеобщим, само есть всеобщее; оно есть тотальность. – Особенное, следовательно, содержит не только всеобщее, но и выражает его через свою определенность; последняя образует сферу, которую особенное должно исчерпать. Эта тотальность проявляется, поскольку определенность особенного берется как простое различие, в виде полноты. В этом отношении виды полны, поскольку их не существует больше. Для них нет внутренней меры или принципа, ибо различие есть как раз лишенное единства различие, в котором всеобщность, будучи для себя абсолютным единством, есть лишь внешняя рефлексия, а полнота – неограниченная, случайная. Однако различие переходит в противоположность, во внутреннее отношение различных.
Особенность же, будучи всеобщностью в себе и для себя, не через переход есть такое имманентное отношение; она есть тотальность в самой себе и простая определенность, по существу принцип. Она не имеет иной определенности, кроме той, которая положена самим всеобщим и вытекает из него следующим образом.
Особенное есть само всеобщее, но оно есть его различие или отношение к иному, его внешнее проявление; однако нет иного, от которого особенное отличалось бы, кроме самого всеобщего. – Всеобщее определяет себя, и тем самым оно само есть особенное; определенность есть его различие; оно различно лишь от самого себя. Его виды, следовательно, суть лишь:
а) само всеобщее и
б) особенное.
Всеобщее как понятие есть оно само и его противоположность, которая, в свою очередь, есть оно само как положенная определенность; оно выходит за его пределы и в нем находится у себя. Таким образом, оно есть тотальность и принцип своего различия, которое всецело определено лишь им самим.
Следовательно, нет иного истинного деления, кроме того, что понятие само становится на сторону как непосредственная, неопределенная всеобщность; именно эта неопределенность составляет его определенность, или то, что оно есть особенное. Оба суть особенное и потому координированы. Оба также как особенное суть определенное по отношению к всеобщему; они называются в этом отношении подчиненными. Но именно это всеобщее, против которого особенное определено, само оказывается лишь одним из противопоставленных. Когда мы говорим о двух противопоставленных, то должны также сказать, что они оба составляют особенное, не только вместе, что они для внешней рефлексии были бы равны в том, чтобы быть особенными, но их определенность друг против друга есть по существу лишь одна определенность, негативность, которая во всеобщем проста.
Как различие здесь проявляется, оно есть в своем понятии и тем самым в своей истине. Всякое предшествующее различие имеет это единство в понятии. Как непосредственное различие в бытии, оно есть граница иного; как различие в рефлексии, оно есть относительное, положенное как существенно относящееся к своему иному; здесь, таким образом, начинает полагаться единство понятия, но сначала оно есть лишь видимость в ином. – Переход и растворение этих определений имеют лишь тот истинный смысл, что они достигают своего понятия, своей истины; бытие, наличное бытие, нечто или целое и части и т. д., субстанция и акциденции, причина и действие суть сами по себе мыслительные определения; как определенные понятия они постигаются, поскольку каждая познается в единстве с другой или противоположной. – Целое и части, причина и действие и т. д. еще не суть различные, которые были бы определены как особенные друг против друга, ибо они хотя в себе составляют одно понятие, но их единство еще не достигло формы всеобщности; точно так же различие, которое есть в этих отношениях, еще не имеет формы, что оно есть одна определенность. Например, причина и действие – не два различных понятия, а лишь одно определенное понятие, и причинность, как и всякое понятие, есть нечто простое.
Что касается полноты, то оказалось, что определенность особенности полна в различии всеобщего и особенного и что лишь эти два составляют особенные виды. В природе, конечно, встречается в роде более двух видов, точно так же как эти многие виды не могут иметь указанного отношения друг к другу. Это есть бессилие природы – не удержать и не выразить строгость понятия, расплываясь в этой лишенной понятия слепой множественности. Мы можем восхищаться природой в многообразии ее родов и видов и бесконечном различии ее образований, ибо восхищение лишено понятия, и его предмет есть неразумное. Природе, поскольку она есть внешнее бытие понятия, позволено предаваться этому различию, подобно тому как дух, хотя он и имеет понятие в форме понятия, также вдается в представление и вращается в его бесконечной множественности. Многообразные роды или виды природы не должны почитаться ничем более высоким, чем произвольные выдумки духа в его представлениях. Оба, конечно, всюду показывают следы и предчувствия понятия, но не представляют его в верном образе, ибо они суть сторона его свободного внешнего бытия; он есть абсолютная сила именно потому, что может свободно отпустить свое различие в образ самостоятельной разнородности, внешней необходимости, случайности, произвола, мнения, которые, однако, должны приниматься не более чем за абстрактную сторону ничтожности.
Определенность особенного проста как принцип, как мы видели, но она есть также момент тотальности, как определенность против другой определенности. Понятие, поскольку оно определяет себя или различает, направлено негативно на свое единство и принимает форму одного из своих идеальных моментов бытия; как определенное понятие оно имеет наличное бытие вообще. Однако это бытие не имеет более значения простой непосредственности, а всеобщности, которая через абсолютное опосредование есть равная себе непосредственность, содержащая в себе столь же и другой момент – сущность или рефлексию в себя. Эта всеобщность, которой облечено определенное, есть абстрактная. Особенное имеет всеобщность в себе самом как свою сущность; но поскольку определенность различия положена и тем самым имеет бытие, она есть форма в нем, а определенность как таковая есть содержание. Всеобщность становится формой, поскольку различие есть существенное, тогда как, напротив, в чистом всеобщем оно есть лишь абсолютная негативность, а не различие, которое как таковое положено.
Определенность, правда, есть абстрактное по отношению к другой определенности; но другая есть лишь сама всеобщность, последняя в этом отношении также абстрактна; а определенность понятия, или особенность, есть опять-таки не что иное, как определенная всеобщность. Понятие в ней вне себя; поскольку оно есть то, что в ней вне себя, абстрактно-всеобщее содержит все моменты понятия:
α) всеобщность,
β) определенность,
γ) простое единство обоих;
но это единство есть непосредственное, и особенность потому не есть тотальность. В себе она также есть эта тотальность и опосредование; она есть по существу исключающее отношение к иному или снятие негации, а именно другой определенности, – другой, которая, однако, витает лишь как мнение, ибо непосредственно исчезает и показывает себя как то же самое, что и та, другой к которой она должна была бы быть. Это делает, таким образом, эту всеобщность абстрактной, поскольку опосредование есть лишь условие или не положено в ней самой. Поскольку оно не положено, единство абстрактного имеет форму непосредственности, а содержание – форму безразличия к своей всеобщности, ибо оно не есть эта тотальность, которая есть всеобщность абсолютной негативности. Абстрактно-всеобщее есть, правда, понятие, но как лишенное понятия, как понятие, которое не положено как таковое.
Когда речь идет об определенном понятии, то обычно имеют в виду лишь такое абстрактно-всеобщее. Также под понятием вообще чаще всего понимают это лишенное понятия понятие, и рассудок обозначает способность таких понятий. Демонстрация принадлежит этому рассудку, поскольку она движется в понятиях, то есть лишь в определениях. Такое движение в понятиях не выходит поэтому за конечность и необходимость; его высшее есть негативное бесконечное, абстракция высшего существа, которое само есть определенность неопределенности. Также абсолютная субстанция, правда, не есть эта пустая абстракция, по содержанию она, скорее, тотальность, но она потому абстрактна, что лишена абсолютной формы, ее глубочайшую истину не составляет понятие; хотя она есть тождество всеобщности и особенности, или мышления и внешности, но это тождество не есть определенность понятия; вне ее есть, и именно потому, что он вне ее, случайный рассудок, в котором и для которого она есть в различных атрибутах и модусах.
Впрочем, абстракция не пуста, как ее обычно называют; она есть определенное понятие; она имеет некоторую определенность в качестве содержания; даже высшее существо, чистая абстракция, как упомянуто, имеет определенность неопределенности; но неопределенность есть определенность, поскольку она должна противостоять определенному. Однако, когда высказывают, что она есть, это само снимает то, чем она должна быть; она высказывается как единое с определенностью, и таким образом из абстракции восстанавливается понятие и его истина. – Однако каждый определенный понятие пуст постольку, поскольку он не содержит тотальности, а лишь одностороннюю определенность. Если он имеет иной конкретный
Сюда относится обстоятельство, из-за которого рассудок в новейшие времена стал мало цениться и так сильно оттеснен на задний план перед разумом; это – та твердость, которую он сообщает определенностям и, следовательно, конечности. Это устойчивое состоит в рассмотренной форме абстрактной всеобщности; через нее они становятся неизменными. Ибо качественная определенность, как и рефлексивная определенность, существуют как ограниченные и через свою границу имеют отношение к своему иному, а потому – необходимость перехода и исчезновения. Но всеобщность, которую они получают в рассудке, придает им форму рефлексии в себя, благодаря чему они изымаются из отношения к иному и становятся неисчезающими. Если же в чистом понятии эта вечность принадлежит к его природе, то его абстрактные определения были бы вечными сущностями лишь по своей форме; но их содержание не соответствует этой форме; поэтому они не есть истина и неисчезаемость. Их содержание не соответствует форме, потому что оно не есть сама определенность как всеобщее, т. е. не как тотальность понятийного различия или не есть сама целая форма; форма ограниченного рассудка именно поэтому сама несовершенна, а именно – абстрактная всеобщность.
Но, далее, следует признавать бесконечную силу рассудка – разделять конкретное на абстрактные определенности и постигать глубину различия, которая одна только одновременно есть сила, производящая их переход. Конкретное созерцания есть тотальность, но чувственная – реальный материал, который безразлично существует вне себя в пространстве и времени; эта безучастность многообразного, в которой оно есть содержание созерцания, едва ли должна считаться его заслугой и преимуществом перед рассудочным. Изменчивость, которую оно проявляет в созерцании, уже указывает на всеобщее; то, что приходит в созерцание, есть лишь другое, столь же изменчивое, следовательно, лишь то же самое; это не всеобщее, которое заняло бы его место и явилось. Меньше всего следует приписывать науке, например, геометрии и арифметике, заслугу наглядности, которую приносит с собой их материал, и представлять их положения как обоснованные этим. Напротив, материал таких наук именно поэтому имеет низшую природу; созерцание фигур или чисел не способствует их научному познанию; лишь мышление о них может произвести таковое. Если же под созерцанием понимать не только чувственное, но объективную тотальность, то оно есть интеллектуальное, т. е. имеет бытие не в его внешнем существовании как предмет, но то, что в нем есть неисчезающая реальность и истина, – реальность, лишь поскольку она существенно в понятии и через него определена, идея, чья ближайшая природа должна раскрыться позже. То, что созерцание как таковое будто бы имеет перед понятием, – это внешняя реальность, бессмысленное, которое лишь через него получает ценность.
Поскольку рассудок представляет бесконечную силу, определяющую всеобщее, или, наоборот, сообщает самому по себе неустойчивому определенности через форму всеобщности твердое существование, то теперь не вина рассудка, если не идут дальше. Это – субъективное бессилие разума, которое признает эти определенности значимыми и не способно привести их обратно к единству через диалектическую силу, противоположную этой абстрактной всеобщности, т. е. через собственную природу, а именно через понятие этих определенностей. Рассудок, правда, через форму абстрактной всеобщности сообщает им, так сказать, такую твердость бытия, какой они не имеют в качественной сфере и сфере рефлексии; но через это упрощение он одновременно одухотворяет их и заостряет так, что именно на этой вершине они получают способность растворяться и переходить в свою противоположность. Высшая зрелость и ступень, которую что-либо может достигнуть, есть та, на которой начинается его гибель. Твердость определенностей, в которые рассудок, кажется, врезается, форма неисчезающего есть форма относящейся к себе всеобщности. Но она принадлежит понятию; и поэтому в ней самой выражено растворение конечного и в бесконечной близости. Эта всеобщность непосредственно обличает определенность конечного и выражает его несоответствие ей. – Или, вернее, его соответствие уже налично; абстрактная определенность положена как единая со всеобщностью; именно поэтому – не как для себя, поскольку она лишь определенна, но лишь как единство себя и всеобщего, т. е. как понятие.
Поэтому во всех отношениях следует отвергать обычное разделение рассудка и разума. Если понятие считается лишенным разума, то это скорее должно рассматриваться как неспособность разума познать себя в нем. Определенное и абстрактное понятие есть условие или, вернее, существенный момент разума; оно есть одухотворенная форма, в которой конечное через всеобщность, в которой оно относится к себе, воспламеняется в себе, как диалектически положенное и тем самым есть само начало явления разума.
Поскольку определенное понятие в предшествующем изложено в его истине, то остается лишь указать, как оно тем самым уже положено. – Различие, которое есть существенный момент понятия, но в чистой всеобщности еще не положено как таковое, получает в определенном понятии свое право. Определенность в форме всеобщности соединена с ней как простое; это определенное всеобщее есть относящаяся к себе самой определенность; определенная определенность или абсолютная отрицательность, положенная для себя. Но относящаяся к себе самой определенность есть единичность. Как всеобщность уже непосредственно в себе и для себя есть особенность, так же непосредственно в себе и для себя особенность есть единичность, которая сначала рассматривается как третий момент понятия, поскольку она противопоставлена двум другим внутри него и одновременно как положенная утрата себя самого.
Примечание. Всеобщность, особенность и единичность суть, согласно сказанному, три определенных понятия, если их вообще хотят считать. Уже ранее было показано, что число есть неподходящая форма для охвата понятийных определений, но всего менее подходящая для определений самого понятия; число, имея единицу своим принципом, делает считаемые совершенно обособленными и безразличными друг к другу. В предшествующем выяснилось, что различные определенные понятия суть скорее абсолютно одно и то же понятие, чем то, что они распадаются в число.
В обычном изложении логики встречаются различные деления и виды понятий. Сразу бросается в глаза непоследовательность, когда виды вводятся так: «По количеству, качеству и т. д. существуют следующие понятия». «Существуют» не выражает иного оправдания, кроме того, что такие виды обнаруживаются и показываются в опыте. Таким образом получается эмпирическая логика – странная наука, неразумное познание разумного. Логика здесь подает очень дурной пример следования своим собственным учениям; она позволяет себе делать для себя противоположное тому, что предписывает как правило: что понятия должны быть выведены, а научные положения (следовательно, также положение: «Существует столько-то видов понятий») – доказаны. – Кантовская философия совершает здесь дальнейшую непоследовательность: она заимствует для трансцендентальной логики категории как так называемые коренные понятия из субъективной логики, где они принимаются эмпирически. Раз она признает последнее, то не видно, почему трансцендентальная логика решается заимствовать из такой науки, а не хватает сразу сама эмпирически.
Чтобы привести кое-что из этого, понятия прежде всего делятся по их ясности, а именно на ясные и темные, отчетливые и неотчетливые, адекватные и неадекватные. Сюда же можно отнести полные, избыточные и другие подобные излишества. – Что касается этого деления по ясности, то скоро обнаруживается, что эта точка зрения и относящиеся к ней различия взяты из психологических, а не логических определений. Так называемое ясное понятие должно быть достаточным, чтобы отличить один предмет от другого; такое еще нельзя назвать понятием, это не более чем субъективное представление. Что такое темное понятие, должно оставаться в покое, иначе оно не было бы темным, оно стало бы отчетливым понятием. – Отчетливое понятие должно быть таким, о котором можно указать признаки. Следовательно, оно, собственно, есть определенное понятие. Признак, если понимать то, что в нем есть правильного, есть не что иное, как определенность или простое содержание понятия, поскольку оно отличается от формы всеобщности. Но признак сначала не имеет именно этого более точного значения, а есть вообще лишь определение, посредством которого третье лицо запоминает предмет или понятие; поэтому он может быть очень случайным обстоятельством. Вообще он выражает не столько имманентность и существенность определения, сколько его отношение к внешнему рассудку. Если этот действительно есть рассудок, то он имеет перед собой понятие и запоминает его не через что иное, как через то, что есть в понятии. Но если это должно отличаться от него, то это есть знак или иное определение, принадлежащее представлению вещи, а не ее понятию. – Что такое неотчетливое понятие, можно оставить как излишнее.
Адекватное понятие, однако, есть нечто более высокое; здесь, собственно, витает соответствие понятия с реальностью, что есть уже не понятие как таковое, а идея. Если бы признак отчетливого понятия действительно должен был быть самой определенностью понятия, то логика оказалась бы в затруднении с простыми понятиями, которые, согласно другому делению, противопоставляются сложным. Ибо если бы от простого понятия требовалось указать истинный, то есть имманентный признак, то его не захотели бы считать простым; поскольку же таковой не указывается, оно не было бы отчетливым понятием. Здесь, однако, выручает ясное понятие. Единство, реальность и тому подобные определения считаются простыми понятиями, вероятно, лишь по той причине, что логики не смогли обнаружить их определенность и потому удовлетворились тем, чтобы иметь о них лишь ясное понятие, то есть, по сути, никакого.
Для определения, то есть для указания понятия, обычно требуется указание рода и видового отличия. Таким образом, оно дает понятие не как нечто простое, а в виде двух счетных составляющих. Однако из этого вовсе не следует, что такое понятие должно считаться составным.
В случае простого понятия, видимо, подразумевается абстрактная простота – единство, не содержащее в себе различия и определенности, а потому и не то единство, которое присуще понятию. Поскольку предмет существует в представлении, особенно в памяти, или же как абстрактная мыслительная определенность, он может быть совершенно простым. Даже наиболее богатый внутренне предмет – например, дух, природа, мир, даже Бог, – схваченный беспонятийно в простое представление столь же простого выражения: «дух», «природа», «мир», «Бог», – есть нечто простое, на чем сознание может остановиться, не выделяя дальше собственной определенности или признака. Но предметы сознания не должны оставаться этой простотой, не должны быть представлениями или абстрактными мыслительными определенностями – они должны быть поняты, то есть их простота должна быть определена вместе с их внутренним различием.



