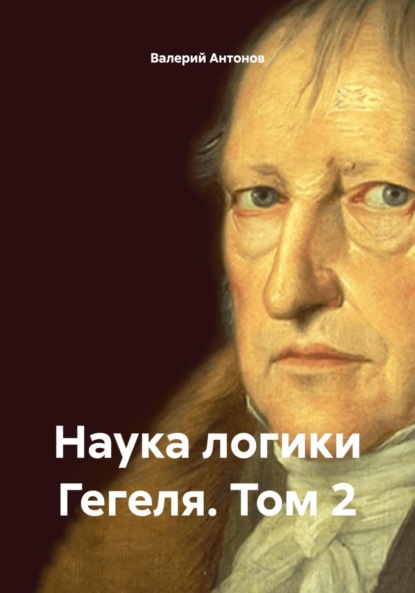
Полная версия:
Наука логики Гегеля. Том 2
Составное же понятие – это, пожалуй, не более чем деревянное железо. О чем-то составном можно, конечно, иметь понятие, но составное понятие было бы чем-то худшим, чем материализм, который, правда, принимает субстанцию души за нечто составное, но все же рассматривает мышление как простое.
Невоспитанная рефлексия сразу же наталкивается на составление как на совершенно внешнее отношение, наихудшую форму, в которой вещи могут быть рассмотрены; даже наиболее низкие природы должны быть внутренним единством. То, что форма наинеистиннейшего наличного бытия переносится на Я, на понятие, – это больше, чем можно было ожидать, и должно рассматриваться как неуместное и варварское.
Далее, понятия преимущественно делятся на контрарные и контрадикторные.
Если бы при рассмотрении понятия речь шла о том, чтобы указать, какие бывают определенные понятия, то пришлось бы перечислить все возможные определенности, – ибо все определенности суть понятия, а значит, определенные понятия, – и все категории бытия, как и все определенности сущности, должны были бы быть перечислены среди видов понятий. Как, впрочем, и в логиках – в одной по произволу больше, в другой меньше – рассказывается, что бывают утвердительные, отрицательные, тождественные, условные, необходимые и т. д. понятия.
Поскольку такие определенности уже остались позади по природе самого понятия и потому, если они упоминаются при его рассмотрении, не встречаются на собственном месте, они допускают лишь поверхностные словесные объяснения и появляются здесь без всякого интереса.
В основе контрарных и контрадикторных понятий – различия, на которое здесь обращается особое внимание, – лежат рефлексивные определенности различия и противоположности. Они рассматриваются как два особых вида, то есть каждый как твердо стоящий сам по себе и безразличный к другому, без всякой мысли о диалектике и внутренней несостоятельности этих различий; словно то, что контрарно, не должно быть столь же необходимо определено как контрадикторное.
Природа и существенный переход рефлексивных форм, которые они выражают, были рассмотрены в своем месте. В понятии тождество развилось в всеобщность, различие – в особенность, а противоположность, возвращающаяся в основание, – в единичность. В этих формах те рефлексивные определенности существуют так, как они есть в своем понятии.
Всеобщее оказалось не только тождественным, но одновременно и различным, или контрарным, по отношению к особенному и единичному, а также и противоположным им, или контрадикторным; однако в этой противоположности оно тождественно с ними и их истинное основание, в котором они сняты. То же самое относится к особенности и единичности, которые точно так же суть тотальность рефлексивных определенностей.
Далее, понятия делятся на подчиненные и координированные – различие, которое ближе подходит к определенности понятия, а именно к отношению всеобщности и особенности, где эти выражения также были упомянуты мимоходом. Только обычно их тоже рассматривают как совершенно твердые отношения, и на этом основании выдвигается множество бесплодных положений о них.
"Самое пространное обсуждение этого касается вновь отношения контрарности и контрадикторности к субординации и координации. Поскольку суждение есть отношение определённых понятий, то лишь в нём должно раскрыться их истинное соотношение. Тот способ сравнения этих определений без мысли об их диалектике и без внимания к непрерывному изменению их определённости – или, вернее, к присущей им связи противоположных определений – превращает всё рассмотрение того, что в них согласуется или нет, словно бы эта согласованность или несогласованность есть нечто отдельное и пребывающее, во нечто совершенно бесплодное и лишённое содержания.
Великий Эйлер, бесконечно плодовитый и проницательный в постижении и комбинировании глубоких соотношений алгебраических величин, особенно же суховато-рассудочный Ламберт и другие пытались обозначить такого рода отношения понятийных определений с помощью линий, фигур и тому подобного; вообще ставилась цель возвысить логические способы отношения до уровня исчисления – или, вернее, на самом деле низвести их. Уже сама попытка обозначения сразу же обнаруживает свою несостоятельность, если сравнить природу знака и то, что должно быть обозначено. Понятийные определения – всеобщность, особенность и единичность – конечно, различны, как линии или буквы в алгебре; они, далее, также противоположны и потому допускают знаки плюса и минуса. Но они сами и тем более их отношения – даже если оставаться лишь на уровне субсумции и ингеренции – имеют совершенно иную, существенную природу, нежели буквы и линии и их отношения: равенство или различие величины, плюс и минус, или положение линий друг над другом, или их соединение в углы и пространственные положения, которые они образуют. Подобные предметы обладают по сравнению с ними той особенностью, что они внешни друг другу и имеют фиксированную определённость. Если же понятия берутся так, что соответствуют таким знакам, они перестают быть понятиями. Их определения – не нечто мёртво-неподвижное, как числа и линии, чьи отношения им не принадлежат; они суть живые движения; определённость одной стороны непосредственно внутренне присуща и другой; то, что для чисел и линий было бы совершенным противоречием, для природы понятия существенно.
Высшая математика, которая также продвигается к бесконечному и допускает противоречия, не может более использовать свои обычные знаки для представления таких определений. Для обозначения ещё весьма бедной понятием идеи бесконечного приближения двух ординат или приравнивания дуги к бесконечному числу бесконечно малых прямых линий она не делает ничего иного, кроме как рисует две прямые линии отдельно и вписывает в дугу прямые линии, но как отличные от неё; что же касается бесконечного, на котором здесь всё держится, она отсылает к представлению."
Примечания:
1. Контрарность и контрадикторность – термины логики, обозначающие разные типы противоположности.
2. Субсумция и ингеренция – подведение под понятие и присущность (отношения между понятиями).
3. Эйлер и Ламберт – математики, пытавшиеся формализовать логические отношения через геометрические и алгебраические символы.
4. "Живые движения" – гегелевская характеристика динамичной природы понятий в отличие от статичности математических объектов.
«Что прежде всего побудило к этой попытке, – это главным образом количественное соотношение, в котором всеобщность, особенность и единичность должны находиться друг к другу; всеобщее называется более широким, чем особенное и единичное, а особенное – более широким, чем единичное. Понятие есть конкретное и самое богатое, потому что оно есть основа и тотальность прежних определений – категорий бытия и рефлективных определений; поэтому они, конечно, выступают и в нём. Но его природа совершенно искажается, если их в нём всё ещё удерживают в той абстракции; если более широкий объём всеобщего понимается так, что оно есть нечто большее или большее количество, чем особенное и единичное. Как абсолютное основание, оно есть возможность количества, но в равной мере и качества, т. е. его определения столь же качественно различаются; поэтому они рассматриваются уже против их истины, если полагаются лишь под формой количества. Далее, рефлективное определение есть нечто относительное, в котором проявляется его противоположность; оно не находится во внешнем отношении, как количество. Но понятие есть больше, чем всё это; его определения – определённые понятия, по существу сами тотальность всех определений. Поэтому совершенно неподходяще, чтобы схватить такую внутреннюю тотальность, желать применять числовые и пространственные соотношения, в которых все определения распадаются; они, скорее, есть самое последнее и худшее средство, которое могло бы быть использовано. Природные соотношения, как, например, магнетизм, цветовые отношения, были бы бесконечно более высокими и истинными символами для этого. Поскольку человек обладает языком как свойственным разуму средством обозначения, то это праздная выдумка – искать более несовершенный способ представления и мучиться с ним. Понятие как таковое по существу может быть схвачено только духом, чьей собственностью оно не только является, но чьим чистым «Я» оно есть. Тщетно желать удерживать его посредством пространственных фигур и алгебраических знаков ради внешнего глаза и безпонятийного, механического способа обработки, вычисления. Также и всё другое, что должно служить символом, может в лучшем случае, как символы для природы Бога, возбуждать предчувствия и отзвуки понятия; но если серьёзно хотят выразить и познать понятие через них, то внешняя природа всех символов неадекватна для этого, и, скорее, отношение обратное: то, что в символах есть отзвук более высокого определения, сначала познаётся через понятие и только через отделение того чувственного приложения, которое предназначено его выражать, должно быть приближено к нему.»
О содержании1. Определенность как особенность.
Определенность, которая в сфере бытия была качеством, а в сущности – границей, в понятии становится особенностью. Но особенность – не внешняя граница, отсылающая к чему-то иному, а имманентный момент самого всеобщего. Всеобщее не противостоит особенному как чему-то чуждому – оно раскрывается через него, оставаясь у себя.
Особенное включает в себя всеобщее как свою субстанцию: подобно тому как род сохраняется в своих видах, так и всеобщее остается тождественным себе в особенном. Виды различаются не с всеобщим, а между собой, имея одну и ту же всеобщую основу.
2. Особенное как тотальность.
Особенное не просто содержит всеобщее, но и выражает его через свою определенность. Эта определенность образует сферу полноты, которую особенное должно исчерпать. Однако если брать особенное как простое различие, его полнота оказывается случайной, лишенной внутреннего единства.
Но особенность – не просто переходное различие, а принцип, тотальность в себе. Она определяется не извне, а через само всеобщее. Особенное – это всеобщее, которое само себя различает, полагая свою определенность.
3. Всеобщее и особенное как моменты понятия.
Всеобщее, определяя себя, становится особенным. Но это различение происходит не вовне, а внутри самого понятия:
– Всеобщее – неопределенная, чистая форма.
– Особенное – определенное всеобщее, его конкретное выражение.
Они не просто противопоставлены, а координированы: каждое есть особенное по отношению к другому. Их единство – в негативности, которая удерживает их как моменты единого понятия.
4. Критика формальных делений понятий.
Традиционная логика делит понятия на:
– Ясные и темные, отчетливые и неотчетливые – но это психологические, а не логические различия.
– Простые и сложные – но простота без внутренней определенности пуста, а сложность – внешнее соединение, не соответствующее природе понятия.
– Контрарные и контрадикторные – эти различия заимствованы из рефлексии (противоположность и противоречие), но в понятии они сняты в высшем единстве.
5. Рассудок и разум.
Рассудок фиксирует абстрактные определенности, придавая им видимость устойчивости. Но именно эта жесткость ведет к их диалектическому переходу в противоположность. Разум же схватывает понятие в его живой подвижности, где все моменты взаимосвязаны.
Попытки представить логические отношения математически (как у Эйлера или Ламберта) неудачны: понятия – не внешние знаки, а самодвижущиеся определения, которые нельзя выразить через линии или числа.
6. Итог: особенность как переход к единичности.
Особенность, будучи определенным всеобщим, снимает себя в единичности – третьем моменте понятия, где всеобщее и особенное достигают конкретного единства.
Ключевые тезисы:
– Особенное – не внешнее ограничение всеобщего, а его внутреннее развитие.
– Понятие есть тотальность, где различия (всеобщее, особенное, единичное) суть моменты одного движения.
– Формальная логика ошибочно закрепляет определения как неизменные, тогда как их истина – в диалектическом переходе.
– Живая природа понятия требует мыслить его как процесс, а не как набор застывших форм.
Проверочные вопросы по разделу «Особенное понятие».
1. Основные определения
1. Как Гегель определяет особенность в отличие от простой определенности бытия?
2. Почему особенность не является внешней границей понятия?
3. Как соотносятся всеобщее и особенное в понятии?
2. Диалектика всеобщего и особенного
4. Почему всеобщее, определяя себя, становится особенным?
5. Как особенное выражает всеобщее? Приведите пример (можно из науки или философии).
6. Почему различие между всеобщим и особенным – это не внешнее противопоставление, а внутренний момент понятия?
3. Критика формальной логики
7. В чем недостаток деления понятий на ясные/темные или простые/сложные с точки зрения Гегеля?
8. Почему контрарность и контрадикторность не исчерпывают природу понятия?
9. Как Гегель критикует попытки представить логические отношения через математические символы (как у Эйлера и Ламберта)?
4. Рассудок и разум
10. Чем рассудочное мышление отличается от разумного в понимании Гегеля?
11. Почему рассудок, фиксируя определения, одновременно подготавливает их диалектическое отрицание?
12. Как «абстрактная всеобщность» рассудка связана с конечностью понятий?
5. Переход к единичности
13. Почему особенность снимается в единичности?
14. Как три момента понятия (всеобщее, особенное, единичное) образуют тотальность?
6. Применение к реальности
15. Можете ли вы привести пример из науки, истории или искусства, где проявляется диалектика всеобщего и особенного?
16. Как гегелевское понимание особенности отличается от традиционного (например, в формальной логике)?
Эти вопросы помогут проверить:
– Понимание ключевых терминов (особенность, всеобщее, имманентный момент).
– Умение видеть диалектику в движении понятий.
– Критическое осмысление формально-логических подходов.
– Способность применять гегелевскую логику к конкретным примерам.
C. Единичное.
Единичность, как выяснилось, уже положена через особенность; последняя есть определенная всеобщность, следовательно, относящаяся к себе определенность, определенное определенное.
1. Прежде всего, единичность является, таким образом, как рефлексия понятия из его определенности в себя самое. Она есть опосредствование его через себя самого, поскольку его инобытие снова сделалось другим, благодаря чему понятие восстановлено как равное себе, но в определении абсолютной отрицательности.
Отрицательное во всеобщем, благодаря которому оно есть особенное, ранее было определено как двойственная видимость: поскольку оно есть видимость внутрь, особенное остается всеобщим; через видимость вовне оно есть определенное. Возвращение этой стороны во всеобщее двояко: либо через абстракцию, которая отбрасывает его и восходит к более высокой и высшей роду, либо через единичность, к которой всеобщее в самой определенности нисходит.
Здесь отходит боковой путь, на котором абстракция сходит с пути понятия и оставляет истину. Ее высшее и наивысшее всеобщее, к которому она возвышается, есть лишь все более опустошающаяся поверхность; презираемая ею единичность есть глубина, в которой понятие схватывает само себя и положено как понятие.
Всеобщность и особенность, с одной стороны, явились как моменты становления единичности. Но уже было показано, что они сами по себе суть тотальное понятие, следовательно, в единичности не переходят в другое, а лишь положено то, что они есть в себе и для себя.
Всеобщее есть для себя, потому что оно в себе есть абсолютное опосредствование, отношение к себе лишь как абсолютная отрицательность. Оно есть абстрактное всеобщее, поскольку это снятие есть внешнее действие и тем самым отбрасывание определенности. Эта отрицательность, правда, есть в абстрактном, но она остается вне его, как простое условие его; она есть сама абстракция, которая противостоит своему всеобщему, поэтому последнее не имеет в себе единичности и остается бессодержательным.
Жизнь, дух, Бог – так же, как и чистое понятие, абстракция не способна постичь именно потому, что она удерживает свои продукты, единичность, принцип индивидуальности и личности, и потому приходит лишь к безжизненным и бездуховным, бесцветным и бессодержательным всеобщностям.
Но единство понятия настолько нераздельно, что даже эти продукты абстракции, хотя они должны отбрасывать единичность, сами суть скорее единичные. Поскольку она возвышает конкретное во всеобщность, но всеобщее схватывает лишь как определенную всеобщность, то это и есть единичность, которая оказалась относящейся к себе определенностью.
Абстракция, таким образом, есть разделение конкретного и обособление его определений; через нее схватываются лишь отдельные свойства или моменты; ибо ее продукт должен содержать то, что она сама есть.
Однако различие этой единичности ее продуктов и единичности понятия состоит в том, что в первых единичное как содержание и всеобщее как форма различны между собой – потому что именно первое не есть абсолютная форма, не есть само понятие, или последнее не есть тотальность формы.
Но более близкое рассмотрение показывает, что абстрактное само есть единство единичного содержания и абстрактной всеобщности, следовательно, конкретное, противоположное тому, чем оно хочет быть.
Особенное по той же причине, что оно есть лишь определенное всеобщее, есть также единичное, и наоборот, поскольку единичное есть определенное всеобщее, оно столь же есть особенное.
Если держаться этой абстрактной определенности, то понятие имеет три особых определения: всеобщее, особенное и единичное; тогда как ранее только всеобщее и особенное указывались как виды особенного.
Поскольку единичность есть возвращение понятия как отрицательного в себя, то это возвращение само может быть поставлено абстракцией, которая в нем действительно снята, как безразличный момент рядом с другими и сосчитано.
Если единичность приводится как одна из особенных определений понятия, то особенность есть тотальность, которая объемлет все в себе; как эта тотальность она есть конкретное их, или сама единичность.
Она есть конкретное, но также, как было замечено ранее, как определенная всеобщность; так она есть непосредственное единство, в котором ни один из этих моментов не положен как различенный или как определяющий, и в этой форме она составит середину формального умозаключения.
Само собой бросается в глаза, что каждое определение, сделанное в предыдущем изложении понятия, непосредственно растворялось и терялось в своем другом. Всякое различие смешивается в рассмотрении, которое должно было бы изолировать и удерживать его.
Только простое представление, для которого абстрагирование изолировало их, способно твердо удерживать всеобщее, особенное и единичное раздельно; так они исчислимы, и для дальнейшего различия оно держится за совершенно внешнее различие бытия – количество, которое нигде менее уместно, чем здесь.
В единичности положено это истинное отношение – нераздельность определений понятия; ибо как отрицание отрицания она содержит противоположность их и в то же время его в его основе или единстве; слияние каждого с другим.
Поскольку в этой рефлексии в себе и для себя есть всеобщность, она по существу есть отрицательность определений понятия не только так, что она была бы лишь третьим, отличным от них, но теперь положено, что положенность есть в-себе-и-для-себя-бытие; то есть что принадлежащие различию определения сами суть каждое тотальность.
Возвращение определенного понятия в себя состоит в том, что оно имеет определение быть в своей определенности целым понятием.
2. Однако единичность есть не только возвращение понятия в себя, но непосредственно его утрата. Через единичность, как оно в ней есть в себе, оно выходит вне себя и вступает в действительность.
Абстракция, которая как душа единичности есть отношение отрицательного к отрицательному, как показано, не есть нечто внешнее для всеобщего и особенного, но имманентна им, и они через нее суть конкретное, содержание, единичное.
Но единичность как эта отрицательность есть определенная определенность, различение как таковое; через эту рефлексию различия в себя оно становится устойчивым; определение особенного впервые осуществляется через единичность; ибо она есть та абстракция, которая теперь именно как единичность есть положенная абстракция.
Единичное, таким образом, как относящаяся к себе отрицательность, есть непосредственное тождество отрицательного с собой; оно есть для-себя-сущее. Или оно есть абстракция, которая определяет понятие по его идеальному моменту бытия как непосредственное.
Так, единичное есть качественное одно или это. Согласно этому качеству, оно, во-первых, есть отталкивание себя от себя, благодаря чему предполагаются многие другие единицы; во-вторых, оно есть теперь отрицательное отношение к этим предполагаемым другим, и единичное, таким образом, исключающее.
Всеобщность, отнесенная к этим единичным как безразличным единицам – а отнесена она должна быть, поскольку она есть момент понятия единичности – есть лишь их общее.
Если под всеобщим понимается то, что обще многим единичным, то исходят из их безразличного существования, и в определение понятия примешивается непосредственность бытия.
Самое низкое представление, которое можно иметь о всеобщем в его отношении к единичному, есть это внешнее отношение его как лишь общего.
Единичное, которое в сфере рефлексии существования есть это, не имеет исключающего отношения к другому единому, которое принадлежит качественному для-себя-бытию.
Это есть как в себя рефлектированное одно для себя без отталкивания; или отталкивание в этой рефлексии слито с абстракцией в одно и есть рефлектирующее опосредствование, которое так есть в нем, что оно есть положенная, указанная извне непосредственность.
Это есть; оно есть непосредственное; но оно есть это лишь постольку, поскольку оно демонстрируется. Демонстрирование есть рефлектирующее движение, которое собирает себя в себя и полагает непосредственность, но как внешнюю себе.
Единичное, правда, также есть это как восстановленное из опосредствования непосредственное; но оно не имеет его вне себя, оно само есть отталкивающее отделение, положенная абстракция, но в своем отделении само есть положительное отношение.
Это абстрагирование единичного как рефлексия различия в себя есть, во-первых, полагание различенных как самостоятельных, в себя рефлектированных. Они суть непосредственные; но далее, это разделение есть рефлексия вообще, явление одного в другом; так они стоят в существенном отношении.
Они, далее, не просто сущие единичные друг против друга; такая множественность принадлежит бытию; единичность, полагающая себя как определенная, полагает себя не во внешнем различии, а в различии понятия; она, следовательно, исключает всеобщее из себя, но так как это момент ее самой, то столь же существенно относится к нему.
Понятие как это отношение своих самостоятельных определений потеряло себя; ибо тогда оно уже не есть положенное единство их, и они не суть более как моменты, как его видимость, а как сущие в себе и для себя.
Как единичность, оно возвращается в определенности в себя; тем самым определенное само стало тотальностью. Его возвращение в себя есть поэтому абсолютное, первоначальное разделение себя, или как единичность оно положено как суждение.
О содержанииЕдиничность уже оказывается опосредована особенностью, которая представляет собой определённую всеобщность – то есть всеобщность, связанную с конкретным различием. Таким образом, особенность – это определённое определённое, то есть всеобщность, отнесённую к самой себе через свою специфику.
1. Единичность как возвращение понятия в себя
Единичность возникает как результат рефлексии понятия из своей определённости обратно в себя. Это движение опосредовано самим собой: понятие, проходя через своё инобытие (иное себе), восстанавливается в своей абсолютной отрицательности, то есть вновь становится равным себе, но уже в новом качестве.
– Отрицательное во всеобщем (то, что делает его особенным) ранее рассматривалось двояко:
– как видимость внутрь (особенное остаётся всеобщим),
– как видимость вовне (особенное становится определённым).
Возвращение к всеобщему возможно двумя путями:
1. Через абстракцию (отбрасывание определённости и движение к более высоким родам).
2. Через единичность (нисхождение всеобщего в конкретную определённость).
Абстракция, однако, уводит от истины: её высшие всеобщности становятся всё более пустыми, тогда как единичность – это глубина, в которой понятие обретает себя.



