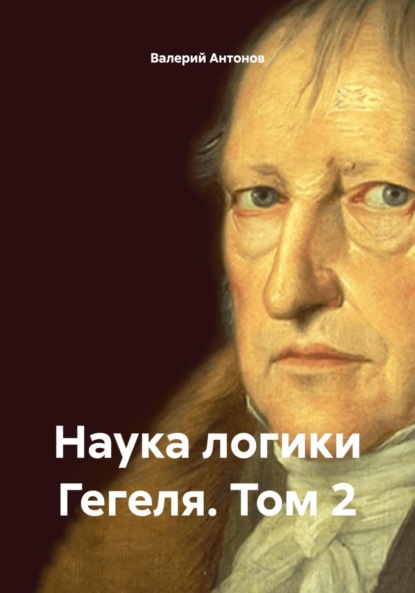
Полная версия:
Наука логики Гегеля. Том 2
Заключение и проверочные вопросы
Основные тезисы:
1. Понятие – не абстракция, а результат диалектики бытия и сущности.
2. Оно включает в себя момент свободы, преодолевая слепоту субстанции.
3. Его структура: всеобщее-особенное-единичное – отражает структуру реальности.
Вопросы для самопроверки:
1. Почему Гегель называет понятие «третьим» после бытия и сущности?
2. Как связаны субстанция и понятие? Почему понятие «свободнее» субстанции?
3. Чем гегелевское понятие отличается от формально-логического?
4. Как аналогия с «Я» помогает понять природу понятия?
5. В чём Гегель критикует Канта и Спинозу?
Совет: Не спешите – лучше глубоко осмыслить несколько страниц, чем механически прочитать десятки. Понятие раскрывается через диалектику, а не через дефиниции.
Деление.
Понятие на первый взгляд предстает как единство бытия и сущности. Сущность есть первое отрицание бытия, благодаря чему оно стало видимостью; понятие есть второе отрицание, или отрицание этого отрицания, – таким образом, восстановленное бытие, но как бесконечное опосредствование и негативность его в самом себе. – Поэтому бытие и сущность в понятии уже не обладают тем определением, в котором они суть бытие и сущность, но они и не находятся лишь в таком единстве, где каждое проявляется в другом. Понятие, следовательно, не различается на эти определения. Оно есть истина субстанциального отношения, в котором бытие и сущность достигают свою завершенную самостоятельность и определенность друг через друга.
Как истина субстанциальности обнаружилась субстанциальная тождественность, которая в такой же мере и есть лишь положенность. Положенность есть наличное бытие и различение; поэтому бытие-в-себе и для-себя достигло в понятии соответствующего и истинного наличного бытия, ибо эта положенность и есть само бытие-в-себе и для-себя. Эта положенность составляет различие понятия в нем самом; его различия, поскольку они непосредственно суть бытие-в-себе и для-себя, сами суть целое понятие; в своей определенности они всеобщи и тождественны со своим отрицанием.
Это и есть само понятие понятия. Но пока это лишь его понятие – или оно само есть лишь понятие. Поскольку оно есть бытие-в-себе и для-себя как положенность, или абсолютная субстанция, поскольку она раскрывает необходимость различенных субстанций как тождество, то эта тождественность должна сама себя полагать как то, что она есть. Моменты движения субстанциального отношения, благодаря которым понятие стало, и представленная этим реальность есть лишь переход к понятию; она еще не есть его собственная, из него происходящая определенность; она относилась к сфере необходимости, его же собственная определенность может быть лишь его свободной определенностью, наличным бытием, в котором он как тождественный с собой полагает свои моменты как понятия и через себя самого.
Итак, сначала понятие есть лишь в себе истина; поскольку оно есть лишь внутреннее, оно в такой же мере есть лишь внешнее. Оно есть сначала вообще непосредственное, и в этой форме его моменты имеют форму непосредственных, устойчивых определений. Оно выступает как определенное понятие, как сфера рассудка. Поскольку эта форма непосредственности есть наличное бытие, еще не соответствующее его природе (ибо оно есть свободное, относящееся лишь к самому себе), то это внешняя форма, в которой понятие может считаться не как сущее-в-себе и для-себя, а лишь как положенное или субъективное. Форма непосредственного понятия составляет точку зрения, согласно которой понятие есть субъективное мышление, внешняя рефлексия о вещи. Эта ступень составляет, таким образом, субъективность, или формальное понятие.
Его внешность проявляется в устойчивом бытии его определений, благодаря чему каждое выступает как изолированное, качественное, находящееся лишь во внешнем отношении к своему иному. Однако тождество понятия, которое как раз и есть внутреннее или субъективное существо этих определений, приводит их в диалектическое движение, через которое снимается их единичность и тем самым отделение понятия от вещи, и в качестве их истины возникает тотальность, которая и есть объективное понятие.
Во-вторых. Понятие в своей объективности есть сама вещь, сущая-в-себе и для-себя. Через свою необходимую дальнейшую определенность формальное понятие делает само себя вещью и тем самым теряет отношение субъективности; реальное понятие, вышедшее из своей внутренности и перешедшее в наличное бытие. – В этом тождестве с вещью оно, таким образом, обладает собственным и свободным наличным бытием. Но это пока еще непосредственная, еще не негативная свобода. Будучи единым с вещью, оно погружено в нее; его различия суть объективные существования, в которых оно само вновь есть внутреннее. Как душа объективного наличного бытия, оно должно придать себе форму субъективности, которую оно имело непосредственно как формальное понятие; так оно выступает в форме свободы, которой оно еще не имело в объективности, противопоставляется ей и делает в этом свое тождество с ней (которое оно имеет в себе и для себя как объективное понятие) также положенным.
В этом завершении, где оно в своей объективности обладает также формой свободы, адекватное понятие есть идея. Разум, который есть сфера идеи, есть сама раскрывшая себя истина, в которой понятие имеет абсолютно соответствующую ему реализацию и постольку свободно, поскольку оно познает эту свою объективную реальность в своей субъективности, а свою субъективность – в ней.
Раздел «Деление» из «Науки логики» Гегеля (адаптированное изложение).1. Понятие как единство бытия и сущности
Понятие – это не просто абстрактная мысль, а результат развития бытия и сущности.
– Бытие – это первая, непосредственная ступень, простое утверждение существования.
– Сущность – отрицание бытия, его «внутренняя» сторона, скрытая за видимостью.
– Понятие – это отрицание отрицания (сущности), возвращение к бытию, но уже не к простому, а к опосредованному, наполненному смыслом.
В понятии бытие и сущность не просто связаны, а полностью преодолены как отдельные моменты: они становятся моментами единого целого.
2. Понятие как истина субстанции
Субстанция (устойчивая основа реальности) раскрывается в понятии как тождество, которое одновременно есть положенность (т. е. не просто данность, а осознанное различение).
– Понятие включает в себя различия, но они не внешние, а внутренние, принадлежащие самому понятию.
– Эти различия – не просто части, а целые понятия сами по себе, поскольку они всеобщи и содержат в себе своё отрицание.
3. Понятие как субъективное и объективное
Поначалу понятие кажется чем-то внутренним, принадлежащим только мышлению (формальное, субъективное понятие).
– Здесь его определения кажутся изолированными, как в рассудочном мышлении.
– Но его природа – диалектическая: его моменты вступают в движение, преодолевают свою обособленность, и понятие раскрывается как объективное (как сама суть вещей).
Когда понятие становится объективным, оно перестаёт быть только мыслью и реализуется в вещах.
– Однако на этом этапе оно ещё слито с вещью, не обладает свободой.
– Чтобы стать идеей (высшей формой понятия), оно должно вернуться к себе, осознав себя в объективности и обретя свободу.
4. Идея как завершение понятия
Идея – это понятие, достигшее полного соответствия своей реализации.
– Здесь разум познаёт, что его субъективность и объективность – одно и то же.
– Это абсолютная истина, где мысль и бытие полностью совпадают.
Проверочные вопросы
1. Как соотносятся бытие, сущность и понятие у Гегеля?
2. Почему понятие – это «отрицание отрицания»?
3. Что означает, что понятие сначала субъективно, а затем становится объективным?
4. Как понятие превращается в идею?
5. Чем отличается формальное понятие от реального?
6. Почему Гегель говорит, что в идее понятие «свободно»?
Этот пересказ помогает ухватить основные моменты гегелевской логики, не углубляясь сразу в сложную терминологию.
Первый раздел. Субъективность.
Понятие есть сначала формальное, понятие в начале или как непосредственное. В непосредственном единстве его различие или положенность есть сначала само простое и лишь видимость, так что моменты различия непосредственно суть тотальность понятия и лишь понятие как таковое.
Во-вторых, однако, поскольку оно есть абсолютная отрицательность, оно разделяет себя и полагает себя как отрицательное или как иное себя самого; притом, поскольку оно есть сначала лишь непосредственное, это полагание или различение имеет определение, что моменты становятся безразличными друг к другу и каждый для себя; его единство в этом разделении есть лишь внешнее отношение. Так, как отношение себя как самостоятельно положенных и безразличных моментов, оно есть суждение.
В-третьих, суждение, правда, содержит единство понятия, утраченного в своих самостоятельных моментах, но оно не положено. Оно становится таковым через диалектическое движение суждения, которое через это становится умозаключением, – полностью положенным понятием; поскольку в умозаключении как моменты его как самостоятельные крайности, так и их опосредствующее единство положены.
Но поскольку непосредственно это единство само как объединяющая середина и моменты как самостоятельные крайности стоят сначала друг против друга, то это противоречивое отношение, имеющее место в формальном умозаключении, снимается, и полнота понятия переходит в единство тотальности, субъективность понятия – в его объективность.
Глава первая. Понятие.
Рассудком обычно выражается способность понятий вообще; он в этом отношении отличается от способности суждения и способности умозаключений как формального разума. Однако прежде всего он противопоставляется разуму; но в этом случае он означает не способность понятия вообще, а определенных понятий, причем господствует представление, будто понятие есть лишь нечто определенное. Если рассудок в этом значении отличается от формальной способности суждения и формального разума, то его следует принимать как способность единичного определенного понятия. Ибо суждение и умозаключение, или разум, сами, будучи формальными, суть лишь рассудочные, поскольку они стоят под формой абстрактной определенности понятия. Однако понятие здесь вообще не рассматривается как лишь абстрактно-определенное; поэтому рассудок отличается от разума лишь тем, что он есть только способность понятия вообще.
Это всеобщее понятие, которое теперь здесь следует рассмотреть, содержит три момента: всеобщность, особенность и единичность. Различие и определения, которые оно дает себе в различении, составляют ту сторону, которая ранее была названа положенностью. Поскольку это в понятии тождественно с бытием-в-себе и для-себя, то каждый из этих моментов есть столь же целое понятие, сколь и определенное понятие, и как определение понятия.
Сначала оно есть чистое понятие, или определение всеобщности. Но чистое или всеобщее понятие есть также лишь определенное, или особенное понятие, которое становится рядом с другими. Поскольку понятие есть тотальность, то есть в своей всеобщности или чисто тождественном отношении к себе самомý существенно есть определение и различение, оно имеет в себе самом меру, благодаря которой эта форма его тождества с собой, пронизывая все моменты и охватывая их в себе, столь же непосредственно определяет себя быть лишь всеобщим против различия моментов.
Во-вторых, понятие тем самым есть как это особенное или как определенное понятие, которое положено как отличное от других.
В-третьих, единичность есть понятие, отражающееся из различия в абсолютную отрицательность. Это есть в то же время момент, в котором оно перешло из своей тождественности в свое инобытие и становится суждением.
Адаптированое изложение.1. Понятие как формальное и непосредственное
Понятие изначально выступает как формальное, то есть как непосредственное понятие. В этом начальном состоянии его различия (моменты всеобщности, особенности и единичности) еще не развиты и существуют лишь как видимость, как простые оттенки внутри самого понятия. Здесь различия не обособлены, а самó понятие предстает как целостность, в которой каждый момент одновременно и часть, и вся тотальность понятия.
2. Понятие как отрицательность и переход в суждение
Однако понятие – это абсолютная отрицательность, то есть оно не остается в покое, а разделяет себя, полагая себя как свое собственное отрицание, как иное себя. Поскольку первоначально понятие было непосредственным, это различение приводит к тому, что его моменты (всеобщее, особенное, единичное) обретают видимость самостоятельности, становятся безразличными друг к другу. Их единство теперь лишь внешнее, формальное. Такое отношение понятия к самому себе, в котором его моменты кажутся независимыми, но все же связанными, называется суждением.
3. Суждение и переход в умозаключение.
Суждение содержит в себе единство понятия, но это единство утрачено в его обособленных моментах – оно еще не положено явно. Однако через диалектическое движение суждение развивается и переходит в умозаключение, где единство понятия полностью раскрывается. В умозаключении:
– Крайние термины (единичное и всеобщее) выступают как самостоятельные.
– Их связь (опосредствование) осуществляется через средний термин (особенное).
Но в формальном умозаключении это единство остается противоречивым: середина (особенное) и крайние термины (единичное и всеобщее) еще противостоят друг другу. Это противоречие снимается, и понятие переходит в тотальность, где его субъективность (внутренняя логическая структура) превращается в объективность (реализованную форму).
О природе рассудка и разума
Обычно рассудок понимается как способность оперировать определенными понятиями, в отличие от разума, который связывает их в суждения и умозаключения. Однако в строгом смысле:
– Рассудок – это способность удерживать понятия в их абстрактной определенности.
– Формальный разум (суждение и умозаключение) остается рассудочным, пока подчиняется жестким логическим формам.
Но в Науке логики понятие рассматривается не как застывшая форма, а как живое движение, включающее три момента:
1. Всеобщность – чистое тождество понятия с самим собой.
2. Особенность – его различение, выделение себя как особенногона фоне других понятий.
3. Единичность – возвращение в себя через отрицание различий, переход в суждение.
Каждый из этих моментов – не просто часть понятия, а само понятие в определенной форме. В своем развитии понятие:
– Сначала выступает как всеобщее, но тут же обнаруживает себя как особенное.
– Затем, через отрицание этого различия, приходит к единичности – моменту, где оно переходит в суждение и далее в умозаключение, раскрывая свою полную диалектическую природу.
Таким образом, понятие – не статичная категория, а саморазвивающийся процесс, ведущий от абстрактной всеобщности к конкретной тотальности.
A. Всеобщее понятие.
Чистое понятие есть абсолютно бесконечное, безусловное и свободное. Здесь, где начинается изложение, имеющее своим содержанием понятие, следует еще раз оглянуться на его генезис. Сущность возникла из бытия, и понятие – из сущности, следовательно, также из бытия. Но это возникновение имеет значение отталкивания от самого себя, так что возникшее есть скорее безусловное и первоначальное. Бытие в своем переходе в сущность стало видимостью или положенностью, а становление или переход в иное – полаганием, и, наоборот, полагание, или рефлексия сущности, сняло себя и восстановило себя как неположенное, как первоначальное бытие. Понятие есть проникновение этих моментов, так что качественное и первоначально-сущее есть лишь как полагание и лишь как возвращение-в-себя, и эта чистая рефлексия-в-себя есть просто становление-иным или определенность, которая, таким образом, есть бесконечная, относящаяся к себе определенность.
Понятие есть поэтому сначала абсолютное тождество с собой, которое есть лишь как отрицание отрицания или как бесконечное единство отрицательности с самой собой. Это чистое отношение понятия к себе, которое есть таковое лишь как полагающее себя через отрицательность, есть всеобщность понятия.
Всеобщность, будучи наипростейшим определением, кажется неспособной к объяснению; ибо объяснение должно вступать в определения и различения и высказывать их о своем предмете, но простое этим скорее изменяется, чем объясняется. Однако именно природа всеобщего быть таким простым, которое через абсолютную отрицательность содержит в себе наивысшее различие и определенность. Бытие есть простое как непосредственное; поэтому оно есть лишь нечто мыслимое, и о нем нельзя сказать, что оно есть; оно, следовательно, непосредственно едино со своим иным – небытием. Именно это есть его понятие – быть таким простым, которое непосредственно исчезает в своей противоположности; оно есть становление. Всеобщее же, напротив, есть простое, которое столь же богато в себе самом; потому что оно есть понятие.
Оно есть, следовательно, во-первых, простое отношение к себе самому; оно есть лишь в себе. Но это тождество есть, во-вторых, в себе абсолютное опосредствование, но не нечто опосредствованное. О всеобщем, которое есть опосредствованное, а именно абстрактное, противопоставленное особенному и единичному, следует говорить лишь при определенном понятии. – Но уже абстрактное содержит то, что для его сохранения требуется опустить другие определения конкретного. Эти определения как определения вообще суть отрицания; точно так же опущение их есть отрицание. Таким образом, в абстрактном также встречается отрицание отрицания. Однако это двойное отрицание представляется так, как будто оно внешне ему, и как опущенные дальнейшие свойства конкретного отличны от удержанного, которое есть содержание абстрактного, так и эта операция опущения остального и удержания одного происходит вне его. К такой внешности всеобщее по отношению к этому движению еще не определилось; оно есть еще само в себе то абсолютное опосредствование, которое есть именно отрицание отрицания или абсолютная отрицательность.
Согласно этой первоначальной единственности, во-первых, первое отрицание или определение не есть ограничение для всеобщего, но оно сохраняется в нем и есть положительно тождественное с собой. Категории бытия, как понятия, были по существу этими тождествами определений с самими собой в их ограничении или их инобытии; но это тождество было лишь в себе понятием; оно еще не было проявлено. Поэтому качественное определение как таковое переходило в своем ином и имело в качестве своей истины определение, отличное от него. Всеобщее же, даже если оно полагает себя в определение, остается в нем тем, что оно есть. Оно есть душа конкретного, в котором оно пребывает, беспрепятственно и равное себе в его многообразии и различии. Оно не вовлекается в становление, но продолжается незамутненно через него и обладает силой неизменного, бессмертного самосохранения.
Равным образом, однако, оно не только кажется в своем ином, как рефлексионное определение. Это последнее, как относительное, относится не только к себе, но есть отношение. Оно проявляется в своем ином; но лишь кажется сначала в нем, и явление каждого в другом или их взаимное определение при их самостоятельности имеет форму внешнего действия. – Всеобщее же положено как сущность своего определения, собственная положительная природа его. Ибо определение, составляющее его отрицательное, в понятии есть просто как положенность или, по существу, лишь в то же время как отрицание отрицания, и оно есть лишь как это тождество отрицательного с собой, которое есть всеобщее. Оно есть в этом смысле также субстанция своих определений; но так, что то, что для субстанции как таковой было случайным, есть собственное опосредствование понятия с самим собой, его собственная имманентная рефлексия. Это опосредствование, которое сначала возвышает случайное до необходимости, есть, однако, проявленное отношение; понятие есть не бездна бесформенной субстанции или необходимость как внутреннее тождество различных и ограничивающих друг друга вещей или состояний, но как абсолютная отрицательность оно есть формирующее и творящее, и поскольку определение есть не как ограничение, но просто столь же как снятое, как положенность, то видимость есть явление как тождественного.
Всеобщее есть, следовательно, свободная сила; оно есть само себя и переступает свое иное; но не как нечто насильственное, а, напротив, как пребывающее в нем спокойным и у себя. Как оно было названо свободной силой, так оно могло бы быть названо и свободной любовью и безграничным блаженством, ибо оно относится к отличному лишь как к себе самому, в нем оно возвращено к себе.
Таким образом, только что была упомянута определенность, хотя понятие, будучи пока лишь как всеобщее и лишь тождественное с собой, еще не продвинулось к этому. Однако о всеобщем нельзя говорить без определенности, которая ближе есть особенность и единичность; ибо оно содержит их в своей абсолютной отрицательности в себе и для себя; определенность, следовательно, не привносится извне, когда о ней говорят применительно к всеобщему. Как отрицательность вообще, или как первое, непосредственное отрицание, оно имеет на себе определенность вообще как особенность; как второе, как отрицание отрицания, оно есть абсолютная определенность, или единичность и конкретность. – Всеобщее есть, таким образом, тотальность понятия, оно есть конкретное, оно не есть пустое, но, напротив, имеет через свое понятие содержание – содержание, в котором оно не только сохраняется, но которое есть его собственное и имманентное. От содержания можно, конечно, абстрагироваться; но тогда получают не всеобщее понятия, а абстрактное, которое есть изолированный, несовершенный момент понятия и не имеет истины.
Ближе всеобщее раскрывается как эта тотальность. Поскольку оно имеет в себе определенность, то это есть не только первое отрицание, но и рефлексия его в себя. Взятое само по себе с этим первым отрицанием, оно есть особенное, как это будет сейчас рассмотрено; но в этой определенности оно по существу еще всеобщее; эта сторона должна быть здесь еще удержана. – Эта определенность, будучи в понятии, есть тотальная рефлексия, двойная видимость: с одной стороны, видимость вовне, рефлексия в иное; с другой стороны, видимость внутрь, рефлексия в себя. Это внешнее явление образует различие по отношению к иному; всеобщее имеет, таким образом, особенность, которая имеет свое разрешение в более высоком всеобщем. Поскольку оно теперь есть лишь относительно-всеобщее, оно не теряет своего характера всеобщего; оно сохраняется в своей определенности не только так, что в связи с ней оставалось бы безразличным к ней – тогда оно было бы лишь соединено с ней – но так, что оно есть то, что только что было названо явлением внутрь. Определенность как определенное понятие возвращена из внешности в себя; она есть собственный, имманентный характер, который становится существенным именно тем, что он принят во всеобщность и пронизан ею, одинакового объема, тождественный с ней, он также пронизывает ее; это есть характер, принадлежащий роду, как определенность, не отделенная от всеобщего. Он есть, таким образом, не идущая вовне граница, но положительное, поскольку он через всеобщность стоит в свободном отношении к себе самому. Также и определенное понятие остается, таким образом, в себе бесконечно свободным понятием.
Что касается другой стороны, согласно которой род ограничен своим определенным характером, то было замечено, что он как низший род имеет свое разрешение в более высоком всеобщем. Это последнее может также рассматриваться как род, но как более абстрактный, однако оно всегда принадлежит лишь стороне определенного понятия, идущей вовне. Истинно более высокое всеобщее есть то, в чем эта идущая вовне сторона возвращена внутрь, второе отрицание, в котором определенность есть просто как положенное или как видимость. Жизнь, Я, дух, абсолютное понятие суть всеобщие не только как высшие роды, но конкретные, определения которых суть также не только виды или низшие роды, но которые в своей реальности суть просто наполненные собой и этим. Поскольку жизнь, Я, конечный дух суть, правда, лишь определенные понятия, то их абсолютное разрешение – в том всеобщем, которое должно быть схвачено как истинно абсолютное понятие, как идея бесконечного духа, чья положенность есть бесконечная, прозрачная реальность, в которой он созерцает свое творение и в нем себя самого.
Истинное, бесконечное всеобщее, которое непосредственно столь же есть особенность и единичность в себе, теперь должно быть ближе рассмотрено как особенность. Оно свободно определяет себя; его ограничение не есть переход, имеющий место лишь в сфере бытия; оно есть творческая сила как абсолютная отрицательность, относящаяся к себе самой. Оно как таковое есть различение в себе, и это есть определение, благодаря тому что различение едино со всеобщностью. Таким образом, оно есть полагание самих различий как всеобщих, относящихся к себе. Этим они становятся фиксированными, изолированными различиями. Изолированное существование конечного, которое ранее определялось как его для-себя-бытие, также как вещность, как субстанция, есть в своей истине всеобщность, которой бесконечное понятие облекает свои различия, – форма, которая есть именно одно из его различий. В этом состоит творчество понятия, которое можно постичь лишь в этом его глубочайшем внутреннем.



